Читать онлайн Ты и есть Крестьянин
- Автор: Nova Liprikon
- Жанр: Историческая литература, Историческая фантастика, Современная русская литература
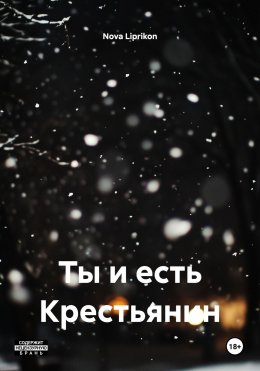
Книга Первая. Детство.
Темный, дымный чулан крестьянской избы пронизывает запах свежей соломы, пота и гаснущего очага. За стеной слышится ржание лошади да глухой топот копыт – отец вернулся с ночной вспашки, но, услышав крики жены, бросил соху в грязь и влетел в дом, обрызганный дождем. Мать, едва успевшая родить, дрожит от холода и слабости, а в руках у соседки-повитухи, бабы Марфы, синеет от мороза окровавленная пелена. Ты появляешься на свет в самую глухую ночь, когда ветер выл в щели, а в сенях мерзли корзины с прошлогодней репой. Первый твой крик заглушает скрип половиц – это отец, роняя топор, падает на колени у порога. «Мужик! Слава богу, мужик!» – шепчет он, но в голосе больше страха, чем радости: третий рот на прокорм, а в закроме – три меры овса да горсть соли.
Баба Марфа кладет тебя к матери на грудь, завернутого в рубаху деда, да ворчит: «Живучий. Вон как орет – весь дом слышит». В углу, на нарах, завернувшись в лохмотья, дрожит семилетняя сестра – вчера у нее прорезалась корь, и теперь она смотрит на тебя заплаканными глазами, будто уже знает: молока для двоих не хватит.
Отец поднимает голову в потолок и начинает перебирать имена:
Иван – в честь деда, что утонул в реке, не дотянув до жнив.
Федор – как у барина, чьи поля ты будешь пахать, если доживешь до поры.
Савва – в честь старшего брата, убитого в набеге татар.
Отец замирает, держа в руках топор, будто громом пораженный. Ты, младенец, вдруг затихаешь, будто и впрямь услышал имя, и твои мутные младенческие глаза, еще не видевшие солнца, упираются в его лицо – не блуждающим взглядом новорожденного, а *целясь*, как стрелок в ворону. Баба Марфа ахает, роняя пеленку в грязь: «Ох, не к добру… Не к добру! Савва вон как смотрит – душа-то в нем уже есть!» Мать, бледная от потери крови, шепчет сквозь стиснутые зубы: «Не надо… Не надо его так звать. Савва ушел в землю, пусть и имя уйдет…» Но отец, дрожащей рукой кладя топор у порога, бормочет: «Будет Савва. Савва родился. Савва и вырастет».
Сестра на нарах, кашляя в лохмоток, вдруг тянется к тебе пальцами, испачканными сажей: «Саввушка… Саввушка мой». Мать стонет, закрывая лицо руками – она помнит, как три года назад татары унесли старшего Савву живьем, чтобы выменять на мешок ячменя, и вернули лишь через месяц, с перебитыми ногами и без языка.
Ночь тянется долго. Ты спишь, завернутый в дедову рубаху, а за стеной отец шепчет жене: «Пусть будет крепок, как тот Савва. Пусть не сломается». Но в голосе нет уверенности – только надежда, тонкая, как нить от паука. Утром баба Марфа уйдет, бросив на порог горсть соли «от сглаза», а мать решит кормить тебя козьим молоком, чтобы сестре хватило грудного.
Ты сосешь козье молоко, но на третий день мать замечает, как схуднула коза, решает попросить помощи у соседке выкормить тебя.
Мать, едва встав с нар, бредет через двор к избе соседки Акулины – вдовой с двумя мальчуганами, чья корова *еще* не сохла от прошлогодней засухи. Ты, Савва, лежишь у нее на руках, завернутый в лохмотья, а она стучит костяшками пальцев в дверь, дрожа от холода: Акулина славится тем, что *никому* не отказывает, но и долгов не прощает.
Дверь скрипит. На пороге стоит Акулина – в заплатах до пят, с лицом, испещренным морщинами, как вспаханное поле. За спиной у нее плачут дети, а на столе – краюха черного хлеба на четверых. «Чего надобно?» – спрашивает она, не выпуская косяка из рук. Мать шепчет про козу, про молоко, про то, что сестра *еще* не встала с нар… Акулина молчит, глядя на тебя. Потом хватает мать за локоть, втягивает в избу и *тыкает* пальцем в твои глаза: «Он… *смотрит*, как тот, что у татар умер. Не к добру. Но…» – она вздыхает, оглядывая пустые миски детей – «…молоко дам. Только не даром. Твой муж пахал мои грядки неделю – *без спора*. И если этот…» – она кивает на тебя – «…вырастет – отдашь его мне в работники до 16 лет. Савва, говоришь? Пусть Саввой и работает».











