Читать онлайн Сквозняки времени. Книга первая. Перелом эпох
- Автор: Семён Хохлов
- Жанр: Остросюжетные любовные романы, Исторические приключения, Мистика
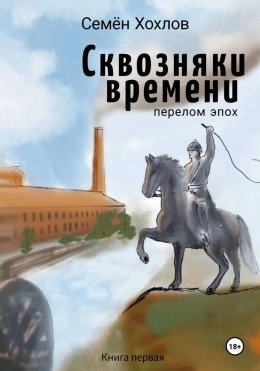
Посвящается моим родителям, привившим мне любовь к литературе и истории
Пролог
Старуха вышла из леса и сразу поняла, что в деревне творится неладное. Ее дом полыхал огромным костром, выкидывая высоко вверх клубы густого черного дыма. Без всякой жалости бушующий огонь поедал сейчас все ее сокровища – редкие травы и коренья, которые она без устали собирала в самых дальних уголках леса. Некоторые из них были еще неведомы людям, и травница рвала их, просто чувствуя таящуюся в них силу. Эти травы могли спасти много людских жизней, снять самую острую боль и излечить почти безнадежно хворую скотину, но чья-то злобная рука пустила ей под крышу «красного петуха».
Вскоре она разглядела поджегших дом мужиков. Они бежали в ее сторону с искаженными от злобы лицами. В первом из бегущих травница узнала неудачливого жениха ее дочери, в руках у него поблескивал обнаженный сабельный клинок.
Старуха уже хотела развернуться и шагнуть в лес, всегда служивший источником ее сил. Она знала, что стоит ей только это сделать, как ветки деревьев сомкнутся за ее спиной и сделают невидимой для преследователей, которые будут носиться по лабиринту лесных тропинок, видя впереди какой-то смутный силуэт, и только спустя полчаса поймут, что петляют, как зайцы, вокруг одного и того же места или, наоборот, вдруг окажутся за много верст отсюда и будут брести полдня, чтобы выйти на дорогу.
Однако в стороне раздался мальчишеский крик, и травница увидела, что по опушке к ней спешит ее внук, он был лишь немного ближе, чем бежавшие на нее мужики.
Старуха поняла, что не может просто уйти и бросить мальчика. С удивительной ясностью она вдруг увидала, что произойдет на этой поляне через несколько мгновений, а вслед за этим осознала все намного верст и лет вокруг и вперед. Увидала не ее, а другой большой горящий дом, окруженный вот такими же, как эти, озлобленными мужиками. Увидела стоящую на опушке леса молодую женщину, смотрящую широко распахнутыми глазами на пожар и на сгорающих в огне людей. Девушка повернула голову и посмотрела на травницу. Посмотрела точно так же через года и расстояния.
Выползшая из-за горы туча стала закрывать солнце. Громыхнул гром, и налетевший ветер разом перемешал солнечное тепло и холод грозы, окатив всех первыми крупными каплями дождя. Повернувшись в сторону бегущих мужиков, старуха забормотала:
– Сумрак спускается с каменных гор,
На брата брат поднимает топор.
Дико кружатся и свищут ветра,
Ужасом полнится наша земля!
Змеи речные, услышьте меня!
Вороны, совы, слетайтесь сюда!
Звери лесные, мой слышьте наказ!
Древа чащобные, знайте мой сказ!
– …Если на землю прольется здесь кровь,
Если невинную жизнь кто прервет,
От наказанья они не уйдут,
Внуки за дедов ответ понесут!
Казалось, что слова травницы шли уже не от нее: они словно вплелись в рокот грома и шум бури, проникали внутрь и кололи холодными иглами под самое сердце. Подбежавший мальчик обнял бабушку, словно бы стараясь спрятать ее от страшных, бегущих на них с саблями мужиков.
– …Тверже железа пусть станут слова,
Помнят их ветер, огонь и вода!!!
Подскочивший первым мужик схватил мальчика за рубаху и, ударив саблей по голове, свалил его на землю. Жуткий блеск клинка еще несколько раз мелькнул в воздухе, удар молнии зажег стоящую поблизости сосну, людей на поляне сек ливень, из стороны в сторону шарахался ветер. Пространство, казалось, лопалось под ударами трех стихий и из образующихся трещин вытекали слова знахарки:
– …Смутные годы вернутся не раз,
Через столетья прорвется мой глас,
Но явится дева душою чиста
И остановит кружение зла…
Глава 1. 1995-й
Пригородный электропоезд подходил к станции, постепенно сбавляя ход. В холодном тамбуре толклись несколько пассажиров и проводница. Стоянка поезда здесь была трехминутной, и высадка пассажиров напоминала операцию десантирования.
На стрелке перед станцией вагон шарахнулся в сторону, и Света чуть не упала на стоящего рядом парня, по всей видимости, тоже студента. Вообще среди пассажиров этого поезда чаще всего можно было встретить студентов и пенсионеров. Те и другие относились к категории льготников, и билет им полагался за полцены. Поезд Челябинск – Кропачево хоть и считался пригородным, но преодолевал почти триста километров, в оборудованных креслами вагонах имелись туалет и купе проводников, властительницы которых проверяли билеты при посадке и торговали чаем и газетами во время следования по маршруту.
В темноте за окном пробежало несколько фонарей, и состав, заскрипев тормозами, остановился. Проводница открыла дверь и приподняла платформу подножки, в тамбур тут же ворвался февраль и облизнул стены белыми язычками бурана.
Пассажиры быстро повыскакивали на перрон, ночь обещала быть морозной, градусов двадцать пять, не меньше. Было видно, как из соседних вагонов по два-три человека выходили пассажиры, сразу поднимая воротники или натягивая капюшоны пуховиков-алясок. После шести с лишним часов в поезде мороз бодрил и заставлял пританцовывать. Поезд дал короткий свисток и начал быстро разгоняться, до конечной станции ему оставалось еще километров пятьдесят.
Когда промелькнул последний вагон с треугольником красных фонарей на торце, приехавшие пошли через пути в сторону небольшой одноэтажной станции, над выходом которой светилось название «Вязовая». На площадке перед ней стояли несколько машин и старенький автобус с работающим двигателем.
– Такси! Такси недорого! – водители машин начали наперебой предлагать свои услуги приехавшим. Двое попробовали было спросить цену, но, услышав ответ, махнули руками и двинулись вместе с остальными к автобусу, на котором им предстояло доехать до своих городков – Юрюзани и Катав-Ивановска.
Маршрут по железной дороге был не единственным: из Челябинска до Катав-Ивановска можно было доехать прямым автобусом за пять часов. Но на автобусе не действовали студенческие льготы, и такая поездка обходилась втрое дороже. Студенчество Светланы длилось уже пятый год, подходя к логическому концу, и за эти годы она почти привыкла добираться до родного города вот так по-цыгански, с пересадками.
Больше часа старенький «скотовоз» пробирался между горами, рыча на подъемах и потом неожиданно быстро ныряя под гору вниз, подслеповато пробивая пургу светом фар. Шел второй час ночи, когда Светлана вышла на своей остановке. В это позднее время район был оставлен без освещения: город экономил на электричестве, только в нескольких окнах горел неровный синеватый свет, видимо, полуночники смотрели телевизоры.
После большого и грязного Челябинска снег под ногами казался особенно чистым и от этого скрипучим. Вот и родной подъезд со знакомым с детства запахом: какая-то смесь борща, сигаретного дыма и теплого уюта. Третий этаж, дверь направо. Чтобы не будить всех, Света не стала нажимать кнопку звонка, а вместо этого тихонько постучала. С полминуты девушка вслушивалась в тишину, потом из-за двери раздался тревожный мамин голос:
– Кто там?
– Мам, это я!
Быстрые повороты ключа – и Света в маминых объятиях, особенно теплых после морозной улицы.
– Светик! Родная моя! Я прям как чувствовала, что ты приедешь, спать не ложилась! – Лидия Васильевна даже немножко подпрыгивала от счастья.
Из зала в трико и майке появился отец и обнял дочь.
– Ну вот и Светланка! А мать тебя заждалась, все ворчала, что ты на Новый год не приехала! – он повернулся в сторону другой комнаты и громко сказал. – Таня! Сеструха приехала!
– Тише ты! – шикнула на него мама. – Пусть спит, у нее завтра важная контрольная! – в ней проснулась учительница. – Доча, ты голодная? Суп погреть?
– Нет, мам, только чаю!
– Валера, – обратилась она к папе, – поставишь чайник?
– Уже бегу! – ответил папа и, щелкнув выключателем, прошел на кухню.
Света прошла в ванную и сунула руки под струю теплой воды. Пальцы с мороза никак не хотели слушаться. От всех предметов к девушке потянулись знакомые запахи детства, окутывая домашним теплом. Впрочем, студентка уже знала, что домашний уют через недельку-другую пребывания в родительской квартире начнет ее тяготить, и потихоньку девушка затоскует по свободе гораздо менее обустроенной комнатки в общежитии. Света мысленно одернула себя: не в этот раз, сейчас она приехала домой не отдыхать, а работать.
Когда девушка вошла на кухню, то убедилась, что ее фраза «Только чай!», как и следовало ожидать, была воспринята весьма условно: на столе уже стояли бутерброды с сыром, печенье и два вида варенья.
– Ты на электричке? Почему не предупредила, что едешь? – с напускной строгостью спросила мама. – Мы бы тебя встретили!
– Я до последнего часа не знала, получится сегодня выехать или нет, – оправдалась Света.
Она знала, что у папиного видавшего виды ВАЗ-2103 нет нормальной зимней резины, поэтому машина зимой стоит на приколе в холодном гараже. Сообщи она родителям о своем приезде, так они, чего доброго, рискнули бы ехать за ней на станцию, а это почти тридцать пять километров по дорогам, имеющим в это время года на Урале форму ледяного корыта, в котором с трудом разъезжаются встречные машины.
– В поезде холодно было? – спросила мама, заметившая бледность рук дочери.
– Да нет! Немножко замерзла, пока от остановки шла. Там такая метель!
– Да уж, не май-месяц! – весело вставил папа. – Ты к нам надолго?
Было заметно, что мама даже перестала дышать при этом вопросе.
– Пока материала к диплому не наберу в нашем музее. Так что на два-три месяца! – ответила Света.
– Ух ты-ы! А-а! – оба родителя радостно выдохнули. Мама опять потянулась обниматься.
– Только чур не занянчивать меня и не закармливать, а то я от вас сбегу!
– Слушаемся! – бодро ответила мама. – Пойду тебе постелю, пока вы тут чай пьете.
Мама вышла. Было слышно, как она выдвигает ящики комода, достает чистое постельное белье. Папа с минуту молча разглядывал дочь, явно любуясь. Его старшенькая многое взяла от жены: та же фигура, те же внимательные глаза в очках; но многое пришло и со стороны отца: Светины волосы имели русый оттенок, как у тети и бабушки. Форма бровей и жесты тоже были его. Эх, наверное, уже много парней успело посохнуть по его дочери. Он прервал свои размышления и спросил:
– Ну а тему диплома тебе уже утвердили?
– Да, «Восстание Емельяна Пугачева в горно-заводской зоне Челябинской области».
– Ого! – удивился отец. – А почему не про Великую Отечественную или не про Гражданскую? Сама такую тему выбрала?
– Не совсем, это Ольга Павловна, мой руководитель. Она целую серию похожих тем раздала студентам из разных городов. Говорит, что там очень много сложных невыясненных моментов, которые заминались в советский период.
– Да уж! – поддержал папа. – Как говорится, мы живем в стране с непредсказуемым прошлым! Ты как, не пожалела, что пошла на историка учиться?
– Чего жалеть? Раз начала – надо доучиваться!
Глава 2. 1915-й
Антон остановился на краю поляны и неспеша обвел ее глазами, стараясь запомнить до мелочей. Травы стояли высокие и сочные: как на заказ весь июнь дожди сменялись ведрышком, напитывая все зеленое силой. Уже после солнцеворота девятого июня, когда миновали самые короткие в году ночи, хотелось начать косьбу, но делать этого было нельзя, потому что трава еще не осеменилась. За тысячелетнюю историю Руси в крестьянстве выработались законы, нарушение которых считалось тяжким грехом. Одним из таких грехов против земли являлся ранний покос. Если срубить траву слишком рано, не дав ей уронить семена в почву, то оскудеет земля и перестанет кормить живущих на ней людей. Наконец настал Петров день, заведенный издревле предел, после которого косьба переставала быть запретной.
Гнедых еще раз осмотрел поляну, пытаясь запомнить ее нескошенной, чтобы потом сравнить с тем видом, что будет после уборки. Ему вспомнился фотограф, что приезжал к ним в город каждый год. Многие заводчане наряжались всем семейством и шли к нему, чтобы сделать групповой портрет. Дело это было недешевым, и многие откладывали на фотографию деньги по несколько месяцев, зато в домах на самых видных местах стали появляться семейные портреты. «Живете не хуже князей», – любили шутить гости, рассматривая эти рамки. Антон усмехнулся: вот бы позвать фотографа, чтобы запечатлел поляну до уборки и после! Наверное, многие из знакомых покатились бы со смеху, узнав о таком желании слесаря, но Антон Гнедых мог бы любоваться фотографией поляны часами.
Он снял косу с плеча и опустил перед собой так, чтобы острый кончик воткнулся в землю, а пятка косы смотрела в небо – теперь со стороны коса напоминала треугольник. Достав из кармана небольшой брусок точильного камня, Антон поплевал на две противоположные грани и начал быстро проводить бруском то по внутренней, то по внешней стороне лезвия, постепенно спускаясь от пятки к носу. Затем Антон выдернул косу из земли, завел за правое плечо и поставил на окосье. Теперь, когда серп лезвия торчал из-за его плеча, нос косы был перед самыми глазами и можно было наточить и его.
При заточке брусок и коса выдавали звонкие ритмичные звуки, разносящиеся далеко по округе. Похожие ответные звуки неслись сейчас со всех окрестных гор, на полянах которых косари готовились к работе. Встав сегодня затемно, Антон десять верст шел до своего покоса, расположенного за Фарафонтовым мостом, и в темноте летней ночи видел многих таких же, как он, покосников, группами и поодиночке идущих и едущих на телегах на свои паи. Считалось, что слепни и мошкара меньше летят на светлую одежду, поэтому казалось, что люди одеты по-праздничному – в длинные белые рубахи и длинные штаны.
Перед началом работы полагалось прочесть молитву или хотя бы попросить Божьего благословения, но Антон, в отличие от деда и отца, верующим себя не считал, поэтому, просто выдохнув: «Коси коса, пока роса!», пошел вперед. Поначалу он чувствовал, что тело за год забыло движения, отчего первые действия получались какими-то резкими, однако с каждым шагом вспоминалась былая сноровка, и коса быстро летала вправо-влево, вправо-влево.
При каждом движении влево лезвие косы описывало большую дугу и подрезало траву, причем все травинки ложились на землю верхушками в правую сторону, особенно красиво при этом смотрелись полевые цветы. При следующем движении влево лезвие косы срезало новые травинки, а пятка подгребала срезанные в предыдущий раз в ряд. Дойдя до противоположного края поляны, Антон вернулся назад и пошел косить второй ряд. После каждого второго ряда он подтачивал косу, а пройдя семь-восемь рядов, устраивал небольшой перекур.
Солнце поднималось все выше, становилось все жарче, и к комариному звону стал добавляться тяжелый гул слепней. Похожие на огромных мух, они кружили вокруг разопревшего в тяжелой работе тела. Улучив подходящий момент, слепни садились на обтянутые участки одежды и больно кусали прямо через ткань. В такие мгновения приходилось прерываться и лупить по кровососам руками. На место поверженных врагов тут же заступали другие. Антон собирался прервать работу на самые жаркие дневные часы, поэтому он то и дело посматривал в сторону дороги, по которой сынишка должен был принести еду к обеду.
Завершая очередной ряд, Гнедых увидел, как за кустами, по которым проходила граница его поляны, работает сосед. Он и раньше уже чуял его по звукам точила и по ржанью соседской кобылы в недалеком леске. У самого Антона семья была безлошадной, и сено с покоса он вывозил обычно ближе к зиме, когда можно было недорого нанять кого-нибудь из соседей или родственников с лошадью.
– Бог в помощь, Антон Данилович! – сосед стоял у куста с косой в руке.
– Благодарствую, Алексей Антипович!
Антон докосил ряд и подошел к кусту. Две мужские ладони встретились в крепком рукопожатии. Алексей Куницын был на полголовы повыше Антона, да и в плечах был пошире. Несмотря на пятый десяток, в темных волосах на голове и в аккуратных усах еще не было видно ни одного седого волоса. Ворот рубахи соседа был широко распахнут, от волосатой груди шибало крепким мужским потом, что привлекало целую тучу мух, комаров и слепней. Однако казалось, что Алексей Антипович не обращает на них никакого внимания, как часто бывает с охотниками и людьми леса.
Пожалуй, Куницына можно было отнести к заводскому начальству, поскольку он был старшим мастером соседнего с Антоновым цеха. На эту должность Антипович выбился из рабочих, однако Антон знал, что мастеровые в цеху его недолюбливают, потому как старший мастер со своего брата рабочего драл три шкуры, требуя такого качества работы, которое многим казалось излишним.
Присев под кустом в тенек, они свернули самокрутки и закурили. От едкого самосадного дыма мошкара отступила, давая возможность поговорить.
– Ты тоже сегодня первый день косишь? – спросил Алексей Антипович.
– Первый! Сам знаешь, начальство только вчера отпустило! – ответил Антон.
Каждый год заводское начальство давало рабочим шесть дней после Петрова дня для работы на покосе. Хотя жалование за эти дни не платили, мастеровые были рады возможности убрать сено на своем наделе или помочь родственникам.
– Один косить будешь? – снова спросил старший мастер.
– Старший сын, как на грех, ногу на рыбалке об корягу поранил. Может, через день-другой подживет. А младшой – тот еще косу держать не научился!
– Вот и у меня пацан тоже еще до косы не дорос! – посетовал Алексей Антипович. – А девок я даже и не учил. С ночевой их с собой не возьмешь: того и гляди застудятся ночью. Вот уж как грести станем, так они и приедут, а завтра муж сестры обещал подсобить.
Антон увидел, как по дороге идет его младший сын. В кутерьме дел с вечера Татьяна не успела напечь хлеба, и они условились, что тормозок на покос принесет Андрейка. Гнедых встал, чтобы пойти навстречу сыну.
– Антон Данилович, я с собой литровочку прихватил. Чуть попозже отнесу ее в ручей, чтобы захолодела. Заглядывай вечером на огонек!
– Ну что же, загляну, коли приглашаешь! – пообещал Антон и пошел встречать сына.
Подойдя к краю поляны, где начинались свежескошенные ряды, Андрейка принялся их пересчитывать, делая длинные шаги от одной полоски травы к другой. Антон с улыбкой смотрел на арифметические потуги сына, который в этом году окончил второй класс начального земского училища. Школьная наука давалась сыну легко, особенно нравилась математика.
Полвека назад работал на Катавском заводе кузнец Матвей Больщиков, был он мужик с головой и стал понемногу откладывать рабочую деньгу. После указа Александра II об отмене крепостного права у мастеровых появилась возможность выбирать, где работать и чем заниматься. Накопив капиталец, Матвей ушел с завода и сделался купцом. Дела у бывшего кузнеца пошли в гору, и все три его сына тоже стали купцами, войдя в Уфимскую купеческую гильдию.
Матвей, однако, воспитал сыновей так, что они помнили, что их отец вышел из мастеровых. Один из его сыновей Василий Матвеевич Больщиков выделил средства на постройку двухэтажного здания для начального земского училища. Строившие здание каменщики с удивлением и гордостью рассказывали, что в классах не будет печей, вместо этого все здание оборудуется паровым отоплением. Такие дома только-только начинали возводить в столице и губернских городах, поэтому жители Катав-Ивановска очень гордились строившейся школой. Наконец год назад училище открыло свои двери, и в него сразу потянулись и те, кто пока был совсем неграмотным, и та ребятня, которая до этого ходила в церковно-приходскую школу.
Еще каких-нибудь двадцать лет назад большинство мастеровых относилось к грамотности своих детей как к чему-то не очень нужному. На завод мальчиков принимали с двенадцати лет, до этого возраста они могли помогать матерям по хозяйству, ходить за скотиной и работать в огороде. Отправляя ребенка на ежедневную учебу, семья лишалась дополнительных рабочих рук.
Но в стране год за годом происходили заметные изменения. Быстро начала расти сеть железных дорог, и в последнем десятилетии уходящего века через соседний Усть-Катав была проложена Самаро-Златоустовская «чугунка», потянувшаяся дальше к Владивостоку железной колеей Транссибирской магистрали. Главным изделием железоделательных заводов стали рельсы, и для их перевозки Катав-Ивановский завод соединили с Транссибом дополнительной железнодорожной веткой.
Мастеровые все чаще сталкивались в работе с разного рода приказчиками, и понемногу до них стало доходить, что владеющие грамотой люди могут выбиваться в жизни на более хлебные места. Еще одна польза от учебы проявилась во время русско-японской войны, когда осилившие грамотность солдаты смогли писать домой с далеких фронтов письма, в то время как их неграмотные товарищи были вынуждены прибегать к услугам более образованных сослуживцев для передачи привета родным.
Поэтому в семьях рабочих все чаще стали собирать своих отпрысков в школы, надеясь, что те со временем вместо тяжелой заводской работы у верстаков, станков и огнедышащих печей смогут занять места у конторских столов или чертежных досок.
Антон уже не раз крутился ночью на бессонной постели, размышляя о том, как бы пристроить своего младшего в реальное училище, после которого была открыта дорога для обучения на инженера. Но ближайшее реальное училище располагалось в Златоусте и было платным. К высшему образованию в Российской Империи допускались выпускники реальных училищ, гимназий и кадетских корпусов. Полностью бесплатным образование было только в кадетских корпусах, выпускники которых чаще всего шли по военной стезе. Обучение в гимназии было самым дорогим, зато гимназисты имели право поступать в любые университеты, обучение в которых, однако, было недешевым. Выпускники реальных училищ имели право держать экзамены на физико-математические факультеты университетов. У Антона даже сердце замирало от таких мыслей, но для этого требовались немалые деньги.
Сам Гнедых еще мальцом окончил церковно-приходскую школу, где местный попик обучил ребят читать по складам и кое-как считать. Но больше всего времени в этой учебе священник тратил на изучение молитв и Закона Божьего. С детских лет, с той самой скамьи в одном из помещений их большого двухэтажного храма, Антон стал задумываться, почему у одних есть все, а у других почти ничего и как это все терпит Бог? К тому моменту, когда он повзрослевшим подростком был принят помощником слесаря на завод, он уже твердо знал, что никакого Бога нет, а значит, неоткуда рабочему человеку ждать помощи, разве что от таких купцов, как Василий Больщиков.
– Ну как, комиссия довольна работой? – спросил Антон у сына.
– Двадцать девять рядов! – с восхищением сказал Андрейка.
– Сейчас мы с тобой тридцатый скосим!
Антон несколько раз взмахнул косой, чтобы закосить новый ряд, потом подозвал сына и поставил перед собой.
– Левой рукой держи окосье, правой берем рукоять! – стал объяснять он сыну. – Делаем взмах, всем корпусом надо поворачиваться! Шаг вперед! Взмах, шаг вперед! Лезвие должно прям над землей лететь, если траву высоко срезать, потом грести трудно будет. Взмах, шаг вперед!
Сделав несколько повторяющихся движений вместе с мальчиком, он отпустил инструмент.
– Теперь давай сам!
Андрейка попытался сделать самостоятельный взмах, но коварная коса не захотела двигаться параллельно земле и лезвие воткнулось в грунт.
– Пап, у меня не получается!
– Ничего, ничего! Сноровка сразу не приходит, ее нарабатывать надо! Моей косой трудно учиться, «пятерка» тяжеловата для тебя. Я, как с покосом управлюсь, тебе «четверку» настрою, и мы с тобой потренируемся на пустыре. Траву-то для нашей Буренки еще надо будет подкашивать до конца лета!
Размер кос традиционно измерялся в четвертях. Одна четверть аршина или одна пядь равнялась расстоянию между кончиками вытянутых в противоположные стороны большого и среднего пальцев руки. Такая мера длины была очень удобной в хозяйстве, поскольку не требовала никаких измерительных инструментов. Если лезвие косы имело длину в один аршин, то ее называли «четверкой», если пять четвертей – «пятеркой».
– Научишься косить, и будете вместе с братаном в следующем году мне пятки подрезать! – подбодрил сына Антон. – Как там, кстати, Петька?
– Попробовал с утра на ногу встать, но ему больно, поэтому пока по избе на одной ноге прыгает!
– Вот же нашел время ногу сбедить! – подасадовал Антон. – Ладно, Андрейка, пойдем обедать!
Они подошли к краю поляны, где находились остатки прошлогоднего шалаша. Антон размотал принесенный сыном тормозок с караваями хлеба, соленым салом, огурцами, вареными яйцами и картошкой. Пока Андрейка освобождал яйца от скорлупы, Антон порезал хлеб и сало, и они принялись перекусывать.
Запив нехитрый обед молоком, Андрейка обратился к отцу с просьбой, которую лелеял всю дорогу до покоса:
– Пап, а можно я с тобой тут в лесу ночевать останусь?
Несколько дней назад, приготовляясь к покосу, отец с матерью договорились, что косить вместе с отцом пойдет Петька. Но теперь, после неудачной Петькиной рыбалки, Андрейке захотелось занять его место и, как совсем взрослому, ночевать на покосе с отцом. Антон на минуту задумался, размышляя, как бы помягче отказать младшему сыну. Без навыка косьбы тот был не работник и мог помочь только в качестве кострового, но костровой был бы нужен, только если бы тут работала целая бригада.
– Андрейка, ночи холодные, а ты без теплой одежки!..
– Я могу домой за одеждой сбегать!
– Андрей, ну сам подумай, время ли сейчас туда-сюда бегать, двадцать верст – это не шутка! А кто матери по хозяйству поможет? Одной воды сколько надо: и для Буренки, и для огорода!
Мальчик повесил голову и чуть не плакал от обиды.
– Ты же сейчас дома за главного мужика, пока я на покосе! – продолжил убеждать Антон. – Я и тут сейчас на твою помощь рассчитываю, нужно побольше дров для костра запасти и балаган подправить, прошлогодний уже никуда не годится!
Услышав, что он вместе с отцом будет строить шалаш, Андрейка воспрял духом.
– А что нужно для балагана?
– Возьми топор и сходи наруби побольше лапника! Если сушняк увидишь, то неси его для костра!
Через несколько часов, когда новый балаган красовался хвойными стенами и рядом были заготовлены сухие ветки и сучья для костра, Антон отправил довольного сына в город, а сам направился на поляну, чтобы продолжить косьбу.
К вечеру, когда раскаленное солнце начало цепляться за верхушки деревьев, жара стала спадать. Вместе с жарой куда-то попрятались слепни, и косить стало легче. Антон проходил все новые и новые ряды, сам удивляясь тому, сколько удалось сделать за первый день.
Наконец, решив, что на сегодня хватит, Гнедых отнес косу к балагану и по крутой, еле угадываемой в густых зарослях тропинке спустился к протекающему в низинке ручью, чтобы умыться и набрать в котелок воды. У ручья, раздевшись по пояс, громко кряхтя и отдуваясь, ополаскивался Алексей Антипович.
Антон стянул с себя заскорузлую от пота рубаху и, став рядом с соседом, принялся горстями черпать и лить на себя воду. Ручей начинался в сотне саженей отсюда, и бьющая прямо из-под земли родниковая вода была ледяной. Она приятно обжигала натруженное за день тело и словно бы смывала верхнюю грубую коросту усталости, оставляя в мышцах приятное эхо дневного труда.
Ополоснувшись, Антон наскоро прополаскал и отжал рубаху. Натянув на себя мокрую льняную ткань, он увидел, как Алексей Антипович достает из ручья бутыль зеленого стекла.
– Антон Данилович, заглядывай начало покоса отметить! – призывно взболтнув бутылкой, сосед стал подниматься от ручья.
Гнедых вернулся к своему балагану и, захватив жестяную кружку, картошку, сало и хлеб, отправился вечеровать к Алексею Антиповичу.
В густеющем лесном сумраке под висящим на толстой сырой палке котелком уютно плясали язычки огня, быстро поедая сухие ветки тальника. Такой костер почти не давал углей и поэтому был непригоден для долгого обогрева, зато позволял быстро сварить кулеш или вскипятить воду для чая.
Покосники негромко стукнулись жестяными кружками, и от холодного, как слеза чистого первача по всему телу стало разливаться приятное тепло. Антон и Алексей захрустели огурцами. Несколько минут они молча, с аппетитом отработавших день мужчин закусывали хлебом и салом.
– Ну вот, слава Богу, и косить начали! – первым прервал молчание Алексей Антипович. – Травы в этом году добрые! Еще бы картошка уродилась, и тогда зимовать не страшно. Мы все хоть и на заводской работе, а все равно от природы зависим!
– У меня еще дед любил повторять, что наши мужики одиннадцать часов в день – рабочие, а остальное время – крестьяне! – согласился Антон.
– Оно, конечно, так, только у нас на Урале с чистого крестьянского труда сыт не будешь – земля не та! – Алексей Антипович достал кисет и стал неспеша вертеть самокрутку. – Я по молодости работал в Воронежской губернии, мать у меня из тех мест, вот там – земля, так земля, чернозем! Палку в землю воткни – и она прорастает!
– Ну и как у них сейчас там? Многих на войну забрали?
– Да! Двоюродный брат писал, что как в прошлом году царь мобилизацию объявил, то которые и сами просились. Говорит, что в деревнях да по хуторам людей много стало, а земли свободной нет, вот мужики и не знают, куда себя девать. В город ехать – ремесло надо какое-нибудь знать, на завод или фабрику кого попало, сам понимаешь, не берут! А тут война! Ну и мужички, кто помоложе да посмелее, и пошли! Племянник мой тоже пошел, деньги уже родителям присылал, они на них патефон купили!
– Да… – задумчиво произнес Антон. – А ведь с нашего завода мало кого взяли!
– Говорят, что царь военному министру велел в первую голову крестьян набирать, а мастеровых пока не трогать!
– Надолго ли это «пока»? – Антон тоже полез за кисетом. – Ты Артура Батыева видел?
– Две недели назад видел его пьяного на базаре, на костылях еле шкандыбает. Мужики говорили, что он какие-то жуткие вещи рассказывает, они их батыевыми сказками называют!
– Истории он и вправду невеселые рассказывает, но вралем Артур раньше никогда не был, и я ему верю! – Антон потянул из костра тлеющую с одного конца веточку и прикурил от нее.
– Он вроде в вашем цеху раньше работал? – уточнил Алексей Антипович.
– В нашем, – подтвердил Антон. – Сначала, как пацаном пришел, так до действительной службы со старым Михеичем работал. Потом, как из армии вернулся, еще два года отработал. Ну а прошлым летом, как мы германцу войну объявили, его опять забрали.
– Ну и что, Батый рассказывает, как он ногу потерял?
– Говорит, что их прямо с Урала куда-то в Германию отправили. Первую неделю наши наступали и почти без боя немецкие городки занимали. Германцы вроде как не ожидали, что мы на них попрем, ну наши офицеры и раздухарились, что все так легко получается. А потом немцы с силами собрались и ка-ак дали по нашим! Батый говорит, что никто из наших генералов ничего и понять-то толком не успел. Только немцы принялись из пушек стрелять, а пушки у них такие, что за несколько верст бьют и даже не видно, где они стоят! Вот под такой выстрел Артур и угодил. Видимо, еще дешево отделался, потому что его увести успели, а через несколько дней после этого всех, кто там стоял, окружили и кого перебили, а кого в плен увели. Наш главный генерал, чтобы в плен не попасть, застрелился!
– Да, дела невеселые!.. В газетах пишут, что наши из Польши отступают и того гляди могут Варшаву оставить! – сокрушенно покачал головой Алексей Антипович. – Давай, Антон, еще по одной!
Они выпили по второй и снова захрустели огурцами. Крепкий самогон шибал в голову, и Антон начал заметно хмелеть.
– Я, Антипыч, вот чего понять не могу: ну сцепились в Европе все друг с другом, а мы-то чего в эту собачью свалку полезли? Нам от этого какой резон?
– У нашего царя с французами дружеский договор был подписан! – пояснил Алексей Антипович.
– Так мы и с немцами крепко дружили! – парировал Гнедых. – Вон на заводе среди приказчиков и инженеров в кого ни плюнь – в немца попадешь!
– Немцы за австрияков встали, а те против сербов поперли за то, что они австрийского принца застрелили. А сербы нам братья, и вера у них опять же православная, вот царю и пришлось вступиться! – Алексей Антипович внимательно следил за политикой и теперь ему было приятно показать свое понимание.
– Получается, что за сербов да за французов русские головы подставлять надо! Сколько народу в прошлом году по мобилизации взяли?
– Если опять же верить газетам, то четыре миллиона! – Алексей Антипович ответил вполголоса, словно бы опасаясь, что кто-нибудь здесь в лесу может его услышать.
– Вот! А если Варшаву не удержим, то придется еще народ собирать, и тогда уже и мастеровых могут начать грести! Тебе, Антипыч, сколько лет?
– Сорок четыре! А тебе?
– А мне тридцать восемь, меня могут и призвать.
Опасения Антона разделяли сейчас почти все рабочие. Над страной нависала угроза поражения, и люди чувствовали, что не сегодня, так завтра их могут оторвать от привычного круга забот и отправить отстаивать интересы империи далеко на запад.
– Давай, Антон сын Данилов, еще выпьем, чтобы война поскорее закончилась и миновала нас чаша сия!
Куницын налил в этот раз почти по полкружки, Антон даже не смог выпить все одним глотком. Закусив, Алексей Антипович стал подкидывать в костер сухие ветки. Хмель приятно гулял в голове, потрескивающее пламя стало ярче и словно бы отодвинуло куда-то в темноту тяжелый груз Антоновых мыслей.
– Я, Антон Данилыч, вот о чем хотел тебя спросить… – Куницын подложил в огонь очередной сук и говорил не глядя на Гнедых. – Говорят, что вы с товарищами интересное дело задумали…
– Какое такое дело? – Антон только что сидел, не думая ни о чем, и ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы понять, о чем говорит сосед.
– Говорят, будто бы вы с Плотниковым и Метелиным задумали лесопильню открыть…
– Кто это, интересно, говорит? – насторожлся Антон.
– Земля слухом полнится! – неопределенно ответил Алексей Антипович. – Только я, Антон Данилович, не из простого любопытства интересуюсь, я хочу в компаньоны к вам попроситься!
Антон напряженно замолчал, размышляя, как бы помягче отказать. Четвертый конь в упряжке явно был лишним, тем более, что этот конь имел не самый простой характер и мог начать тянуть все на себя, а то и вовсе захотеть стать возницей и взять в руки вожжи и кнут.
Глава 3. 1987-1994-й
Пять лет назад, когда Света оканчивала школу, у нее не было никакого сомнения по поводу будущей профессии. В пятом классе, как только начались уроки истории, она влюбилась в этот предмет.
Все годы историю преподавала Надежда Ивановна, очень мирная женщина предпенсионного возраста. Держать класс в узде учительница совершенно не умела, поэтому на ее уроках стоял постоянный ребячий гвалт. Надежда Ивановна, силясь перекричать школьников, старалась говорить громче, от этого постоянно срывала голос и говорила хрипло. От мамы Света не раз слышала, что многие педагоги в учительской просили историчку быть построже, потому что шум на ее уроках мешал занятиям в соседних классах. Надежда Ивановна мучилась, пыталась вызывать главных смутьянов к доске и ставила им за незнания двойки, но ничего сделать с дисциплиной не могла.
При этом ученики любили историчку, твердо зная, что поставленные на уроках двойки можно будет исправить. Надежда Ивановна в конце четверти заранее раздавала темы, каждый неуспевающий готовил свой кусок, и на таких уроках в классе стояла тишина. В итоге должники получали необходимые им тройки, а иногда и четверки за четверть. После этого в начале новой четверти история на уроках истории повторялась – все снова галдели и не слушали бедную Надежду Ивановну.
Вопреки остальным, Света любила историю не за мягкость учительницы, а за саму суть предмета. Начиная с последней группы детского сада эту любовь ей прививал ее отец. Работая инженером на заводе, он перечитал все что можно в районной библиотеке и имел очень стройное представление об истории России и Советского Союза.
Папа любил рассказывать семейную легенду, согласно которой его дед Иван Кондратьевич имел дворянские корни и служил офицером в царской армии. Однако во время Гражданской войны дед перешел на сторону красных и, чтобы порвать связь со своим дворянским прошлым, попросил у командования разрешение на смену фамилии. Семейное предание гласит, что по распоряжению самого Блюхера красного командира стали именовать Калининым. В память от деда у папы хранился старинный золотой перстень, и Света любила, рассматривая это кольцо, представлять, как жили ее предки.
Однажды, когда Света уже училась в десятом, папа принес вырезку из областной газеты. В статье сообщалось, что летом 1987 года советскими археологами был обнаружен древний город на юге Челябинской области, получивший название Аркаим по имени холма, под которым были проведены раскопки.
Все последующие годы Света с папой жадно вылавливали из многочисленных газет небольшие сообщения о ходе раскопок. Уже было известно, что городу более четырех тысяч лет, что он сохранился в очень хорошем состоянии и что жители, по всей видимости, использовали город как храмовый комплекс и покинули его все разом.
Открытие древнего города в родной области совершенно потрясло комсомолку Свету Калинину и еще сильнее утвердило ее в намерении поступать на исторический факультет Челябинского госуниверситета.
Между тем в стране происходили изменения. Магазины все чаще встречали покупателей пустыми полками. Появились талоны на сахар, колбасу, сливочное масло. Самой важной единицей размена стали не деньги, а бутылки водки: имея ящик «беленькой» можно было за пару месяцев построить гараж или дачный домик.
Комсомольские собрания стали принимать форму спектаклей, в актах которых вожаки привычно рубили руками воздух, призывая к добросовестной работе для общей перестройки, а в антрактах те же ребята хвастались друг перед другом джинсами-варенками и обменивались новыми записями Виктора Цоя, бубня под нос: «Перемен требуют наши сердца!..»
Летом 1990-го Света поступила в университет. Произошло это как-то легко: в приемной комиссии чувствовалась растерянность, количество абитуриентов, стремившихся постигать историческую науку, было весьма скромным, едва-едва больше, чем количество мест.
Когда на втором курсе Света готовилась сдавать зимнюю сессию, красный флаг над Сенатским дворцом в Кремле был спущен и вместо него на флагшток был поднят триколор новой России – Советский Союз прекратил свое существование. Преподаватели, кандидаты и доктора исторических наук почувствовали себя ненужными в новорожденной Российской Федерации. Еще несколько лет назад их предметы считались важнейшими для любой специальности, историю и философию всегда ставили первой парой, посещение являлось строго обязательным, а нарушители нещадно карались.
Теперь же все изменилось, на лекциях бывало не более половины студентов, да и те могли откровенно читать газеты или конспекты других лекторов. Света не раз видела, как на их кафедру заходили преподаватели и показывали своим коллегам новые книги о «настоящей истории России». Профессора-историки заглядывали в них, отчего их совсем негустые шевелюры становились дыбом. Спорили с псевдофактами, противоречащами здравому смыслу, после чего жадно глотали валидол и валерьянку. Однако напечатанная на деньги неведомого Сороса литература подкупала красотой обложки и качеством бумаги, и эти недорогие издания были широко представлены на многочисленных книжных развалах, где совсем уже немыслимо было встретить затертый томик «Краткой истории КПСС».
Хотя требования к студентам-историкам резко снизились, группа, в которой училась Света, потихоньку уменьшалась. Кто-то находил возможность перевестись на юридический или лингвистический факультеты, престиж которых, и так немалый в «старое время», теперь подскочил до небес. Кто-то уходил в бизнес, пробуя себя в ларечной торговле. Светина подруга Маша забросила учебу и стала летать вместе со своей мамой и тетей в Турцию за шмотками, пополнив армию челноков.
Как-то раз Света встретила ее на Зеленом рынке Челябинска, где Маша бойко торговала вязаными свитерами и носками. После того как подруги расцеловались, Маша призналась, что хочет вернуться и доучиться на историка, потому что теперь столько знает про турков, что с легкостью напишет любой диплом. После этого она всучила Свете очень красивый белый свитер, отдавая его за полцены. Смутившаяся студентка призналась, что у нее и от половины цены, есть только треть. Однако Маша все равно впихнула ей свитер, и Света заносила ей деньги потом. С тех пор она обновляла свой гардероб только у Маши, а та неизменно ей делала половинную скидку, обещая вскоре вернуться на учебу. Когда Света забежала в Машину палатку два дня назад, чтобы купить кофточку в подарок сестре, то в палатке торговала незнакомая девушка. На вопрос Светы: «Где же Маша?», та ответила, что Мария Петровна в палатке на другом конце рынка – дела у подруги явно шли в гору.
Постепенно из шестидесяти студентов на потоке осталось только двенадцать человек, десять из которых были девушки. Полтора года назад по факультету прокатилась небольшая волна энтузиазма – на высокогорном плато Горного Алтая, где сходятся границы сразу четырех государств: России, Казахстана, Монголии и Китая – при раскопках был обнаружен саркофаг с отлично сохранившейся мумией молодой женщины: ее обнаружила аспирантка из Новосибирска, которой доверили раскапывать второстепенное захоронение. Находку ретивые журналисты окрестили Принцессой Укока.
Курган уже имел следы раскопок, видимо, несколько столетий назад там побывали бугровщики – охотники за древним скифским золотом. Малоперспективный могильник доверили аспирантке, обнаружившей сначала могилу убитого юноши, под которой лежали тела шестерых коней. Уже под ними был раскопан еще один погребальный сруб с саркофагом из ствола лиственницы. По всей видимости, почти сразу после захоронения в погребальную камеру проникла вода, которая быстро замерзла, благодаря чему покоившееся в саркофаге тело, пролежав во льду две тысячи четыреста лет, прекрасно сохранилось. Принцесса Укока не относилась к знатному роду, скорее всего, она была жрицей или шаманкой, поэтому ее и похоронили в отдельной могиле.
Теперь новосибирские археологи были нарасхват, их приглашали с докладами в Китай, Европу и даже США. Прошлой осенью они выступали с докладом в университете Екатеринбурга, и Света в составе группы из преподавателей и студентов ездила туда на специально выделенном автобусе.
На фоне общего уныния исторического факультета ярко выделялась Ольга Павловна Жалова, которая считала, что смутные времена рано или поздно пройдут и стране еще понадобится ее настоящая история. Чтобы встряхнуть факультет, она придумала сделать цикл дипломных работ, посвященных Пугачевскому восстанию. По ее мнению, такой подход позволял по-новому взглянуть на эту проблему. Своим энтузиазмом Ольга Павловна заразила дипломниц, и они отправились собирать материал в краеведческие музеи родных городков.
Света часто думала, что в истории еще очень много белых пятен, раз совершенно неожиданно в России древние курганы начинают отдавать давно забытые города и саркофаги со спящими принцессами. Нужно только суметь почувствовать дыхание времени.
Глава 4. 1915-й
Постройка лесопильни была их давним замыслом, трудным и почти нереализуемым шансом выскочить из хомута вечного безденежья. Идея эта родилась в виде шутки прошлой весной, когда машинист Ероха Метелин решил срубить новую баню и пригласил себе в помощь двух своих закадычных друзей: Антоху Гнедых и Витьку Плотникова.
Взяв лопаты, мужики раскидали на Ерохином огороде тяжелый мартовский снег и принялись рубить стены будущей бани. Работали в основном по вечерам: световой день быстро прирастал, и вместе с ним венец за венцом рос сруб будущей мыльни.
Когда сруб был готов, они раскатали его по бревнышку и снова собрали на том месте, где до этого стояла старая, топившаяся по-черному баня. Бревна проложили сухим мхом, прорубили оконце и дверь и принялись настилать тесовую крышу. Вот тогда-то Ерофей и пожаловался на то, как дорого стало нынче покупать доски. На это друзья в шутку посоветовали машинисту открыть свою лесопильню.
Когда баня была готова, на первый парок топившейся по-белому печки Ерофей пригласил своих товарищей и выставил им в предбаннике литровку. Друзья выпили за баню, за владельца бани и, пожелав ему и дальше в справе держать свое хозяйство, вспомнили о необходимости собственной лесопильни.
Сидя тогда в новом предбаннике, Ерофей ответил, что нет ничего проще, надо только снять паровую машину с какого-нибудь старого паровоза. А уж он как опытный машинист сможет ее обслужить. К тому же, Антон и Виктор тоже кое-что понимают в механике и помогут ему в строительстве лесопильни.
Они тут же стали прикидывать, много ли сейчас в Катав-Ивановске работы с лесом, на что гонявший груженные железом составы Метелин сообщил, что пока по всей России строятся железные дороги, нужно бесконечное количество шпал и досок с брусом для вагонов-теплушек. Поэтому, даже если лесопильня не будет занята местными заказами, можно будет брать подряды железнодорожных акционерных обществ.
Для топлива можно покупать уголь, который добывают недалеко в Копейске. Уголек там хоть и плохонький, бурый, но ведь и машине не вагоны за собой тянуть, мощи вполне хватит. Опять же, можно сжигать или продавать на дрова все деревянные обрезки, которые будут оставаться после роспуска лесин на доски.
Тут Витька вспомнил, что однажды к ним в цех привозили для ремонта механизм зерновой мельницы, которая могла работать и от машины, и от ветряка. Если лесопильню поставить на пригорке, то в ветреные дни и угля никакого не надо: ветер будет крутить шкив пилы бесплатно. Из приоткрытой двери предбанника было видно, как за заводским прудом торчит лысая верхушка большого бугра, называемого Шиханкой. К подножию этой горы кривыми улицами лепились ряды домов, но строиться ближе к вершине никто не хотел: слишком ветрено и неуютно, даже деревья не растут.
– Ветряк на Шиханке надо ставить! – сказал тогда Витька. – Там почти всегда ветродуй, и дорога дотуда почти готова, от домов меньше версты дотянуть надо.
– Где ты на Шиханке воду для машины возьмешь? – возразил Ерофей. – Там ключей нету!
– Воду в бочках подвозить можно! – стал отстаивать свою идею Витька. – Нам даже не обязательно самим возить, люди будут готовы за скидку на распил водовозить!
Откуда ни зайди, идея получалась выгодной, и все упиралось только в одно: где взять деньги на покупку машины и постройку лесопильни. Увлекшись, друзья просидели тогда в бане до ночи и, прежде чем разойтись, условились собирать деньги и во что бы то ни стало никому не говорить про их затею.
В мечтаниях и сомнениях прошел целый год, и вот месяц назад Метелин снова пригласил друзей попариться.
– Есть подходящая машина! – выдохнул Ероха, когда они втроем вывалились передохнуть из жаркой бани в знакомый предбанник.
– Ну? – Антон и Витька нетерпеливо уставились на друга.
– В Златоусте на маневровом паровозе стоит, – Ероха вытер полотенцем крупные бисеринки выступившего на груди пота. Был он жилист и черняв, говорил неспеша, хоть и отлично понимал, как не терпится сейчас друзьям. – Помните, в феврале морозы под пятьдесят гнули? С железом на холоде надо с пониманием работать, оно хрупким становиться. А они на маневровый молодого машиниста поставили, а он к полному составу товарных вагонов на большой скорости подошел. Случись бы это все летом, так, наверное, и обошлось бы. А тут – зима да такой мороз, что уши в трубочку сворачиваются! Вот у паровоза рама в двух местах и лопнула! Раму уже не отремонтировать, надо полпаровоза менять! Поэтому его теперь продавать хотят!
– А ты машину смотрел? – спросил Виктор.
– Смотрел!
– Ну и как?
Прежде чем ответить, машинист пододвинул к себе три кружки и из большой банки налил себе и друзьям янтарного квасу. Все с удовольствием принялись тянуть прохладный напиток.
– В котле извести прилично накипело, но это можно почистить, – принялся перечислять Ерофей, – один выпускной клапан чуть стучит, палец на нем менять надо, в паропроводе прокладки еле держат, и два монометра совсем никудышные! Но это все ерунда, дней на пять работы!
– А сколько за машину хотят? – спросил Антон, и они с Витькой даже перестали дышать.
– Четыре тысячи целковых! – ответил Ерофей, пристально глядя на сучок в столешнице. – Еще тридцать рублей на монометры, палец и прокладки, они в златоустовском депо есть. Кроме того, надо железной дороге сто двадцать рублей перегонных заплатить, воду нам бесплатно зальют, но нужны дрова или уголь, это еще рубликов тридцать. Все вместе почти четыре тысячи двести получается!
– Ох, ни хрена себе! – Витька откинулся назад и с шумом стукнулся головой о деревянную стенку предбанника.
– Как же машину сюда перегонять? Ты же говоришь, что у паровоза рама лопнутая! – уточнил Антон. – Другой паровоз нанимать надо?
– Не надо! До нас от Златоуста меньше ста пятидесяти верст, потихонечку дошкандыбать своим ходом можно! – ответил Ерофей. – Давайте думать, где денег взять!
– Фундамент же еще лить надо! Да пила со всеми приводами, да постройка, да ветряк! Мы не потянем! – запаниковал Витька.
– А мы не будем все разом делать! Фундамент зальем, какой надо, а стены пока по времяночке поставим и постройку ветряка отложим! С машиной мы зимой даже за тонкими стенами не замерзнем, а уж как лесопильня начнет доход приносить, так мы и ветряк надстроим! – видимо, Ерофей уже не раз крутил все это у себя в голове и теперь довольно убедительно излагал друзьям.
– И сколько все это может стоить? – понуро спросил Виктор.
– Шесть с половиной тысяч! – ответил Ерофей и, придвинув к себе кружки, опять налил всем квасу.
– У меня всего двести семьдесят рублей отложено, и то придется Зинаиду убеждать, что для дела надо, – потупясь, признался Виктор. – Ну если еще у родни позанимать, то рублей четыреста на все про все наскребу!
– У меня шестьсот восемьдесят лежит, но больше шестисот вложить не смогу, придется же на заводе расчет брать, и первое время на что-то жить надо! – сказал Антон.
– Ну и у меня семьсот пятьдесят, и я, как и Антоха, пятьдесят рублей хочу на жизнь оставить. Думал я, что мы все вместе пару тысяч наскребем, но набирается только тысяча семьсот рубликов, – подытожил Ерофей. – Ну что же, видать, нам надо идти на поклон к Василию Матвеевичу Больщикову!
Каменный дом купца Больщикова стоял в центре города на Калиновой улице недалеко от площади с храмом. Был он сложен из того же плитняка, что и построенная купцом школа. Двухэтажный и длинный, он возвышался над деревянными избами соседей и походил на племенного быка, зачем-то забредшего в стадо овец.
На первом этаже дома располагалась контора, лавка, кухня и жилые помещения для работников. На втором этаже жило большое купеческое семейство. За домом стояли многочисленные сараи и амбары, в которые то и дело что-то приносили и уносили. Перед лавкой грузилось несколько подвод, кряжистый работник таскал к ним четырехпудовые мешки с мукой.
Антон, Ерофей и Виктор вошли в контору и поинтересовались, могут ли они видеть хозяина. Конторский мужичок провел их в соседнюю комнату, где за большим столом работал секретарь купца.
– Вы по какому вопросу? – сухо поинтересовался он, оторвавшись от книги с таблицами.
– Говорить хотим с Василием Матвеевичем! – неприветливо пояснил Ерофей, ему не хотелось открывать этому человеку, что они пришли просить денег в долг.
– Я вижу, что не христосоваться пришли! Какое у вас к нему дело?
– Дело очень важное, поговорить нужно с твоим хозяином! – продолжил топтаться на месте Ерофей.
– Василий Матвеевич очень занят и не велел никому беспокоить! Изложите суть дела мне, а дальше посмотрим, докладывать ему или погодить! – секретаря начал раздражать этот настырный рабочий, который, судя по въевшейся в морщинках у глаз копоти, был или сталеваром, или машинистом.
– Говорят же тебе, что дело у нас до купца!.. – решил помочь другу Виктор.
– Вот я и спрашиваю, какое у вас дело? – расставляя слова, повторил секретарь.
– Личное у нас дело, понимаешь! – Витька начал горячиться и от этого стал говорить громче, как в заводском цеху при споре с мастером.
В этот момент ведущая в кабинет Больщикова дверь открылась и на пороге появился сам Василий Матвеевич. Небольшая бородка купца была аккуратно подстрижена, из-под бровей смотрели внимательные глаза. Одет он был по-деловому: белая сорочка, жилет, брюки и легкие сапоги. Из кармана жилета, поблескивая золотом, свисала цепочка от часов.
– Иван, что тут происходит?
– Вот, Василий Матвеевич, рвутся к вам, а за какой надобностью – сказать не хотят! – кивнул на посетителей секретарь.
Больщиков всмотрелся в лицо Ерофея.
– Это ты в прошлом году помогал паровое отопление в школе налаживать?
– Я, Василь Матвеевич, твои рабочие тогда котел неправильно собрали, и в системе циркуляции не было! – напомнил Метелин.
Купец окончательно вспомнил машиниста. Вспомнил и то, что он отказался брать за свою работу деньги. Впрочем, тогда многие отказывались от оплаты или брали совсем немного, зная, что Василий Матвеевич возводит школу за свой кошт.
– Проходите! —приглашающе мотнул головой Больщиков.
Антон с товарищами вошли в просторный светлый кабинет. Мебели тут было немного: два стола, стулья, шкаф с книгами и большие напольные часы. В углу висели образа, под которыми еле видным в дневном свете огоньком горела лампадка. Больщиков рассадил всех по стульям и сел сам.
– Ну, рассказывайте, что у вас за дело!
Ерофей начал рассказывать, сначала немного сбивчиво, но потом выправился. Василий Матвеевич слушал внимательно и не перебивал. Когда наконец Метелин дошел до сути и сказал, что им нужно взаймы пять тысяч, купец как-то ойкнул, после чего потянулся за лежащем на столе карандашом.
– Ну-ка, давай сызнова! Сколько, говоришь, стоит машина? – Больщиков принялся выписывать ответы Ерофея на листок бумаги. – Во сколько фундамент обойдется? Пильный механизм? Сколь у вас своих средств имеется?
Выписав числа в два столбика, он побарабанил карандашом по столу.
– Та-ак, значит вы затеяли предприятие, на которое у вас имеется только четверть суммы и предлагаете, чтобы остальные средства вложил я?
– Мы взаймы просим, в рост! – пояснил машинист.
– А с чего вы взяли, что я даю деньги в рост?
– Три года назад ты Мишке Соснову двести рублей ссуживал на постройку дома после пожара, – вступил в разговор Антон.
– Было такое! – кивнул головой Больщиков. – Но Соснов – погорелец, и помочь ему сам Бог велел. Я с него хоть и расписочку взял, что деньги даны под пять копеек с рубля, но в конце все проценты ему назад вернул.
Мишка тогда действительно рассказывал всем в городе, что купец помог ему бескорыстно.
– Ну, положим, что я соглашусь вам помочь, – продолжил Больщиков, – и под какой процент вы думаете получить деньги?
– Копеек бы под семь, как в Крестьянском банке… – закинул удочку Ерофей.
– Тю! Да вы, мужики, видно, жизни совсем не знаете! – ахнул Василий Матвеевич. – Сейчас под семь процентов даже под надежный заклад никто не даст! Война же идет! А это что значит, знаете?
Мужики переглянулись и отрицательно помотали головами.
– Во-первых, рубль слабнет! – стал пояснять Больщиков. – Если пуд ржаной муки сегодня стоит полтора рубля, то через год он если не на десять, то на восемь копеек подорожает! А во-вторых, деньги сейчас очень дороги, потому как во время войны самое время капитал делать! Все рвачи сейчас стараются хватать подряды на поставку фуража и провианта для армии! Даже лежалое гнилье на фронт пытаются сбагрить! Вот и получается, что теперь за год многие купцы втрое против прежнего успевают провернуться! Две недели назад один мой уфимский знакомец другому знакомцу денег ссудил за тридцать пять копеек за рубль!
Антон, Виктор и Ерофей ахнули.
– Вот видите! И ведь это оба человека с понятием! – продолжал рассуждать купец. – А вы пока в таких делах люди новые, вас на мякине провести можно!
– Родитель твой, Василь Матвеевич, тоже из кузнецов вышел. И ничего, смог разобраться, авось и нам удача будет! – задористо махнул кулаком Ерофей.
– Да, батюшка тяжело начинал, царство ему небесное! – Больщиков перекрестился на образа. – Но и люди тогда другие были, честнее, ни в пример нынешним! Если купец с тобой рука об руку ударял, то ты был уверен, что он расшибится, но слово свое сдержит! Сейчас – не то, бумаги пишем, а прежнего доверия друг к другу все равно нет! Потому как люди перестают быть купцами, а становятся коммерсантами!
Мужики согласно закивали головами, Больщиков неожиданно разговорился, и они не понимали, отказал он им с займом или еще думает.
– Ладно! Хотите я вас научу коня покупать? – неожиданно предложил Василий Матвеевич.
– Торговаться что ли? – не понял Витька.
– Не столько торговаться, сколько выбирать. Конь – он только для нагляду, с сеялкой или паровой машиной все так же! – запутал всех купец.
– Ну давай! – согласился Ероха, ему стало интересно услышать от торгового человека советы по выбору машин.
– Вот на что по-твоему надо в первую очередь смотреть при выборе коня? – в глазах Больщикова мелькнула хитринка, как будто он задал заковыристую загадку.
– На зубы! – сразу ответил Ерофей.
– Зубы – это важно, но не самое главное! – парировал купец.
– Ну тогда на стать надо смотреть! Как он стоит, пляшет на месте или нет! – сделал вторую попытку Ерофей.
– Это важно, но не в первую очередь! – продолжил хитрить Василий Матвеевич.
– Шерсть у него надо пощупать и жилы на ногах потрогать! На копыта посмотреть, стоптанные или нет! – стали наперебой предлагать Виктор и Антон.
Хозяин кабинета опять отрицательно покачал головой.
– А на что же надо тогда смотреть? – озадаченно спросил машинист.
Больщиков назидательно поднял указательный палец вверх:
– В первую очередь всегда сначала смотри на продавца! Если он тебе не нравится, то каким бы ни был товар, не важно – конь или телега, покупать не надо!
Мужики одобрительно заулыбались: у каждого в жизни была такая сделка, когда чуйка говорила, что лезть не надо, но жадность брала свое. Ерофей вспомнил купленные по молодости за полцены красивые сапоги, оказавшиеся крадеными, – их пришлось вернуть владельцу. Антон вспомнил, как почти задаром купил у воровато оглядывающейся бабы мешок ржаной муки, которая, как выяснилось дома, была с плесенью. А Витька вспомнил, как на железнодорожной станции всклокоченный цыган всучил ему бочонок меда. Витька отчетливо помнил, что пробовал мед именно из этого бочонка, но по приезде домой обнаружил внутри какую-то студенистую дрянь.
– Еще хочу сказать, что коли вы большое дело затеваете, то вам нужно с разными людьми говорить научиться! – продолжил Больщиков. – Вот вы сейчас с моим секретарем чуть не полаялись, а того не знаете, что секретари да разные приказчики на предприятиях – первые люди! Вы, к примеру, договорились с промышленником в его конторе, что он вам лесу отпустит. Но какие бревна вам передавать, будет на месте приказчик решать. Может, корабельную сосну первый сорт выдаст, а может, и с червоточинкой подсунет. Поэтому и надо к человеку подход иметь! Иного не зазорно и папиросками угостить или полфунтом чая, но только так, чтобы человек видел, что это от души идет!
Витька сердито засопел, видимо, представив себе, как он угощает папиросками секретаря. Ерофей добродушно ухмыльнулся, чувствуя в словах купца правоту.
– Ладно, мужики! Покалякали – и к делу! – Василий Матвеевич сдвинул брови и стал еще серьезнее. – Денег я вам дать готов, пять тысяч, сколь просите! Но слово мое такое: двадцать пять копеек с рубля и проценты платить каждые полгода!
– Нельзя хотя бы двадцать копеек, Василь Матвеевич? – попробовал торговаться Ерофей.
– Нет, мужики! Слово мое последнее. и я вас не неволю! Деньги нынче дороги, и двадцать пять копеек я с вас беру не чтобы в прибыли быть, а чтобы в убыток не уйти. Так что решайте, согласны или нет?
Ерофей, Антон и Виктор переглянулись, Антон чуть кивнул головой, Витька махнул рукой, словно говорил: «Пропади оно все!»
– Мы согласны! – наконец ответил за всех машинист.
– Ну и помоги вам Бог! – Больщиков снова перекрестился на образа. – Только помните, что вы не погорельцы и мы с вами не школу взялись строить! Вы теперь деловые люди, и спрос с вас будет, как с деловых! Дня за три до того, как соберетесь ехать за машиной, приходите вексель оформить. Работать будете с Иваном Денисовичем Котенко, моим секретарем. Он малый с головой, год-два и, глядишь, отколется от меня, свое дело начнет. Лесопильня ваша вместе с машиной в залоге будет. Нотариусу за сделку приготовьте рублей пятнадцать-двадцать, это у Ивана уточнить можно. Что еще? Разрешение на строительство вам надо у городского головы справить, с этой бумагой опять же Иван вам помочь может. Ну а как опилки из под пилы у вас полетят, приходите, я вам малость с подрядами подсоблю!
Все трое пожали крепко сбитую руку купца, после чего Василий Матвеевич проводил их до секретаря. Иван Денисович уже без всякой неприязни, спокойно стал растолковывать порядок оформления залога и выписки векселя.
Когда Антон, Виктор и Ерофей вышли из конторы Больщикова, на улице ярко припекало летнее солнце. Подводы с мукой уехали, оставив на земле кругляки конского навоза, в которых, шумно споря между собой, копалось несколько воробьев.
– Ну что, мужики, нас есть с чем поздравить! – осклабился Ерофей и принялся пожимать руки товарищам.
– Да, такие денжища берем, что думать страшно! – покачал головой Антон.
– Эх, сами себе на шею хомут вешаем! – невесело улыбнулся Витька.
Глава 5. 1995-й
Света, задумавшись, смотрела в темноту окна, за которым в бесноватом танце кружилась и выла метель. Видимо, древние славяне не зря называли февраль вьюговеем.
– Как метет! – похоже, папа угадал ее мысли. – У Пушкина в «Капитанской дочке» Петруша Гринев с Пугачевым именно в такую пургу познакомился. Кстати, Свет, а вам в дипломе на художественную литературу можно ссылаться или только на более серьезные книги?
– Так у Пушкина, пап, есть серьезное историческое исследование Пугачевского восстания, я как раз планирую с него начать. Сейчас… – Света вышла из кухни и вернулась через минуту с небольшой книгой в руках. – Вот, смотри, Александр Сергеевич Пушкин «История Пугачева»!
На кухню вернулась мама.
– Я все постелила. Не пора ли спать ложиться?
– Сейчас, мам! Только папе покажу одно очень интересное место…
Света раскрыла книгу на странице с оставленной закладкой.
– Вот тут где-то… Ага, вот! – и она начала читать вслух:
«Пугачев быстро переходил с одного места на другое. Чернь по-прежнему стала стекаться около него; башкирцы, уже почти усмиренные, снова взволновались. Комендант Верхо-Яицкой крепости, полковник Ступишин, вошел в Башкирию, сжег несколько пустых селений и, захватив одного из бунтовщиков, отрезал ему уши, нос, пальцы правой руки и отпустил его, грозясь поступить таким же образом со всеми бунтовщиками. Башкирцы не унялись. Старый их мятежник Юлай, скрывшийся во время казней 1741 года, явился между ими с сыном своим Салаватом…»
– Тут у Александра Сергеевича явная ошибка, – Света оторвалась от чтения, – Юлай Азналин, отец Салавата Юлаева, родился только в 1730-м и во время восстания, в 1741-ом, ему было не больше одиннадцати лет. Видимо, Пушкин перепутал его с Азналой Карагожиным, дедом Салавата. Впрочем, это не так важно…
Света снова начала читать:
«Вся Башкирия восстала, и бедствие разгорелось с вящей силою. Фрейман должен был преследовать Пугачева; Михельсон силился пресечь ему дорогу; но распутица его спасала. Дороги были непроходимы, люди вязли в бездонной грязи; реки разливались на несколько верст; ручьи становились реками. Фрейман остановился в Стерлитамацке. Михельсон, успевший еще переправиться через Вятку по льду, а через Уфу на осьми лодках, продолжал путь, несмотря на всевозможные препятствия, и 5 мая у Симского завода настиг толпу башкирцев, предводительствуемых свирепым Салаватом. Михельсон прогнал их, завод освободил и через день пошел далее. Салават остановился в осьмнадцати верстах от завода, ожидая Белобородова. Они соединились и выступили навстречу Михельсону с двумя тысячами бунтовщиков и с осьмью пушками. Михельсон разбил их снова, отнял у них пушки, положил на месте до трехсот человек, рассеял остальных и спешил к Уйскому заводу, надеясь настигнуть самого Пугачева; но вскоре узнал, что самозванец находился уже на Белорецких заводах.
За рекою Юрзенем Михельсон успел разбить еще толпу мятежников и преследовал их до Саткинского завода. Тут узнал он, что Пугачев, набрав до шести тысяч башкирцев и крестьян, пошел на крепость Магнитную. Михельсон решился углубиться в Уральские горы, надеясь соединиться с Фрейманом около вершины Яика.
Пугачев, зажегши ограбленные им Белорецкие заводы, быстро перешел через Уральские горы и 5 мая приступил к Магнитной, не имея при себе ни одной пушки. …»
– Я тут несколько страниц пропущу, – Света подняла глаза от книги. – Тут у Пушкина идут описания боев между Декалонгом и Пугачевым, потом события снова в наши края перемещаются. Ага, вот здесь:
«Михельсон между тем шел Уральскими горами, по дорогам мало известным. Деревни башкирские были пусты. Не было возможности достать нужные припасы. Отряд его был в ежечасной опасности. Многочисленные шайки бунтовщиков кружились около его.
23-го Михельсон пошел на Чербакульскую крепость. Казаки, в ней находившиеся, бунтовали. Михельсон привел их к присяге, присоединив к своему отряду, и впоследствии был всегда ими доволен.
Жолобов и Гагрин действовали медленно и нерешительно. Жолобов, уведомив Михельсона, что Пугачев собрал остаток рассеянной толпы и набирает новую, отказался идти против его под предлогом разлития рек и дурных дорог. Михельсон жаловался Декалонгу; а Декалонг, сам обещаясь выступить для истребления последних сил самозванца, остался в Челябе и еще отозвал к себе Жолобова и Гагрина.
Таким образом, преследование Пугачева предоставлено было одному Михельсону. Он пошел к Златоустовскому заводу, услыша, что там находилось несколько яицких бунтовщиков; но они бежали, узнав о его приближении. След их чем далее шел, тем более рассыпался, и наконец совсем пропал.
27 мая Михельсон прибыл на Саткинский завод. Салават с новою шайкою злодействовал в окрестностях. Уже Симской завод был им разграблен и сожжен. Услыша о Михельсоне, он перешел реку Ай и остановился в горах, где Пугачев, избавясь от погони Гагрина и Жолобова и собрав уже до двух тысяч всякой сволочи, с ним успел соединиться».
– Так, тут у Александра Сергеевича опять описание боев идет, – Света перевернула несколько страниц и продолжила:
«При всех своих успехах Михельсон увидел необходимость прекратить на время свое преследование. У него уже не было ни запасов, ни зарядов. Оставалось только по два патрона на человека. Михельсон пошел в Уфу, дабы там запастися всем для него нужным…»
– Ну все, дальше уже не про наши места! – закончила Света.
– Обалдеть! – папа был явно впечатлен, – Битва за рекой Юрзенем – это же наша река Юрюзань! Симской, Саткинский, Белорецкий заводы – серьезная война в округе кипела!
– Дочь, а Пушкин Чебаркуль Чербаркульской крепостью называет? – спросила мама.
– Ага! – коротко подтвердила Света.
– И башкиры у него – башкирцы! – весело заметил папа. – А что, Пушкин в наших краях был?
– Нет, – ответила Света, – он и в Оренбург на три дня всего приезжал в 1833-м, а после этого и «Капитанскую дочку» написал и «Историю Пугачева».
– Вот что значит гений! – заметил папа. – Съездил на три дня в Оренбург и сразу две книги после этого выдал!
– Так, гении мои, – строго сказала мама, – три часа ночи, не пора ли спать?
Через двадцать минут все в квартире Калининых крепко спали.
Глава 6. 1773-й
Обоз из двадцати двух подвод медленно карабкался в гору, которая взбугрилась по Сибирской дороге примерно посередине между крепостями Уфа и Челяба. Время для лошадей было самое тяжелое: несколько недель после Покрова лили дожди. Они сбивали осенние листья с берез и осин, отчего многоцветный в начале осени лес редел и становился грязно-зеленым – теперь до весны в нем будут только хвойные цвета.
Уже несколько раз пробовал ложиться снег, он прикрывал поля и перелески, но в колеях дороги чавкала грязь, по которой выбивающиеся из сил лошади тащили тяжело нагруженные рудой телеги.
От бакальских рудников до дальнего завода было больше сорока верст горами, и в мокрое осеннее время обоз этот путь делали в два дня. Крестьяне молили у природы морозов, которые сковали бы жижу и позволили бы сменить постылые телеги на быстрые сани. В санях этот же путь успевали проделать за один день, при этом лошади не так сильно уставали.
Степан Мельников ехал из рудников верхом. Управляющий Катав-Ивановского завода разрешил старшему мастеру воспользоваться своей лошадкой Сорокой. Конюх долго наставлял Степана перед поездкой, чтобы тот не горячил Сороку и давал ей отдохнуть на подъемах. Поэтому Степан уже полверсты шел в гору с Сорокой в поводу. Подъем был длинным, и идти пешком предстояло еще не менее часа.
Мельникову перевалило за сорок лет. В темных волосах на голове и в бороде уже было заметно присутствие серебра седины, в углах внимательных глаз прорезались морщинки, но фигура мастера объединяла худобу и большую физическую силу. Он был в том возрасте, когда накопленный опыт сочетался с крепким еще здоровьем. Мастеровые трех заводов уважали старшего мастера за понимание дела и за умение в трудную минуту, когда не хватало рабочих рук, браться и делать сложную работу самому.
Мастер с лошадью шел у второй подводы и разговаривал с возницей Никифором, который тоже поднимался в гору спешившись. Оглянувшись, Степан увидел, что обоз растянулся почти на версту, причем последние две подводы сильно отстали: лошаденки были совсем плохи и перевозка руды была для них делом непосильным. Все возницы послезали с телег и шли пешком, рядом с одной из кобыл в центре обоза весело бежал жеребенок. То и дело он заигрывал с матерью, не подозревая, что еще год-два и на его шею наденут такой же хомут.
Шедший рядом с мастером Никифор, русобородый приземистый мужик лет тридцати пяти, три года назад был перекуплен заводчиками и переселен из Казанской губернии на Урал. Теперь он старался вникнуть в тонкости заводского хозяйства, чем сильно отличался от других привезенных вместе с ним мужиков.
– Вот, Степан Кузьмич, – обратился Никифор к мастеру, – давеча мужики на руднике сказывали, что тульский кузнец Демидов будто бы царю Петру дорогой пистоль починил и царь его за это заводами жаловал. А наши хозяева как свое богатство получили? Ведь, говорят, купцами они были? А теперь вот наши души покупают, значит, они помещиками теперечи стали?
– Не помещиками, а заводчиками, – поправил Степан. – А история у них тоже подходящая имеется. Царь Петр в Симбирск приехал, и пригляделся ему остров посередине Волги, захотел он там отобедать. Тут как раз по Волге проплывала лодка с четырьмя купцами: три брата Твердышевы – Петр, Иван и Яков – да Иван Мясников. Старшего брата Петра Борисовича я в живых не застал, а Иван Борисович на заводах много бывал, да вот этим летом помер, упокой, Господи, его душу!..
Степан и Никифор сняли шапки и перекрестились.
– …Так вот, подрядились купцы царя на остров перевезти. А он их и спрашивает: «Чем вы пропитание зарабатываете?» Те в ответ, так, мол, и так, надежа-государь, торговлишка у нас малая. А царь им и говорит: «Купцов у меня в державе много, а заводчиков нет. Езжайте вы лучше к горам и начинайте руду копать да медь из нее плавить! А чтобы делу этому способить, даю вам от себя пятьсот рублев золотом!»
– Пятьсот рублев? – ахнул Никифор.
– Пятьсот! – подтвердил Степан. – Вот они сначала медное дело освоили. А чтобы промеж собой не разругаться, Иван Мясников взял себе в жены ихнюю сестру Татьяну. Ну а уж как медное дело освоили, так они сюда пришли и стали железоделательные заводы ставить: сначала Катав-Ивановский, потом Усть-Катав-Ивановский, потом Юрюзань-Ивановский, а потом развернулись и Симской с Белорецким, только я на Белорецком не бывал, все тут по округе кружусь.
Мастер тяжело вздохнул: после смерти Ивана Твердышева, одного из хозяев, дела на заводах как будто бы споткнулись, то тут, то там происходили неприятности. Пять дней назад на одном из рудников сломалась машина для подъема руды. Местный кузнец передал, что починить сам не в состоянии, и Степану пришлось выехать на рудник.
Когда мастер приехал на место, то убедился, что силами одного кузнеца тяжелый ворот с колесной парой не починить. Видимо, в колесную пару попадали кусочки руды, и это привело к тому, что часть зубьев искрошилась. Теперь ворот, с помощью которого два человека могли поднимать из глубокой шахты шестипудовую бадью, простаивал, и руду поднимали малыми ведрами вручную. Выработка на руднике сразу сильно упала. Местный кузнец, в обязанности которого входило подправлять койла, делать мелкие ремонты, а иногда и заковывать в кандалы провинившихся рудокопов, изготовить такую колесную пару не мог. Степан вез зубчатые колеса опытным кузнецам на завод – это значит, что рудник будет работать без подъемной машины еще недели две.
Шедший рядом с мастером Никифор вдруг заглянул в глаза и, словно разом решившись, сказал:
– Степан Кузьмич, давно просить хочу…
– Ну? – мастер с трудом оторвался от собственных мыслей.
– Возьми нас с сыном к себе в мастеровые! – выдохнул Никифор.
– В мастеровые? – хмыкнул Мельников. – Тебе годков-то сколько? Ты уж назад к земле расти стал, а тут заводскую примудрость изучать надумал? Разве что о сыне потолковать можно, сколько ему?
– Ванятке-то моему? Двенадцатый год пошел!
– Что же, самое время пойти в ученики, – согласился Степан. – Прикреплю его к опытному мастеру – пусть учится. Только ведь наше ремесло тяжело дается, его подзатыльниками внушают, да и не каждый понимает, многие не сдюживают.
– Он у меня смекалистый! – пообещал Никифор.
– Ну-ну, посмотрим! – опять хмыкнул мастер.
– Степан Кузьмич, ну а как же насчет меня? – опять спросил Никифор.
– Не знаю… Был бы ты кузнецом или столяром, я бы тебя взял. А так ваш брат после сохи обычно или в углежогах ходит, или в рудобойцах, ну или как ты сейчас – возницей.
– Да я уже жег уголь первой зимой опосля переезда и возницей вот уже второй год езжу! – горячо заговорил Никифор. – Да разве это дело? У углежогов заработок шесть копеек в день, возницам по восемь платят, но лошадка своя должна быть, ей овса в день на копейку с полушкой купить надо, ну или вырастить, да и все время боишься, что она надорвется. Рудобойцам когда по семь, а когда и по восемь копеек в день платят, но такая работа, что солнца неделями не видят, а потом от грудной жабы загибаются. Да и не только в этом дело…
– А в чем еще? – уточнил Мельников.
– Скучная вся эта работа, Степан Кузьмич, без интересу она! – Никифор сокрушенно потряс головой. – Ты вот говорил, что столяра бы взял. Я пока месть не столяр, но плотничал много, избы ставил, бани. В Казанской губернии один раз даже часовню рубил, не за главного, конечно, а в подмастерьях был. Одним словом, люблю с топором нянчиться.
– А в заводе, по-твоему, работа с интересом? – спросил мастер, слегка прищуриваясь.
– С интересом, Степан Кузьмич! – подтвердил Никифор. – Я когда на водобойное колесо смотрю, мне аж дух захватывает – это какую же выдумку надо иметь, чтобы заставить воду крутить колесо и чтобы оно потом через вал такие тяжелые молоты поднимало! Я на плотине часто бываю, пришел туда как-то рыбу поудить, а там плотинный мастер шлюзы на ночь затворял, мы с ним тогда разговорились. Он же кажную сваю там знает, кажную полосу железа! И всякая вещь там на месте и при деле!
– Ну еще бы Игнату свою главную плотину не знать! – усмехнулся Степан Кузьмич. – Он же сам ее ставил и первую сваю сам вбивал! Значит, ты говоришь, плотничал?
– Ага, плотничал! – подтвердил Никифор.
– Ну, коли так, попробую отдать тебя Игнату Гнедых, раз вы с ним уже в знакомцах ходите! – согласился Мельников. – Тем более он давно себе помощника просит: его давешнего отдали куда-то на Часовую. Но учти, Никифор, Игнат в работе очень суров и требует много, да и работать тебе предстоит с лиственницей. Приходилось тебе когда лиственницу рубить?
– В Казанской губернии мы разок конду под дом из лиственницы рубили, – подтвердил Никифор.
– Конду? Это нижний венец сруба? – уточнил мастер.
– Он самый! – кивнул головой Никифор.
– Ну и как?
– Знатно потрепыхались! На кажный из четырех замков венца по полдня потратили! – Никифору было приятно рассказывать о своей работе. – Долотом и молотками щепу выбивали! Зато теперь этому срубу никакая сырость не страшна – триста лет стоять будет и не сгниет!
– В здешних местах дуб почти не растет, поэтому сваи и многие части шлюзов делаем из лиственницы, – пояснил мастер. – Пока она свежесрубленная, с нею еще хоть как-то можно работать, а когда она в воде годик полежит – как железо твердая становится! Ну, значит, определю тебя к Игнату. Только не думай, что тебе сразу как столяру второго сорта десять копеек платить начнут: первый год, пока в учениках ходишь, будешь те же восемь копеек в день получать. А там уж, как себя проявишь: иные столяры у нас и по двенадцать копеек ежеденно получают, но эти, правда, могут топором из лучины черта в ступе вырезать!
– Спасибо, Степан Кузьмич! – обрадовался Никифор. – За мной работа не постоит!
По разумению Степана, старания Никифора были правильными. Что такое крестьянин при заводе? Та же лошадь – тяни черную работу, пока ноги не вытянешь. А черной работы хватало: в рудниках надо было махать кайлом, добывая руду, в лесах даже в самые трескучие морозы надо валить лесины и волочь их к угольным ямам, потом руду и уголь надо было загружать в ненасытные домны. Однако и мастеровым стать враз не так-то просто. Лучшие мастера взращивались на заводах с детских лет, впитывая горький опыт с затрещинами и тычками старших. Никифор был мужик с головой и, если не будет лениться, шансы чему-то научиться у него есть.
Вчера, когда Степан вместе в кузнецом на руднике разбирали механизм ворота, мастер поймал на себе взгляд крестьянина, который вручную за веревку вытягивал ведро с рудой. Во взгляде промелькнул и погас огонь лютой злобы. Вряд ли эта злоба была направлена на самого Степана, скорее, на жизнь, на механизмы и железо, ради которого крестьянина как живой товар своротили с насиженного места и теперь заставляют по много дней в году ломать руду в подземелье преисподней. А потом в короткое и холодное уральское лето пытаться вырастить рожь и репу на скудной земле среди скал.
Работа мастеровых тоже похожа на ад, особенно тогда, когда расплавленный чугун разливается по земляным формам, страшными брызгами обжигая лицо, а иногда и выжигая глаза. Но мастеровые находят в этой работе какое-то странное упоение. Передают тайные секреты мастерства наиболее способным ученикам. А если где-то встречают новый механизм или машину, то считают важнее прочего разгадать ее секреты и вникнуть в суть ее работы. Нет, Степан ни за что бы не променял работу на заводе на работу в поле.
Тот мужик с нехорошим взглядом, он, когда вчера на руднике завидел Никифора, что-то сказал своему товарищу, тащившему с ним тяжелую бадью. Степану это показалось странным…
– Никифор, а Никифор? – спросил мастер.
– Что, Степан Кузьмич?
– А почему это тебя земляки ведьминым зятем кличут? – Мельников наконец-то вспомнил, как назвал Никифора вчерашний крестьянин.
– Это ты вчера от Федьки слышал? – недобро усмехнулся Никифор. – Промеж нами давняя дружба, с одной деревни мы! Он мою тещу Лукерью Трифоновну за ведьму считает, ну и меня ведьминым зятем величает.
– Ого! – засмеялся мастер. – Что она у тебя и вправду с нечистой силой знается?
– Да как сказать… – Никифор потеребил бороду. – Травница она, корешки да травки по лесам собирает, а потом людей и скотину от разной хвори лечит. Заговоры какие-то знает, но людям никогда ничего плохого не содеяла! Ее половина Казанской губернии знала. К ней врачеваться народ приходил, помещики лошадей дорогих приводили на излечение – она всем помогала. И сюда вместе с нами переехала, в деревне по Караульной дороге живет, я ей домик срубил на два окна, печку сложил…
– Так не она ли та самая бабка Лукериха, про которую все говорят, что она в деревне Карауловке лечит? – спросил Степан.
– Она самая и есть! – закивал Никифор.
– А с травками и с корешками как же? – заинтересовался мастер. – С собой оттуда привезла?
– Какие-то с собой везла, а какие-то уже тут на Камне разыскала. Непонятно как, но про нее и тут уже вся округа узнала. Даже башкиры коней лечить приводят!
– Да, Никифор, повезло же тебе с тещей! Как есть – ведьмин зять! —засмеялся Степан.
– А что? Мы с ней дружно живем, ей много не надо, и в наши с Агафьей дела она не влезает, зато Ванятку очень любит.
– А Агафья у тебя не того? Не ворожит?
– Не, Агафья в травках плохо понимает, – ответил Никифор. – Но у Лукерьи Трифоновны мать тоже не понимала, а вот бабка травницей была, поэтому она ждет, когда наша Анютка подрастет, чтобы внучке секреты рассказать. Но Анютке только третий годок пошел, рано ей еще с бабкой по лесам шастать.
– Да, Никифор, опасно с тобой ссориться, коли у тебя такие бабы за спиной стоят! – опять засмеялся мастер.
Передние подводы наконец вскарабкались в гору и теперь готовились к спуску: поправляли упряжь, давали лошадям отдышаться и доставали тяжелые ломы, с помощью которых можно было тормозить телеги, не давая им разогнаться и потащить лошадок, которые, чего доброго, могли от этого поломать ноги.
– Степан Кузьмич, это что же, казаки? – Никифор кивнул головой в сторону уходившей вниз дороги.
С гребня горы был виден отряд из десятка всадников, которые ехали по дороге навстречу обозу. До верховых оставалось с полверсты. В руках у многих колыхались пики, так что их можно было принять за казаков. Невысокие кони, остроугольные волчьи шапки…
– Нет, это не казаки, это башкиры! – мастер сам не понял, почему его голос прозвучал так встревоженно.
Степан родился на берегах Волги, но, когда ему было двенадцать лет, всю их деревню выкупили и перевезли на новый медеплавильный Воскресенский завод. Мальчика сразу отдали в ученики постигать заводские премудрости. По воскресеньям в церкви мать часто шептала мальчику: «Молись усердно, Степушка, а то тебя башкиры к себе увезут!» Башкирских деревень в окрестности Воскресенского завода было много, и смышленный мальчик быстро примечал их традиции и обычаи.
Башкиры считали себя потомками лесных волков, и не так давно ими принятое мусульманство совмещалось с язычеством. В этом они очень напоминали русских, которые хоть и считали себя истово православными, но верили в домовых и леших, пекли блины на Масленицу.
Башкиры собирали мед и пасли стада, при этом были хорошими наездниками, стреляли из ружей и луков. Степан не раз видел, как молодые башкирские батыры, словно играясь, доставали стрелой утку в полете или останавливали бег петляющего зайца. Башкиры были отличными воинами, и многие роды почитали за честь, если русские цари приглашали их на военную службу. Но этот народ любил свои реки, поля, леса и горы и очень переживал, когда русские меняли их облик, рубили леса, вгрызались в горы и запруживали плотинами реки. От этого почти в каждом поколении башкир находились бунтари, отчего по деревням вспыхивали восстания. Поэтому заводские работники знали, что с такими соседями надо жить с оглядкой.
Вот и сейчас Степана что-то насторожило в приближающемся отряде. Он уже мог рассмотреть, что все всадники были при саблях. У некоторых воинов за спинами были ружья, у остальных – полные колчаны стрел. Мастер часто видел башкир, выехавших на охоту. В этом случае они были вооружены луками или ружьями, у пояса пристегнут длинный нож. Но у этих были сабли и пики, да и такими большими группами они никогда не охотятся. Конечно, можно предположить, что это какой-нибудь род отправил своих воинов на службу царице, но почему тогда они едут в сторону Сибири?
Конный отряд поравнялся с обозом и медленно поехал вдоль него. Мельников увидел, что половина из людей в отряде – еще юноши лет по восемнадцать. Передний воин доехал до подводы с жеребенком и, склонившись над ним, начал его трепать, что-то приговаривая.
– Не трожь скотинку, не твоя! – буркнул на него мужик.
Жеребенок в хозяйстве был долгожданной радостью, нес в себе надежду на будущее, и хозяин боялся дурного глазу.
Отряд совсем остановился. Башкиры стали пристально рассматривать обоз. Задний и, видимо, старший из всех обратился к мужику на четвертой телеге:
– Бачка, откуда руда?
– Известно откуда, с Бакальских рудников! – ответил тот.
– Чей рудники? – опять спросил конный.
– Как это чьи? – удивился мужик. – Твердышевские же!
– Ой, неправда говоришь! – усмехнулся воин. – Царь все земли нам назад вернул!
– Какой ишо царь? – тупо уставился на него мужик. – У нас же царицка!
– Царь Петр Федорович! – продолжил башкирин. – Все, что вы русские обманом взяли, все нам назад вернул!
– Да ты что? Какой ишо обман? Ведь Петр Федорович помер давно! – начал вскипать мужик.
В этот момент у воина впереди отряда в руках оказался аркан, который он сноровисто накинул на шею жеребенка. Жеребенок тут же испуганно пронзительно заржал.
– Не трожь скотинку! – взревел хозяин жеребчика, выхватывая из телеги топор.
Воин с арканом одним движением выхватил саблю, привстал на стременах и, дико взвизгнув, рубанул мужика с топором. Задний из башкир, только что рассказывающий о новых указах воскресшего царя, тоже выхватил из ножен саблю. Однако возница четвертой подводы не стал дожидаться удара – он перекатился через телегу на другую сторону и побежал вдоль обоза. Воины отряда накинулись на обозных, которые рассыпались во все стороны.
Степан взлетел на Сороку, рядом Никифор резал постромки. Достав из-за пояса небольшой нож и перегнувшись через седло, Мельников принялся ему помогать. Через несколько секунд Никифор уже был на своем мерине верхом и гнал его без седла, охлюпкой. Сорока тоже рванулась вперед. Они проскакали мимо первой подводы, где возница тоже пытался перерезать постромки, причем делал это лезвием топора – как видно, ножа у него под рукой не оказалось. Степан и Никифор перегнали мужика с четвертой телеги, со всех ног бежавшего вниз с горы.
– Эх, помочь бы землячкам! – крикнул Никифор.
– Ничем ты им сейчас не поможешь, самим бы уйти! – охолонил его Степан.
Словно в подтверждение его слов, они услышали сзади дикое взвизгивание. Два воина, заметив, что от них пытаются уйти, скакали в сторону головы обоза. Мужик на первой телеге наконец-то выпутал свою лошадь, взобрался на нее верхом и начал набирать ход. Однако первый воин быстро настиг его и точным ударом пики сшиб с коня. Бегущий по дороге мужик что-то кричал, но второй воин, догнав его, рубанул саблей сзади.
Степан и Никифор отскакали довольно далеко, и их не преследовали. Когда они оглядывались, то видели, что большинство мужиков успело добежать до леса, но как минимум двое лежали в листве со стрелами между лопаток. Что ж, цели были намного крупнее зайцев и петляли куда как хуже.
– Никифор, скачи на юрюзанский завод и расскажи там о случившемся! А я поскачу к управляющему на катавский! – распорядился мастер.
Когда через два часа он подскакал к дому управляющего Катав-Ивановского завода, то от Сороки валил пар и с ее морды летела пена. Выскочивший на шум копыт конюх схватился за голову и заорал:
– Ты что, Сороку сгубить хочешь? – но увидел глаза мастера и осекся. – Аль юрюзанский завод горит?
Степан соскочил с седла и, бросив поводья конюху, побежал в контору управляющего Никиты Абаимова. Вломившись туда, он выпалил:
– Никита Петрович! Башкиры на рудный обоз напали на Юрюзанской горе! Часть мужиков побили, часть разбежалась!
Управляющий – седой бритобородый мужчина лет пятидесяти – поднялся от конторки.
– Когда? Сам видел?
– Сам! – подтвердил Степан. – Часа два-три тому назад. Десять человек, все конные, при оружии: пики, сабли, луки и ружья!
– Из засады напали? – уточнил управляющий.
– Да нет! Просто так: ехали навстречу, начали что-то спрашивать. Откуда руда да чьи рудники? А потом у них старший сказал, что, дескать, новый царь повелел все, что обманом у башкир взято, назад вернуть!
– Ты что тут мелешь! Какой еще царь? Или ты пьян? – голос управляющего загремел.
Разговоры о том, что башкир обманули с купчей земли пресекались даже среди приказчиков завода, а тут такое смеет говорить мастер.
– Что вы, Никита Петрович, я ж ее, проклятую, в рот не беру! Только тот башкирин говорил про какой-то указ царя Петра Федоровича…
– Ну-ка тихо ты! – прервал его управляющий. – На другие заводы сообщили?
– Только на юрюзанский. Я Никифора Скобина туда отправил.
– Понятно, – сказал управляющий, – далеко не уходи, тут будь. Сходи к Глафире на кухню, она тебя покормит.
До самой ночи Степан никак не мог вырваться со двора управляющего. Никита Петрович рассылал вестовых на другие заводы, несколько раз вызывал к себе Степана и опять распрашивал о нападении. На следующий день была отправлена вооруженная экспедиция на Юрюзанскую гору. Около подвод было найдено шестеро убитых мужиков. Все телеги были перевернуты, и лошадей при них не нашли. На юрюзанский завод явились еще восемь мужиков с разгромленного обоза. Куда подевались еще семеро возниц – убиты или прячутся в лесу – никто не знал. На всякий случай их записали в беглые.
Нападение башкир на обоз с рудой прямо на Сибирской дороге было настолько бессмысленным, что не укладывалось в головах. Зачем это было сделано? Ради разбоя? Но у мужиков нечего взять. Ради уведенных лошадей? Но крестьянские лошади представляли для башкир малую ценность – слишком изъезженные.
А через неделю запылала вся округа – башкиры взбунтовались повсюду. Их небольшие отряды все чаще видели поблизости от заводов.
Три завода Твердышевых-Мясниковых стояли рядом, образуя треугольник: от Катав-Ивановского до Юрюзанского – двадцать верст, от Катав-Ивановского до Усть-Катавского – тридцать верст и от Усть-Катавского до Юрюзанского тоже около тридцати верст, причем эта дорога проходила по тракту от Уфы до Челябинска – куску древнего Шелкового пути. Такое расстояние всадник на свежем коне легко преодолевал за полтора часа, и, если на прямых дорогах не было башкирских разъездов, заводы имели возможность поддерживать между собой связь.
Четвертый завод Твердышевых-Мясниковых располагался на семьдесят верст ближе к Уфе, то есть ближе ко всей бунтующей Башкирии. Завод находился в гораздо большей опасности, и держать связь с ним было намного труднее. В ноябре, когда уже лег снег, стало известно, что Симский завод занят башкирским отрядом. Механизмы завода сильно повреждены, и мастеровые опасаются за свою жизнь.
Когда установились надежные санные дороги, до катав-ивановской конторы дошло письмо, в котором говорилось, что башкир всколыхнул бунт яицких казаков, что бунтует почти вся Оренбургская губерния. Среди казаков объявился вор, который именует себя царем Петром III. Бунтовщики берут штурмом крепости вокруг Оренбурга и заставляют солдат, офицеров и священников присягать царю. Тех же, кто от присяги отказывается, казнят без милости.
Еще в письме было написано, что многие уже признали в самозванце беглого донского казака Емельяна Пугачева. Подлые людишки от имени самозванца распространяют манифесты, в которых подбивают на бунт. С этими манифестами следует бороться и ждать в скором времени правительственных воинских команд, которые приведут всех к порядку.
Глава 7. 1754-й
Конь Азата Хакимова легко вбежал в улицу деревни. Лето набирало силу, и солнце без устали вливало тепло в листву яблонь, зелень кустарников и соцветья цветов. Раз в несколько дней грохотали грозы, и от сочетания солнечного света и свежести дождя трава росла прямо на глазах. От этого буйства жизни словно бы сходили с ума пчелы и слепни. Только пчелы весь длинный июньский день носили в улья нектар и воду, а слепни гонялись за лашадьми, норовя укусить в незащищенные хвостом бока.
Чтобы избежать укусов жужжащих джинов, конь Азата охотно шел крупной рысью от самого дома до деревни Текеево, где жил старшина всего Шайтан-Кудейского улуса Азнала Карагужин. У дома Азналы прогуливался один из его сыновей – Юлай, был он почему-то хмур и неприветлив.
– Дома ли твой отец? – спросил у него Азат.
– Дома! – коротко ответил Юлай, беря под узцы коня гостя.
Однако, когда Азат входил в дом, Юлай не поспешил отворить перед ним дверь, как того требовал обычай гостепримства, вместо этого сын хозяина куда-то метнулся. Гость хмыкнул, подумав про себя, что Юлай очень горд – в свои неполные двадцать пять лет уже полусотник, и ему пророчат быть старшиной улуса после отца. Впрочем, до этого пока далеко – Азнала еще крепко сидит в седле.
Когда он вошел в дом, Азнала был один и поприветствовал гостя по всем правилам. После этого посадил за стол и крикнул младшую жену, которая принесла гостю тарелку со свежим медом, ржаную лепешку и кружку чистой родниковой воды. Обычаи не позволяли сразу переходить к делу, поэтому гость и хозяин с полчаса обсуждали, сколько этим летом в табунах ждут жеребят и хорош ли будет мед. Впрочем, душистый запах меда из тарелки говорил сам за себя. Когда прошло нужное время, Азат перешел к делу:
– Ты, наверное, знаешь, Азнала, что этой осенью я решил женить старшего сына? – начал он.
Старшина кивнул: он знал, что сыну Азата Мирхею подобрали жену из соседней деревни.
– Отец невесты Марат Ибрагимов запросил за нее калым в двадцать кобылиц, – продолжил Азат. – Я считаю, что это очень много. Марат Ибрагимов простой пастух, мы и так оказываем ему большую честь, что берем его дочь первой женой. Я предлагал ему двенадцать кобылиц и два улья самых лучших пчел, но он упрямо просит табун из двадцати кобылиц. Я хочу, чтобы ты поговорил с ним, чтобы он так не упрямился.
Азнала вздохнул и, немного помолчав, ответил:
– Азат, ты старшина своей деревни и женишь старшего сына. Марат мог тебя обидеть, если бы запросил малый калым. К тому же, он тоже собирается женить старшего сына и ему тоже надо выплачивать калым за невесту.
– Я слышал про это, – подтвердил Азат. – Но с Марата просят только двенадцать кобылиц, а с нашей семьи он хочет взять двадцать!
– Кроме этого, Марат собирает среднего сына на службу к русским, – сказал Азнала, – поэтому ему нужно купить хорошую саблю, ружье и железный панцирь.
– В былые годы наши батыры почти всегда ходили на войну без дорогих панцирей!
– Это потому, Азат, что железо было дорого и за панцирь приходилось отдавать по сорок кобылиц. А еще потому, что стрелы били точнее ружей. А теперь мой Юлай говорит, что английское ружье может выбить седока из седла на расстоянии в двести шагов и лучше, чтобы на нем при этом был панцирь!
– Это ты верно сказал, что железо было дорого, да только башкиры при этом жили богаче и вольнее, а теперь и табуны наши стали меньше, и леса не так богаты зверем! Русские заперли наши реки, повсюду дымят их заводы! От этого кумыс и мед стали горчить! Когда мы примыкали к Московии, царь Иван обещал не чинить нам обид, обещал, что все родовые земли останутся за нами! Не пора ли нам вынуть сабли из ножен и напомнить, кто хозяин на этой земле?
– Да, Азат, русский царь обещал нашим дедам сохранить вольности, – подтвердил старшина улуса. – Но наши муллы так старательно прятали его грамоту от злых людей, что совсем потеряли ее! Ты должен понимать, что открыто выступить против властей сейчас – это обречь башкир на раззорение. Помнишь, чем все закончилось четырнадцать лет назад? Нам тогда почти удалось поднять на открытую борьбу всю Башкирию, но из-за Волги пришли воинские команды, и многие деревни, побоявшись раззорения, сами стали выдавать зачинщиков. Среди прочих схватили и меня… Нас всех отвезли на суд в Оренбург, где мы прилюдно раскаялись и повинились в бунте. Но шесть человек отказались признать свою вину и были приговорены к позорной казни, среди них был мой двоюродный брат. Их подвесили крюками за ребра, а нас всех заставили на это смотреть… Через три часа пятеро были мертвы, но ангел смерти Азраил никак не приходил за моим братом… Он висел, и пока у него хватало сил, посылал страшные проклятия в нашу сторону за то, что мы не смогли пойти до конца.
Азнала разгорячился и начал размахивать руками.
– …Ты должен понимать, что всему свое время и надо до поры сдерживать молодые горячие сердца от бунта. А еще помни, что ты – старшина своей деревни и пример для всех. Я слышал, что из последнего набега на казахов твой Мирхей привез из-за Яика несколько серебрянных блюд и может сам обеспечить калым. Если ты дашь малый калым, то и все вокруг начнут давать малые калымы и вконец обеднеют.
Азату пришлось согласиться с доводами Азнала Карагужина. Интересно, откуда он узнал про блюда? Азат строго-настрого запретил сыну говорить кому-либо о добыче. Но Мирхей был в том походе не один, и старшина улуса был прекрасно осведомлен о том, кто с чем вернулся.
В итоге Азат должен был признать, что Азнала мудр и справедлив в своих советах. Он уже собрался прощаться с хозяином, когда в дом с криком влетел Юлай:
– Отец! Жена подарила мне сына!
На его лице не было и тени той хмурости, которую Азат видел во дворе. Глаза Юлая горели огнем, из-под черных усов сверкали белизною зубы. Хозяин и гость кинулись его поздравлять.
– Отец! – воскликнул Юлай. – Я назову его Салават!
Азат и Азнала переглянулись. «Салават!» было древним боевым кличем их рода, и, согласно старинным поверьям, дать мальчику такое имя означало обречь его на вечную битву.
– Юлай, – сказал старшина сыну, – не надо спешить, у тебя есть еще несколько дней, чтобы выбрать сыну доброе имя.
– Я уже все решил! – ответил молодой полусотник. – Моего сына будут звать Салават! Салават Юлаев!
Глава 8. 1915-й
Паровоз дал призывный гудок и начал медленно ворочать чугунными лапами. Вагоны, лязгая буферами, стали один за другим нехотя повиноваться этому движению. Мимо открытых нараспашку дверей теплушек медленно поплыли торговки с корзинками, в которых были укутаны горячая гречневая каша, вареная картошка и пирожки, курящий на перроне солдатский патруль с винтовками за плечами, вездесущие мальчишки, попы в черных рясах и обжигающие взгляд своей чистотой сестры милосердия.
На самом краю платформы, никого не стыдясь, справлял малую нужду однорукий солдат. Он равнодушно шаркнул взглядом по набирающим ход вагонам, из которых на него смотрели десятки глаз. Солдат нисколько не завидовал этим двуруким и двуногим людям, потому что на них были такие же серые шинели, как и на нем, и он слишком хорошо понимал, куда они едут и что их там ждет.
Второй год войны особенно сильно чувствовался на таких больших станциях, как Самара. На Запад каждый день ползли все новые и новые эшелоны с людьми, лошадьми, сукном, шерстью, сбруей, мукой, крупой и сеном. В обратную сторону эти поезда возвращались почти порожними, словно бы где-то там, на закатной стороне русской земли, разверзлась страшная яма, которую пытались закидать живым и неживым материалом. Впрочем, со встречными поездами порой возвращались искалеченные телом и душой солдаты; глядя на все это, люди понимали, что великая война складывается для империи нехорошо.
На фронтах катастрофически не хватало патронов и снарядов, и, не выдержав напора австро-венгерских и германских войск, русская армия отступила из Галиции, Польши и Литвы. Чтобы поднять воинский дух, в конце лета царь сместил с поста верховного главнокомандующего своего дядю – великого князя Николая Николаевича – и сам занял его место.
Тронувшийся с вокзала Самары воинский эшелон въехал на мост через Волгу. Антон и Виктор сидели у раскрытых дверей вагона и сквозь мелькавшие перед глазами металлические балки моста смотрели на великую реку. Антон ковырял в зубах соломинкой, Витька докуривал взятую у кого-то «козью ножку». Оба друга находились в подавленном настроении, еще не смирившись с резкой переменой, произошедшей в их жизнях.
– Вот она какая, Волга! – задумчиво проговорил Антон. – Бывал здесь когда-нибудь?
– Нет, я дальше Уфы не ездил. У них там река Белая течет, башкиры ее Агиделью называют… – нехотя ответил Витька.
– С Урала вода тоже сюда течет. Наш Катай в Юрюзань впадает, та – в Белую, Белая – в Каму, а Кама – в Волгу. Так что сейчас под нами и вода из катавского пруда есть!
Антон хотел приободрить друга, потому что видел, что Плотников труднее переживает случившееся. Однако поезд проскочил мост, и теперь Витька с еще большей тоской смотрел на быстро удаляющуюся Волгу, которая в своих водах безмятежно несла несколько капель из родных мест.
– Я ему этого никогда не прощу!.. – пробормотал Витька и сплюнул измусоленный окурок под насыпь.
Едва расправившись с покосом, Антон и товарищи поехали в Златоуст и заключили в депо купчую на маневровый паровоз. Забирать свою покупку они, однако, не спешили, как и не спешили отдавать за нее все средства. Оставив тысячу рублей задатком, компаньоны вернулись в родной город и подали городскому голове прошение на постройку лесопильни. Весь порядок действий им расписал Иван Котенко, секретарь купца Больщикова.
Иван Денисович оказался человеком очень дельным, везде имеющим своих знакомых. Именно он подсказал, кому надо поднести пятнадцать рублей и фунт шоколадных конфет – в результате разрешение на постройку было выправлено за два дня.
За несколько вечеров на вершине Шиханной горы друзья вынули сколько надо грунта и, сколотив опалубку, принялись заливать фундамент будущей лесопильни. На изготовление бетона денег ушло даже меньше, чем они поначалу рассчитывали, поскольку совсем недавно на Катав-Ивановском заводе был открыт цех по производству цемента, и теперь не надо было тратиться на дальнюю перевозку основы для строительного раствора. Слух о том, что Метелин, Плотников и Гнедых затеяли открыть собственное дело, понемногу расползался по городу, и по вечерам к ним на стройку стали приходить знакомые и по мере сил подсоблять в работах.
После заливки фундамента Антон и Виктор стали вставать на час раньше и по утреннему холодку бежать на Шиханку. Там они выливали несколько ведер воды на корку бетонной плиты, после чего прикрывали влажную поверхность еловым лапником, который в дневные часы уберегал плиту от прямых солнечных лучей. Гнедых и Плотников спешили на работу, а ближе к вечеру на будущую лесопильню приходил Ерофей и раскидывал лапник, давая вечернему ветерку обдувать плиту. Все это повторялось день за днем две недели, пока машинист не объявил, что фундамент достаточно крепок и способен выдержать вес паровой машины.
Только теперь компаньоны направились в контору Больщикова за обещанным займом. Для всех денежных операций до этого момента им хватало собственных денег. С самого начала Иван Денисович посоветовал им не спешить с оформлением займа, чтобы отсрочить выплату процентов.
Вызванный Котенко нотариус составил долговое обязательство, и Ерофей от имени всей троицы расписался в нескольких бумагах. К вечеру следующего дня Антон, Ерофей и Виктор добрались до Златоуста и окончательно выкупили в депо аварийный маневровый паровоз.
Той ночью, когда они перегоняли паровоз в Катав, у них был настоящий праздник. Железнодорожники выпустили их на магистраль через двадцать минут после тяжелого товарняка. Паровоз скрежетал сломанной рамой, и Ерофей не давал ему разогнаться. Витька с Антохой попеременно подкидывали уголь в топку, после чего выходили на площадку, чтобы насладиться прохладным ночным ветерком.
Из паровозной трубы в распахнутое августовское небо вылетали искры и высоко над головой смешивались со срывающимися со своих мест звездами. Мимо их паровоза, пролетали сосны и ели, и было так хорошо, так вольно, что хотелось поделиться этой радостью со всеми людьми. Они забегали в кабину и кричали: «Ероха, дай сигнал!» И тогда надорвавшийся на тяжелой работе маневровый паровоз по-хулигански свистел, пугая в окрестных лесах лосей и лисиц.
В утренних субботних сумерках изгибающаяся лента железной дороги привела их к пригороду Катав-Ивановска. Остановившись недалеко от дороги, ведущей в сторону будущей лесопильни, друзья повалились на измазанный угольной пылью пол паровозной кабины и проспали несколько часов.
Железнодорожная ветка, идущая от расположенной на Транссибе станции Вязовой до Катав-Ивановского завода, была однопутной, и ее требовалось освободить к утру понедельника. Поэтому едва проснувшись и не заходя домой, компаньоны принялись готовиться к перетаскиванию тяжелой машины на Шиханную гору. Пока Ероха с Антоном колдовали с машиной, рассоединяя ее с паровозной рамой, Витька из толстых обтесанных бревен сколачивал массивный щит. К вечеру им удалось разженить движитель с паровозной тележкой, и они направились по домам, заходя по пути к знакомым и родственникам, чтобы пригласить их подкалымить на следующий день.
Утром в воскресение у паровоза собралось с дюжину калымщиков, пришедших со своими ломами и веревками, двое из них были с конями. Виктор с Антоном постелили вдоль дороги несколько толстых досок, у самого паровоза поперек первых досок положили три чугунных валика, на которые водрузили сколоченный накануне деревянный щит. Подначивая друг друга острыми рабочими шутками, мужики обвязали все еще стоящую на паровозной тележке машину и на раз-два сдернули ее на деревянный щит.
На щите к веревкам добавили конскую упряжь, в которую заложили имеющуюся пару лошадок, одни мужики вместе с конями взялись тянуть веревки, другие помогали ломами, третьи стали забирать освободившиеся сзади доски и укладывать их спереди, четвертые подкладывали под щит чугунные валики. Малым ходом тяжелый груз пополз по дороге в сторону вершины горы.
Первые минуты люди суетились больше нужного и совершали много лишних движений. Однако вскоре каждый понял, каких действий ждут именно от него, и работа выровнялась. Вокруг причудливой упряжи крутились собаки и мальчишки. Самый любопытный из них распознал в Метелине главного и, улучив момент, спросил у него:
– Дяденька, а зачем это все?
Ерофей отер рукавом потный лоб и с важным видом ответил:
– По всей империи железные дороги строят, а мы, вишь, деревянную придумали! Тут ни паровоз не надобен, ни уголь, вместо них в поезд людей впрягать можно! Сейчас вот спробуем и царю отпишем, чтобы везде так делали!
Паренек от удивление открыл рот, а мужики грянули хохотом и поволокли поклажу дальше. Через три часа деревянные рельсы уперлись в фундамент лесопильни, и после нескольких последних рывков паровое сердце будущего предприятия было водружено на свое место.
Всей артелью работники вернулись к лишенному агрегата паровозу. На этот раз веревки были привязаны к его раме, и напоминающий плененное чудовище бывший локомотив покорно поехал на Катав-Ивановский завод, где в большой домне ему предстояло переродиться в новые рельсы.
После завершения удачного дня все работники двинулись к дому Метелина, где прямо во дворе был накрыт стол с выпивкой и закуской; вокруг стола хлопотали жены будущих лесопильщиков, которым помогала дочка Виктора. Мужики поднимали рюмки и желали успеха в предприятии, вспоминали самые интересные моменты сегодняшней транспортировки, о чем-то спорили, гоготали и весело врали, рассказывая истории.
В вечернем сумраке за многими из работников стали приходить жены и старшие сыновья, их тоже тянули за стол, приносили чистые тарелки и рюмки. Максим Борзов по прозвищу Щевелыга ушел было домой, но вернулся с гармошкой, и теперь трое тут же принялись плясать и развалили стоявшую рядом поленницу. Наконец один за другим работники стали расходиться. Ерофей, Виктор и Антон каждого благодарили за работу и вручали по два рубля, но деньги приняли только четверо, остальные отказались. Кто-то поступал так от бескорыстия, другие немного хитрили в надежде на будущие скидки при распиле леса. В любом случае, все расходились довольные, и хозяева застолья были этому очень рады, потому что в рабочей среде считалось, что обидеть калымщика значило потерять удачу в будущих делах.
За две следующих недели Ерофей перебрал и смазал машину, почистил котел, починил барахлящий клапан и заменил вызывающие подозрение прокладки и монометры. Антон с Виктором за это время поставили временный каркас лесопильни и обшили его тесом. Ероха несколько раз разводил пары, пока не убедился, что машина работает как часы.
Работа спорилась и шла как по маслу. Уже стоял каркас будущего главного стола. Компаньоны заказали шкив, подшипники, ремни и диски пильного механизма. Оказалось, что при составлении сметы Ерофей оценил некоторые детали дороже, чем они стоили на самом деле. К тому же, друзья поначалу не смекнули, что оставшуюся часть паровоза можно будет сдать на переплавку, а это освободило сто семьдесят рублей. В итоге денег хватило на то, чтобы заодно заказать детали для будущего ветряка. Пусть они полежат зиму, а на следующий год можно будет разобрать дощатые стены и сложить вместо них кирпичные, а уж над ними надстроить ветряк!
До запуска лесопильни оставались считаные недели. Василий Матвеевич Больщиков обещал купить у них первые доски – ему было нужно сто шестьдесят пятиаршинных сосновых двухдюймовок, и лесопильщики теперь соображали, у кого им закупить лесин для первого подряда.
Ерофей, Виктор и Антон условились между собой, что, как только им отдадут детали для пилы, они дружно берут расчет в заводской конторе и стараются как можно скорее пустить первую опилку и начать выполнение заказа купца Больщикова. Но осенние ветры принесли беду.
На городской телеграф из губернской Уфы поступило сообщение о необходимости очередной мобилизации. Причем если в предыдущих случаях из Катав-Ивановска призывали небольшие группы по пятнадцать-двадцать человек, то в этот раз губернское начальство требовало поставить под ружье почти сотню человек. Известие распространялось по городу со скоростью молнии, и к вечеру все в городе только и говорили о том, что мужиков забирают на войну.
На протяжении двух следующих дней все заводские рабочие находились в сильном волнении. По городу ходили самые разные слухи, никто толком не знал, призывают ли только тех, кто уже побывал на действительной службе, или, наоборот, тех, кто в армии никогда не служил. Также оставался неясным предельный возраст будущих солдат.
Перед самым обеденным перерывом к работающему у своего верстака Антону подошел старший мастер цеха с листом бумаги в руках. Заглянув в листок, мастер угрюмо проговорил:
– Гнедых, тебе велено зайти в заводскую контору!
– Зачем это? – насторожился Антон.
– Ступай, там узнаешь!
С тревожным чувством Антон вышел из цеха и направился в сторону заводоуправления. Когда он проходил мимо соседнего здания, то встретил выходящего оттуда Витьку Плотникова.
– Вить, ты куда, тоже в контору? – спросил друга Антон.
– Да, мне Куницын говорит, бросай все и срочно шуруй, тебя вызывают! А зачем вызывают – не сознается!
– Вот и мой Артемьич так же!
– Ох, чувствует мое сердце недоброе! – Плотников зло сплюнул под ноги.
У здания заводоуправления стояло десятка полтора возбужденных рабочих, многие держали в руках какие-то листки. Плечистый Санька Кумиров из кузнечного цеха возмущенно размахивал руками. Санька был молотобойцем и отстукивал листовое железо после выплавки. От ударов тяжелого молота на металле образовывался наклеп, после чего такие листы не брала никакая ржавчина. Санькино лицо покрывали красные пятна, он зычно орал:
– … Я этому морде говорю, что я уже свое отвоевал! Я всю японскую отломал! Под Мукденом не раз в рукопашную ходил! У меня ухо шимозой порвано и от японского штыка в левой ноге дырка! Я ему говорю, что никуда не пойду, а он в ответ, мол, не пойдешь по-доброму, мы вызовем жандармов и под охраной тебя сведем!
Антон и Виктор вошли в заводскую контору, где дежуривший у входа мальчишка-посыльный указал на одну из дверей. Антон постучал и вошел первым. В комнате за столами сидели двое, один был из заводского начальства – слесарь не знал его имени, но не раз встречал в цехах. Второй был офицером. Антон плохо разбирался в чинах, но этот, вроде бы, был из кавалерии. Перед военным на столе лежала большая раскрытая тетрадь.
– Назовись! – без всякого приветствия обратился к нему заводской.
– Гнедых Антон Данилович.
Офицер достал пачку листков и, покопавшись, вынул один из них и протянул Антону.
– Тебе, Гнедых, надлежит сегодня к двум часам пополудни явиться в городское военное присутствие для прохождения врачебной комиссии! – сухо проговорил офицер. – Изволь расписаться в получении повестки!
Антон взял протянутый ему листок – точно такие он видел только что в руках у рабочих перед конторой – расписался напротив своей фамилии в тетради и вышел. Вслед за ним в кабинет вошел Витька и почти сразу вышел с повесткой в руках.
– Вот же крысы! – выругался Витька.
– Погоди расстраиваться, может, нас еще комиссия не пропустит! – попробовал успокоить друга Антон. – Интересно, Ероха есть в списках?
– Нет, Метелина в тетрадке не было, я посмотрел! Хорошо, хоть его не трогают, все-таки машинист! Эх, меня ведь Ероха звал к себе в помощники шесть лет назад, я тогда отказался, мне, дураку, показалось зазорным уголь в топку кидать! – стал досадовать Витька. – Сейчас бы уже тоже до машиниста вырос!
Они вышли к стоящим на улице рабочим и вместе с ними пошли в городское воинское присутствие. Надежды на то, что доктора отыщут какой-нибудь недуг не оправдались. Комиссия, состоящая из приехавших из Уфы одного доктора и двух фельдшеров, работала быстро и почти никого не браковала.
Рослые, больше похожие на коновалов фельдшеры быстро ощупывали и обстукивали человека, просили развязать портки и осматривали причиндал на предмет дурной болезни. Доктор спрашивал про обмороки, смотрел глаза и уши, после чего через трубочку слушал сердце.
Один из рабочих попробовал было сказать, что у него от матери передалась обморочность и порой случается дурнота, на что осматривающий его фельдшер тут же заметил:
– Такие болезни только у гимназисток бывают, которые французских романов много читают! А ты при заводе работаешь, и лицо у тебя полнокровное! Нечего нам тут ущербного изображать!
В итоге из всех пришедших по повесткам заводчан комиссию не прошли только двое. Одному несколько лет назад в глаз прилетела чугунная окалина, после чего глаз постоянно слезился и плохо видел. Второй еще в молодости упал со строительных лесов и сломал себе ногу, кости срослись неправильно, и мужик заметно хромал, за что получил прозвище Топтыгин.
После врачебной комисии появился тот офицер, что вручал им повестки в заводской конторе, и велел всем построиться на улице перед зданием городского военного присутствия. Выйдя на улицу нестройной гурьбой, они принялись закуривать, но офицер обругал их, назвав глупыми баранами, и стал выстраивать в две шеренги лицом к присутствию. Когда с горем пополам все встали, он вернулся в здание и вскоре появился в сопровождении важного военного с бакенбардами.
– Смотри-ка, майор! – произнес кто-то в задней шеренге.
Майор тем временем достал из нагрудного кармана монокль и принялся пристраивать его в правую глазницу. После этого он с минуту рассматривал неровные шеренги, наконец прокашлялся и заговорил:
– По приказу его императорского величества вы призываетесь в русскую армию! Отправка состоится послезавтра! Для этого за вами будет прислан специальный поезд, который должен отбыть из Катав-Ивановска ровно в полдень. Посему вам всем надлежит явиться послезавтра к 11:00 на железнодорожную станцию города. При себе иметь пару белья и запас продуктов на три дня. На все виды довольствия вы будете поставлены в Уфе после принятия присяги. В случае неявки вы будете объявлены в розыск и вами займется местная полиция! – чтобы подчеркнуть важность последних слов, майор сделал паузу и, блеснув моноклем, еще раз осмотрел строй. – Разойтись!
Следующий день прошел как в горячке. Последние месяцы все старания Антона были направлены на дела лесопильни, и в домашнем хозяйстве образовалось множество мелких прорех, которые теперь хотелось спешно залатать.
С утра он сбегал на завод, взял в конторе расчет и поговорил со старшим мастером своего цеха о принятии на работу Петьки. Старшему сыну недавно исполнилось двенадцать лет, и по закону он мог выходить на работу. Авдеич согласился принять парня – после призыва в цеху, как и по всему заводу, будет явная нехватка работников.
Конечно, Антон не так представлял себе начало работы своего первенца. Продолжая работать в цехе, он смог бы присматривать за сыном, при случае советовать и не давать в напрасную обиду. Еще лучше, если бы Петька работал на лесопильне, но что теперь делать с их затеей вообще оставалось большим вопросом.
Вернувшись с завода, Антон взял плотницкий инструмент и, позвав сыновей, направился в сарай. Здесь предстояло подправить загон у Буренки и заменить подгнившие доски в курятнике.
– Пётр! Сена мы накосили достаточно, Дядя Ерофей пообещал помочь его вывезти, как санный путь станет, – втолковывал он сыну. – До следующего лета его должно хватить, но Буренка озорничать любит и часто сено из яслей на пол крошит. Поэтому давать ей надо понемногу. Ты на работу выйдешь, поэтому днем пусть мать или Андрейка сенцо подкладывают, но ты за ними смотри и расход рассчитывай! Если я к следующему лету не вернусь, то думайте, что с коровой делать и как сено запасать! У курятника доски проверяйте, чтобы лиса к вам не сунулась!
Закончив с сараем, он занялся подполом. Выкопанная женой и сыновьями картошка все еще стояла в мешках в сенях. Надо было вычистить отведенные под нее лари, заменить в них подгнившие доски и потом ссыпать туда урожай.
– Петька, после Пасхи всю картошку надо достать и перебрать! Клубни, которые не большие и не маленькие, отложить на семена и оставить в мешках в тепле, чтобы ростки проросли!
Едва закончив с картошкой, он занялся печами в избе и бане. Поручив младшему сыну намять глины, Антон взял обвязанный веревкой кирпич и вместе со старшим сыном полез на крышу. Он показал Петьке, как надо прочищать дымоход от сажи, поднимая и опуская кирпич внутри печной трубы. Потом они полезли на крышу бани – здесь всю работу делал уже сам Петька. Спустившись, отец с сыновьями принялся замазывать сырой глиной образовавшиеся в печах щели.
– За печами, Петя, особенно блюди! Ни один вор столько унести не может, сколько пожар у людей забирает! За глиной Андрейку снаряжай, он место на речке знает, где глина хорошая! Последний раз он туда уже без меня ходил. А ты, Андрейка, брата слушайся! Золу в печах не копите, раз в две недели выгребайте и по огороду рассыпайте, чтобы землю удобрять!
Приведя в порядок истопное хозяйство, Антон спустил с чердака хранящиеся там зимние рамы. Эти рамы были нераспашными и вставлялись в окна при приближении первых заморозков. Сейчас вставлять рамы было еще рановато, но Антону хотелось хоть как-то облегчить жизнь своим домашним. Рамы были установлены в ниши, и Андрейка тщательно промазал щели оконной замазкой.
День получился хлопотным, и все валились с ног, наконец Татьяна позвала своих мужиков ужинать. Несмотря на усталость, ели неспеша, вспоминая разные семейные истории. Все словно бы хотели согреть друг друга перед долгой разлукой. Андрейка стал клевать носом, и его отправили спать. Мать пошла на кухню и принялась ополаскивать и протирать посуду, а отец со старшим сыном все сидели и сидели. Антон вперемешку и вразброд вспоминал различные хитрости домашней и заводской работы и теперь разом пытался вложить их в сыновью голову:
– Зимние лопаты под сенями хранятся, снег со двора вычищайте, не ленитесь, а то весной прихватит, и до апреля будете по льду ходить… Для бани отбирай поленья крученые и сучклявые, от болотной березы, с них жар хороший и пар неугарный… Колун не точи – он тупой лучше рубит, чем острый…
– Я помню, бать!
– На заводе, если чего не так сделаешь, не спорь и не отпирайся! Если мастер или наставник подзатыльник дадут – близко к сердцу не бери, не ты первый, не ты и последний! Но если кто другой к тебе из мастеровых с рукоприкладством сунется – не вздумай сносить! Что хочешь делай: дерись, пинайся, хоть железкой в него кидай, но не терпи! – продолжал Антон.
– Хорошо!..
– Мать береги и следи, чтобы она тяжелое не ворочала… Андрейку гоняй побольше, но зря не обижай, ты теперь его главный заступник! Пусть он школу не бросает, ему кровь из носа надо четыре класса окончить! Понял?
– Понял, бать, не волнуйся!
Петр слушал серьезно и силился запомнить все, что говорил ему отец, а у Антона сжималось сердце: он понимал, что с его отъездом у сына разом заканчивалось детство.
Утром следующего дня к городской железнодорожной станции стал подтягиваться народ: кто-то шел проводить родственника, кто-то сослуживца или соседа. Станция находилась между заводом и Катаем в полверсте ниже плотины. Поскольку большинство из отбывающих были заводчанами, в цехах до обеденного перерыва людей освободили от работы.
Антон шагал под руку с женой той же дорогой, что ходил каждый день на завод, рядом с ними шли сыновья. День выдался неожиданно солнечным: начиналась любимая землепашцами пора, нызываемая бабьим летом.
Гнедых вглядывался в знакомые лица изб, ловил на себе взгляды росших в палисадниках берез и рябин, и в груди начинало метаться сердце: «А что, если я не вернусь? Ходить тогда Татьяне до конца жизни в черном платке, а Петьке и Андрейке расти безотцовщинами!» Но он тут же гнал от себя эти мысли, стараясь ласково и весело говорить с женой.
Когда они подошли к станции, там уже толпилось много народа.
На путях стоял поезд, состоящий из четырех теплушек и прицепленного к ним локомотива. Паровоз был под парами, и Антон приятно обрадовался, увидев, что вокруг него с масленкой в руках хлопочет Метелин. Значит, Ероха повезет их до Вязовой. Около теплушек болталось несколько солдат с винтовками за плечами. Видимо, это их то ли охрана, то ли конвой: начальство боится, чтобы призывники не разбежались. Вдоль здания станции прогуливались оба городских околоточных. Полицейские были одеты по всей форме, на портупеях с одной стороны раскачивались шашки с черными темляками, на другой стороне висели тяжелые кобуры с наганами.
У крыльца со списком в руках стоял давешний офицер, которого Антон впервые встретил в заводской конторе. Слесарь подошел к нему и назвал свою фамилию, военный нашел его в списке и поставил напротив синим карандашом большую галочку.
Вскоре появился Витька Плотников, шедший в сопровождении жены и дочери. Антон только сейчас заметил, что одетая в нарядное летнее платье Верка сильно похожа на отца – тот же разрез глаз, те же рыжие волосы и веснушки. И вот что удивительно: Витька совсем не был красавцем, а свежая, наливающаяся молодым соком Верка тут же приковала к себе взгляды катавских парней.
– Посмотри-ка, Вера совсем невеста! – восхитилась Татьяна. – Говорят, если дочка на отца похожа, то будет счастливой!
Витька отметился у офицера, и они стали рядом с семьей Антона. Народу стало прибавляться, и, чувствуя близкое расставание, толпа загудела последними наставлениями.
– Федя, я тебе в тряпицу молитву зашила от стрелы и пули, читай почаще, не ленись!
– Портянки, Степ, перематывай при первой возможности. А ежели ноги на марше в кровь собьешь, то ты первым делом на ногу помочись! Это способ проверенный, сколь раз нас на японской выручал!
– …В кадке, что в предбаннике стоит, капусту не солите! Васька туда летом повадился мышей таскать и играть с ними там, так она теперь вся в мышиных кишках!
– … Вот как супротивника на мушку возмешь, надо про себя прочесть: «Во имя отца, и сына, и святого духа!», и пуля твоя в цель пойдет!
– … Как морозы станут и снег твердо ляжет, так сразу и режьте! Одну ногу на продажу можно, а остальное себе оставьте!
– … Ты уж там особенно не геройствуй! Другие пусть вперед лезут, если им надо!
– … В церкву зайди и свечу поставь Николаю Чудотворцу, он заступник твой!
– … Сначала прошлогоднее сенцо стравите, а уж потом то, что в нынешнем году скосили!
– … А я тебе говорю, что пешему в поле от конного не убежать! Зато коня под брюхо штыком угостить можно!
– Прасковью за Силантия не отдавай, пусть хоть обревется, дед у него пустозвоном был, и отец такой же! Нет моего родительского благославления, так и знай!
– … А ты скажи командиру, так, мол, и так, мне в людей стрелять вера не велит, но могу при лошадях состоять! Лучше уж малость навозом пахнуть, зато со своей головой остаться!
Из здания станции в сопровождении городского головы и настоятеля храма вышел майор. Офицер со списком подошел к нему и вытянувшись доложил:
– Господин майор! Мобилизованные явились в полном составе! Больных нет!
– Ну что же, господин штабс-ротмистр, стройте их, и будем начинать!
Повернувшись к толпе, офицер зычным голосом, перекрывающим гомон сотен людей, прокричал:
– В шеренгу по два ста-а-а-новись!
Едва услышав команду, стоящие у вагонов солдаты побросали окурки и, бросившись к станции, стали в две коротенькие шеренги по четыре человека в ряд. Призывники стали пристраиваться рядом с ними, так что вскоре вдоль дороги выстроилась длинная шеренга мужчин. Провожающие как-то сами собой отступили на другую сторону дороги, и между двумя группами родных друг другу людей словно бы пролегла пропасть.
Майор достал свой монокль и, как и два дня назад, стал рассматривать стоящих перед ним черти во что одетых призывников. Отправляясь в армию, многие надеялись на скорое вещевое довольствие и специально надевали на себя одежонку похуже. Майор поморщился: на ногах у двоих были старые галоши, из которых торчали неряшливые обмотки, еще на одном призывнике были вконец развалившиеся ботинки без шнурков, нос правого был обмотан проволокой. Тьфу, шаромыжники какие-то, а не вояки! Но делать было нечего, требовалось сказать торжественную речь и, прокашлявшись, он заговорил:
– Господа будущие солдаты! Как вы все знаете, наша страна сейчас ведет тяжелую войну со своими давними врагами: с Запада на наши земли вторглись орды тевтонов, на юге в Закавказье идут бои с войсками Османской империи! В это тяжелое время Россия взывает к своим сыновьям с мольбой о помощи и справедливом возмездии! Для защиты страны во главе армии встал сам русский царь! – майор сделал короткую паузу, давая всем возможность проникнуться важностью момента. – Теперь настало и ваше время! Россия ждет вашей помощи! За Веру, Царя и Отечество! С Богом!
При последних словах майора от группы городского начальства отделился настоятель катавского храма с кропилом в правой руке. За ним шел пономарь с небольшим медным ведром, полным воды.
– На молитву! Шапки долой! – скомандовал штабс-ротмистр.
Солдаты в начале шеренги быстро сняли головные уборы, вслед за ними стали стягивать свои шапки призывники. Подойдя к левому краю шеренги, в котором стояли солдаты, священник окунул мочальную кисть в ведро и с размаху принялся кропить святою водою стоящих перед ним людей:
– Благослови, господи, рабов твоих! Спаси и сохрани! Во имя отца, и сына, и святого духа. Аминь! Благослови на подвиг ратный! Даруй победу над супостатом! Во имя отца, и сына, и святого духа. Аминь!
Настоятель был облачен в праздничные одежды, он шел вдоль шеренги и махал мокрой кистью то вертикально, то горизонтально. Голос у священника был поставлен хорошо, и действие получалось торжественным. Многие в шеренге крестились, а Антону отчего-то вдруг подумалось, что он как будто бы присутствует на собственном отпевании. И тогда слесарь сам для себя неожиданно загадал, что если сейчас протоиерей хлестнет по нему водой сверху вниз, то Антону уже не суждено вернуться в родной Катав.
Загадал и, тут же испугавшись собственной мысли, стал гнать ее, ругая себя за бабье суеверие. Но при этом все пристальнее смотрел на приближающегося священника, а что, если и вправду махнет своим проклятым кропилом сверху вниз?
– … Укрепи дух сих воинов и обрати в бегство вражьи полчища! Во имя отца, и сына, и святого духа. Аминь!
При последних словах настоятель размашисто сверху вниз окропил стоящего в шеренге справа от Антона Витьку. Повернувшись, протоиерей макнул кропило в ведро, которое дьякон каждый раз подставлял под протянутую кисть, и продолжил благословлять строй слева от Гнедых.
Антон скосил глаза на друга. Витьке досталась изрядная порция святой воды: рыжие волосы намокли и прилипли ко лбу, капельки воды падали с бритого подбородка, вид был обиженным, и лицо казалось заплаканным. Антону вдруг стало весело – ведь Витька ничего не загадал, и, значит, ему не страшно быть окропленным.
– Умыли тебя? – еле слышно со смехом в голосе спросил Антон друга.
– Да уж, кажись, отец Василий запомнил, что я на Пасху в церкви нетверезый был!
Священник дошел до конца шеренги, и, видя это, штабс-ротмистр стал командовать отправку:
– По вагонам! Отправляемся!
Услышав команду, толпа провожающих бросилась к шеренге, чтобы в последний раз перед разлукой обнять дорогих людей. Штабс-ротмистр подошел ко второму вагону и стал в алфавитном порядке выкрикивать фамилии тех, кому надлежало ехать внутри. Антон еще раз обнял Татьяну и детей и пошагал к теплушке. Когда офицер выкрикнул его фамилию, то слесарь тут же попросил у него:
– Господин офицер, дозвольте до станции Вязовой ехать в паровозе! Машинист мой друг, поговорить напоследок надо!
Штабс-ротмистр недовольно посмотрел на Антона и уже собирался отказать, но передумал.
– Смотри, Гнедых, если вздумаешь убежать – машинист за тебя отвечать будет!
Поблагодарив, Антон пошел к паровозной подножке и стал по ней взбираться в кабину к Ерохе. Витька попробовал было тоже попроситься к товарищам, но на этот раз офицер отказал. Призывники были распределены по трем теплушкам, в каждую из которых залезли по два сопровождающих с винтовками. Майор со штабс-ротмистром заняли первый вагон, взяв с собой одного вестового. Еще один солдат залез на паровоз вслед за Антоном.
Из открытых дверей вагона штабс-ротмистр махнул рукой, и Ерофей, дав длинный гудок, открыл регуляторы паровой машины. Стоя на площадке паровоза, Гнедых видел, как толпа провожающих слегка дернулась и стала медленно удаляться. Антон отыскал глазами жену и сыновей и, сняв шапку, стал махать им на прощанье. Все трое принялись махать в ответ, Татьяна при этом краем платка утирала глаза. Рядом с ними стояли Зинаида Плотникова и ее дочь и тоже махали руками, видимо, Витька смог занять место у вагонных дверей. Верка, широко раскрыв рот, плакала навзрыд.
Поезд пересек железнодорожный мост через Катай, миновал плотину и пополз между прудом и скалой, похожей на лежащей на боку огромный гриб. Ерофей взглянул на монометры и скомандовал своему помощнику:
– Тимур, поднимай давление до восьмидесяти фунтов на квадратный дюйм!
Кивнув головой, помощник машиниста взял совковую лопату и, отворив привычным движением дверцу топки, принялся кидать уголь. В кабине быстро сделалось жарко, и Ерофей вышел на площадку к Антону. Мимо них потянулась Шиханная гора, на вершине которой угадывалась неоконченная постройка лесопильни.
– Что думаешь делать, Ерофей? – спросил слесарь, глядя на дорогу, по которой несколько недель назад они тащили на вершину паровую машину. – Машинистов на фронт не берут, но стоит тебе взять расчет – и ты можешь отправиться вслед за нами со следующей партией.
– Говорят, что хозяев мануфактур и небольших мастерских брать не велено, но там бабушка надвое сказала, – машинист достал кисет и начал сооружать цигарку. – Мне Иван Котенко намекнул, что если занести кому надо рубликов пятьдесят, то в городском воинском присутствии про меня забудут.
– Пятьдесят!? – охнул Антон. – Где же их взять-то! У тебя какое нынче жалование?
– Тридцать два целковых, – ответил Ерофей.
– Нам ведь еще со сторожем вопрос решать надо! Теперь ни я, ни Витька там ночевать не сможем! Петька мой на работу выходит, остается Андрейка, но его одного сторожить не пошлешь, да и скоро по ночам холодно будет!
– Я с дедом Афанасием поговорил, – ответил Ерофей. – Он готов по ночам лесопильню проверять, живет он недалеко и говорит, что ночью к нему сон не идет.
– И что он просит за свою службу?
– По пятнадцать копеек за ночь, – ответил машинист и затянулся крепким самосадом.
– И как на все это деньги найти? – спросил слесарь.
– Буду из загашника вынимать! Для этого и откладывал! У твоих-то как с деньгами? Без тебя зубы на полку положат?
– Авдеич Петьку в цех обещал взять, у него жалование восемь рублей поначалу должно быть. Плюс за меня им какая-то деньга будет приходить. У Витьки все хуже – у него дома одни бабы остаются!
– А сколько за вас семьям платить будут?
– Вот этого я пока не знаю! – пожал плечами Гнедых.
Ерофей повернулся к солдату, стоявшему на другом конце площадки.
– Служивый, ты чего там стоишь как неродной? Пойдем с нами покури!
Солдат подошел и с охотой взял протянутый ему кисет.
– Откуда будешь? – поинтересовался у него машинист.
– Со Стерлитамакской пристани Уфимской губернии!
– Вот как! Считай, земляки! И давно служишь? – вновь задал вопрос Ерофей.
– Уже полгода, весной призвали!
– На фронте был?
– Нет, Бог миловал! Мы к Уфимскому гарнизону приписаны, собираем новые команды по губернии и сопровождаем их до Уфы!
– И что же сопровождаемые? Бывает, что бегут?
– Некоторые с дуру бегут! – усмехнулся солдат.
– Стреляете вы по бегунам? – хитро прищурился Ерофей.
– Не, нам стрелять не велено – народ-то еще не под присягой! Они же почти все домой возвращаются, их оттуда сызнова отправляют!
– А ружья вам тогда зачем дают? – не унимался машинист.
– Как зачем? Для строгости! – вновь улыбнулся солдат.
– А семье твоей паек за тебя идет? – уточнил Метелин.
– А как же! Кажный месяц получают!
– И сколько получают? – спросил у солдата Гнедых.
– Три с полтиной! – ответил солдат и поправил съехавший ремень винтовки.
– На семью? – удивился Ерофей.
– Нет, на человека в семье! Вот у меня жена и четверо детей, двое из них малые ребята еще! Поэтому на жену и двоих старших идет полный паек, а на младших – по половинке. Получается четыре пайка, четырнадцать рублев!
– Да, не густо! – вздохнул машинист.
– А до каких лет детей малыми считают? – уточнил Антон.
– До пяти годов! – ответил солдат.
– Так вот, Ерох! Значит, мои десять рублей с полтиной получать будут, а Плотниковы семь рублей всего!
– Ох, Антоха, я теперь просто обязан запустить лесопильню, чтобы всех поддержать! – Ерофей затушил цигарку о поручень. – Ладно, мне пора идти коленца смазывать, а то Тимур там один за всем недоглядит!
Через два дня в Уфе прибывшие с Катав-Ивановского завода призывники получили новое обмундирование, которое надо было поскорее подшить и пригнать по телу, так как на следующий день была назначена воинская присяга. Рядом с казармами тут же появились какие-то сомнительные личности, начавшие наперебой предлагать обменять ненужную теперь гражданскую одежду на сахар и табак. За вещи спекулянты давали до смешного малую цену, и те, кто отправлялся из дома в справной одежде, порывались отпроситься на рынок, чтобы там выручить за нее приличные деньги. Однако фельдфебели никого из казарм дальше нужника не отпускали.
– Эх, кому война, а кому мать родна! – вздыхали вчерашние заводчане, отдавая свое одежонку за горстку табаку и обменивая совсем еще крепкие ботинки на четыре-пять кусочков сахара.
В составе команды из нескольких сот таких же, как они, мобилизованных Виктор и Антон приняли воинскую присягу и, погрузившись в эшелон, поехали на запад России. Когда их состав остановился на небольшой станции между Уфой и Самарой, друзьям выпало вместе заступать в свой первый ночной караул.
Они прохаживались взад и вперед вдоль состава, то сходясь друг с другом, то расходясь. Когда они вновь сошлись и стали негромко переговариваться, из-под вагона вдруг вылез Володька Петухов, работавший до призыва плотником в модельном цехе Катав-Ивановского завода.
– Землячки, огоньку дадите? – спросил он у Антона и Виктора.
– Куда ты, Володька? Ты же с той стороны караулить должен! – ответил Антон. – Если фельдфебель тебя тут застанет, то ты по зубам схлопочешь!
– Не застанет! Он в вагон дрыхнуть пошел, а мы тут мерзни! Я вот о чем, мужики, рассказать хотел… – Володька достал выменянную на сапоги папироску и помял ее в пальцах. – У нас в модельном Осип Когтин работает, может, вы его знаете?..
Витька кивнул, Осип жил от него через улицу.
– … Так вот, у Осипа свояк в заводской конторе служит, – продолжил Володька. – И свояк этот будто бы рассказал Осипу, что поначалу в списках на призыв ни тебя, Антон, ни тебя, Виктор, не было!
– Да ну? И кто же нас туда записал? – злым полушепотом спросил Виктор.
– Я, мужики, там рядом не стоял. Так что за что покупал, за то и продаю…
– Не тяни, Володя! Того гляди фельдфебель посты проверять сунется!
– Будто бы Алексей Антипович Куницын сказал, мол, Плотников и Гнедых не сегодня-завтра собираются расчет взять, так давайте мы их лучше в списки на отправку включим, чем кого другого от цехов отрывать будем!
Витька чертыхнулся и плюнул под ноги, а Антону тут же вспомнился их с Куницыным разговор на покосе, когда Алексей Антипович попросился в компаньоны для устройства лесопильни. В этот момент вдалеке раздались чьи-то шаги. Володька быстро полез под вагон, чтобы занять свое место на другой стороне эшелона, а Гнедых и Плотников пошагали в разные стороны.











