Читать онлайн Метафизика Аристотеля. Первая книга
- Автор: Валерий Антонов
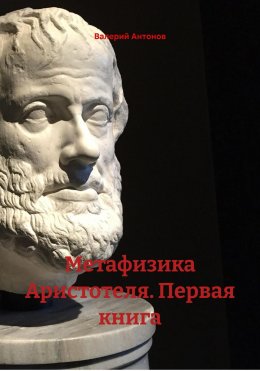
Первая книга
Содержание первой книги.
1) Философия (метафизика) – это наука о причинах вещей, наука об определенных причинах и принципах, гл. 1.
2) Это наука о конечных причинах и принципах, τῶν πρώτων ἀρχῶν καὶ αἰτιῶν θεωρητική – Cap. 2, 1—14. их общий характер 2, 15—27.
3) Указание на четыре конечные причины или принципа: субстанция, форма, движущая причина и конечная причина – Кап. 3, 1. Под эти четыре принципа могут быть подведены принципы всех ранних философов следующим образом:
a. Материальный принцип, ἀρχὴ ἐν ὕλης εἴδει, был у древнейших натурфилософов, Фалеса и др. Cap. 3, 4—14.
b. Отсюда переходят к предположению о движущейся причине, ἀρχὴ τῆς κινήσεως, точке зрения, которая у Анаксагора привела к постулированию мирообразующего νοῦς, у Эмпедокла – к разложению движущейся причины на две противоположные силы, Cap. 3, 15—4, 16.
c. Пифагорейцы и элеаты отчасти не относятся сюда, отчасти их отношение к излагаемым принципам недостаточно ясно, гл. 5, 1—25. Краткая рекапитуляция 5, 26—31.
d. Платон и его принципы: он выдвинул принцип формы, τί ἐςι (6, 15.7, 5), гл. 6.
e. Ретроспектива: Гл. 7 То, что предыдущие философы оставили нам в качестве философского достижения, есть, таким образом, 1) принцип субстанции, 2) принцип движущейся причины, 3) приблизительно еще принцип формальной причины; меньше всего четвертый принцип, принцип конечной причины, вступил в свои права вместе с ними.
4) Критика предшествующих философов, гл. 8—10. а) Древнейшие физиологи, принимавшие только один (материальный) принцип (8, 1—10); б) Эмпедокл и Анаксагор, принимавшие несколько (материальных) принципов (8, 14—20); b) (нематериальный) пифагорейский принцип числа (8, 21—31); c) платоновское учение об идеях и числах (с. 9). d) Подведение итогов: вся философия до сих пор носит неразвитый, неполноценный характер.
Глава 1
Все люди обладают врожденным влечением к познанию. Доказательством [1] этого является любовь к чувственным восприятиям, которые, даже не имея определенной практической пользы, мы любим ради них самих, и прежде всего это касается восприятий с помощью глаз.
[1] «Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει. Σημεῖον δ᾽ ἡ τῶν αἰσθήσεων ἀγάπησις: καὶ γὰρ χωρίς τῆς χρείας ἀγαπῶνται δι᾽ αὑτάς, καὶ μάλιστα τῶν ἄλλων ἡ διὰ τῶν ὀμμάτων.» (Arist. Met. 980a 21—23)
Ведь не только для того, чтобы действовать, [2] но и без этой цели мы предпочитаем зрение почти всему остальному.
[2] «…πρὸς πράξιν αἱρούμεθα αὐτὰ μᾶλλον ἢ χάριν τοῦ πράττειν.» (Cf. Arist. Met. 980a 24-25)
А все потому, что это чувство дает нам больше всего знаний [3] и лучше всего показывает вещи в их взаимном различии.
[3] «αἴτιον δ᾽ ὅτι μάλιστα ποιεῖ γνωρίζειν ἡμᾶς αὕτη τῶν αἰσθήσεων καὶ πολλὰς δηλοῖ διαφοράς.» (Arist. Met. 980a 26-27)
Итак, от природы животные обладают способностью к чувственному восприятию, [4] причем память возникает в одной их части, а не в другой, поэтому первые более разумны и послушны, чем вторые, у которых нет памяти.
[4] «Ἔχει δ᾽ ἡ μνήμη ἐκ τοῦ αἰσθάνεσθαι συμβαίνουσα τοῖς μὲν τῶν ζῴων τοῖς δ᾽ οὔ… διὸ καὶ φρονιμώτερα καὶ μαθητικώτερα τὰ ἔχοντα μνήμην τῶν μὴ ἐχόντων ἐστίν.» (Arist. Met. 980b 25 – 981a 1)
Все те, кто не может слышать звук, [5] например пчелы и подобные им животные, разумны и при этом не способны к обучению, тогда как те, кто, помимо памяти, обладает еще и этим чувством, чувством слуха, учатся.
[5] «…φρονιμώτερα μὲν οὖν τὰ ἄλλα τῶν μὴ δυναμένων ἀκούειν ἐστίν, μαθητικῶς δ᾽ οὔ, ἀλλ᾽ ἀδύνατα μανθάνειν, οἷον μέλιττα καὶ εἴ τι τοιοῦτον ἄλλο γένος ζῴων ἐστίν.» (Arist. Met. 981a 5-7)
Другие животные живут образами и воспоминаниями, [6] и практически не участвуют в опыте; человек же живет идеями и разумным мышлением.
[6] «ζῇ δὲ τὰ μὲν φαντασίᾳ καὶ μνήμῃ, ἐμπειρίας δὲ μετέχει ὀλίγον…» (Arist. Met. 980b 26-27)
Однако для человека [7] опыт возникает из памяти таким образом, что общая совокупность воспоминаний о схожих процессах в конечном итоге приобретает значение опыта.
[7] «…ἐκ μνήμης ἐμπειρία γίγνεται τοῖς ἀνθρώποις: αἱ γὰρ πολλαὶ μνῆμαι τοῦ αὐτοῦ πράγματος μιᾶς ἐμπειρίας δύναμιν ἀποτελοῦσιν.» (Arist. Met. 981a 1-3)
Действительно, можно сказать, что опыт сам по себе связан с наукой и теорией. С другой стороны, [8] из опыта человек получает науку и теорию: опыт, справедливо говорит Пол, – мать теории, неопытность – мать случая.
[8] «…ὅτι ἡ τέχνη γίγνεται ὅταν ἐκ πολλῶν τῆς ἐμπειρίας ἐννοημάτων μία καθόλου γένηται περὶ τῶν ὁμοίων ὑπόληψις. […] ἡ μὲν ἐμπειρία τέχνην ἐποίησεν, ὡς φησὶ Πῶλος, ἡ δὲ ἀπειρία τύχην.» (Arist. Met. 981a 5-7, 981a 3-4)
А теория возникает путем выведения общего положения по отношению к однородному во всей полноте эмпирических восприятий. [9]
[9] «…τὸ μὲν γὰρ ἔχειν ὑπόληψιν ὅτι τῷδε τῷ κάμνοντι τῷδε συμφέρον ἐγένετο, οἷον Καλλίᾳ καὶ Σωκράτει καὶ κατὰ ἕνα πολλοῖς τοιούτοις, ἐμπειρίας ἐστίν· τὸ δ’ ὅτι πᾶσι τοῖς τοιούτοις, ἀφορισθεῖσι κατ’ εἶδος ἕν, συμφέρον ἐγένετο… τέχνης.» (Arist. Met. 981a 7-12)
Утверждение, что это конкретное средство помогает Каллию, когда он страдает от этой конкретной болезни, [10] или Сократу и многим другим, взятым по отдельности, – это вопрос опыта, тогда как утверждение, что оно помогает всем людям одного рода, когда они страдают от этой конкретной болезни, слизистой, желчной, лихорадочной, [11] – это вопрос теории.
[10] См. предыдущую цитату [9].
[11] См. предыдущую цитату [9].
В практических вопросах опыт, конечно, ничем не отличается от теории; напротив, мы обнаруживаем, что те, кто обладает опытом [12], даже более точны, чем те, кто не обладает опытом.
[12] «…δόξειεν ἂν τὰ αὐτὰ δύνασθαι ἡ ἐμπειρία τῇ τέχνῃ πρὸς τὸ πράττειν, καὶ μᾶλλον ἐπιτυγχάνουσιν οἱ ἔμπειροι τῶν ἄνευ τῆς ἐμπειρίας λόγον ἐχόντων.» (Arist. Met. 981a 13-15)
А все потому, что опыт – это знание отдельного человека, теория – знание общих вещей, тогда как действие и производство всегда связаны с отдельным человеком. Ибо лекарь исцеляет не человека, а Каллия, Сократа или другого человека, который, конечно, тоже человек. [13]
[13] «αἴτιον δ’ ὅτι ἡ μὲν τέχνη τῶν καθόλου ἐστί, τὸ δὲ πράττειν καὶ ἡ πρᾶξις περὶ τὰ καθ’ ἕκαστά ἐστιν. οὐ γὰρ τὸν ἄνθρωπον ἰᾶται ὁ ἰατρός, εἰ μὴ κατὰ συμβεβηκός, ἀλλὰ Καλλίαν ἢ Σωκράτην ἤ τινα ἄλλον τῶν οὕτω καλουμένων, ᾧ συμβέβηκεν ἄνθρωπος εἶναι.» (Arist. Met. 981a 16-20)
Если же человек обладает понятием без опыта, знает общее, но не отдельного человека, то он часто не сможет исцелить, ибо исцелять нужно именно человека. [14]
[14] «…ὥστε εἴ τις ἄνευ τῆς ἐμπειρίας τὸν λόγον ἔχοι καὶ τὸ καθόλου γνωρίζοι, τὸ δὲ ἐν τούτῳ καθ’ ἕκαστον ἀγνοοῖ, πολλάκις ἁμαρτήσεται τῆς θεραπείας· θεραπευτὸν γὰρ τὸ καθ’ ἕκαστον.» (Arist. Met. 981a 20-24)
Тем не менее, мы считаем, что знание и разумение в большей степени относятся к теории, чем к опыту, и считаем теоретика мудрее эмпирика, исходя из того, что [15] мера знания всегда является и мерой мудрости.
[15] «…τὴν τέχνην δὲ μᾶλλον εἶναι ἐπιστήμην τῆς ἐμπειρίας ὑπολαμβάνομεν, καὶ σοφωτέρους τοὺς τεχνίτας τῶν ἐμπείρων ἡγούμεθα, ὡς κατὰ τὸ εἰδέναι μᾶλλον ἀκολουθούσης τῆς σοφίας ἅπασιν.» (Arist. Met. 981a 24-26)
Мы поступаем так потому, что один знает причину, а другой – нет. Ибо эмпирик знает только «что», но не «почему», тогда как теоретик [16] знает и «почему», и « в чем причина».
[16] «…διότι οἱ μὲν τὴν αἰτίαν ἴσασιν, οἱ δ’ οὔ. οἱ μὲν γὰρ ἔμπειροι τὸ ὅτι μὲν ἴσασιν, διότι δ’ οὐκ ἴσασιν· οἱ δὲ τὸ διότι καὶ τὴν αἰτίαν γνωρίζουσιν.» (Arist. Met. 981a 28-30)
По этому признаку мы также ставим мастеров-строителей выше и считаем их во всем более проницательными и мудрыми, чем подсобных работников, потому что они знают причину происходящего, в то время как последние, как и многие лишенные всякой духовности люди, действительно работают, но без осознания того, что они делают. [17]
[17] «…διὸ καὶ τῶν τεχνιτῶν τοὺς μὲν ἀρχιτέκτονας τιμιωτέρους εἶναι νομίζομεν καὶ μᾶλλον εἰδέναι τῶν χειροτεχνῶν, ὅτι τὰς αἰτίας ἴσασι τῶν ποιουμένων… οἱ δὲ χειρότεχνοι καθάπερ τινὰ ἄψυχα πράττουσι μὲν πράττοντα, ἀλλ’ ὃ μὴ εἰδότα πράττειν· τὰ μὲν γὰρ ἄψυχα φύσει πως ποιεῖ ταῦτα, οἱ δὲ χειρότεχνοι δι’ ἔθος.» (Arist. Met. 981a 30 – 981b 5)
о том, что они делают, подобно огню, который горит. Неодушевленное, конечно, действует в силу своей природной организации, а ремесленник – по привычке, ибо последние мудрее не потому, что они практики, а потому, что они имеют понятие и знают причины. [18]
[18] См. предыдущую цитату [17].
Вообще, способность учить – это свойство знания: поэтому мы также считаем, что теория – более наука, чем опыт: ведь теоретик может учить, а [19] эмпирик – нет.
[19] «ἁπλῶς τε σημεῖον τοῦ εἰδέναι τὸ δύνασθαι διδάσκειν ἐστίν, καὶ διὰ τοῦτο τὴν τέχνην τῆς ἐμπειρίας ἐπιστήμην μᾶλλον ἡγούμεθα· δύνανται γὰρ, οἱ δὲ οὐ δύνανται διδάσκειν.» (Arist. Met. 981b 7-10)
Мы также не приписываем чувственным восприятиям, хотя они и являются самыми прекрасными источниками знания для человека, характер науки, поскольку они не дают объяснения причин [20] чего-либо, например, почему огонь теплый, а только то, что он теплый.
[20] «…τῶν δ’ αἰσθήσεων οὐδεμίαν σοφίαν ἡγούμεθα εἶναι… διότι τὸ μὲν ὅτι λέγουσιν, τὸ δὲ διότι οὐκ ἔχουσιν εἰπεῖν οὐδενός.» (Arist. Met. 981b 10-13)
В этих условиях вполне понятно, что тот, кто первым изобрел какое-либо искусство или науку, выходящую за рамки здравого смысла, вызывал восхищение людей не только из-за пользы, которую принесло его изобретение, но и ради своей высшей мудрости. Но когда изобреталось несколько искусств и наук, [21] одни из которых служили для общей пользы, а другие – для высших духовных нужд, изобретатели последних, естественно, всегда считались мудрее изобретателей первых, потому что их науки не служили пользе.
[21] «ὁ δὴ πρῶτος εὑρών [τέχνην] παρὰ τὰς κοινὰς αἰσθήσεις θαυμασθῆναι μὲν εἰκός… […] πλειόνων δὲ τεχνῶν εὑρεθεισῶν καὶ τῶν μὲν πρὸς τἀναγκαῖα τῶν δὲ πρὸς διαγωγὴν οὖσῶν, αἰεὶ σοφωτέρους τοὺς τοιούτους τῶν τεχνιτῶν ἐκείνων ὑπολαμβάνεσθαι, διὰ τὸ μὴ πρὸς χρῆσιν εἶναι τὰς ἐπιστήμας αὐτῶν…» (Arist. Met. 981b 14-20)
Таким образом, получилось так, что те науки [22], которые не относились к удовольствиям и общим потребностям, были изобретены только тогда, когда науки последнего рода уже были развиты, и сначала там, где у людей был досуг.
[22] «…διόπερ ἤδη πάντων τῶν τοιούτων εὑρεθέντων αἱ μὴ πρὸς ἡδονὴν μηδ’ ἀναγκαῖα τῶν ἐπιστημῶν εὑρέθησαν, καὶ πρῶτον ἐν τούτοις τοῖς τόποις οὗ σχολὴ ἐγένετο.» (Arist. Met. 981b 20-22)
Так, математические науки [23] впервые возникли в Египте, потому что там было праздное жреческое сословие.
[23] «διὸ περὶ Αἴγυπτον αἱ μαθηματικαὶ πρῶτον τέχναι συνέστησαν, ἐκεῖ γὰρ ἀφείθη σχολάζειν τὸ τῶν ἱερέων ἔθνος.» (Arist. Met. 981b 23-25)
Разница между [24] искусством и наукой и другими понятиями, относящимися к ним, обсуждалась в этических книгах: настоящее [25] обсуждение имеет лишь цель показать, что обычно считается, будто так называемая мудрость имеет отношение к конечным причинам и принципам.
[24] «τί μὲν οὖν διαφέρει τέχνη ἐμπειρίας καὶ τὰ ἄλλα τοιαῦτα, εἴρηται ἐν τοῖς Ἠθικοῖς…» (Arist. Met. 981b 25-26)
[25] «ὅτι δ’ ἡ σοφία περί τινας ἀρχὰς καὶ αἰτίας ἐστὶν ἐπιστήμη, δῆλον ἐκ τῶν πρώτων ἤδη θεωρούντων ἡμᾶς.» (Arist. Met. 982a 1-2)
Таким образом, как я уже говорил, эмпирик считается мудрее того, кто обладает чувственным восприятием, а теоретик опять-таки мудрее эмпирика; точно так же мастер-строитель ставится выше подсобного рабочего, а теоретические науки – выше практических. То, что мудрость – это наука об определенных причинах и принципах, ясно из вышесказанного.
комментарии к главе 1
Понятие σοφία или первая философия в целом.
В первой главе рассматриваются теоретические точки зрения чувственного восприятия (αἴσθησις), эмпиризма (ἐμπειρία) и теории (τέχνη), объясняется их взаимная связь и устанавливается определение философии как науки о конечных причинах и принципах. Поскольку обычно считается, что тот, кто знает почему (τὸ διότι), τεχνίτης (или θεωρητικός), мудрее (σοφώτερος), чем тот, кто знает ἔμπειρος, который знает только «что» (τὸ ὅτι), из этого следует, что мудрость (σοφία) следует понимать как знание «почему», науку о πρῶτα αίτια: οὗ ἕνεκα νῦν ποιέμεθα τὸν λόγον, τῦτ ἐςίν, ὅτι τὴν ὀνομαζομένην σοφίαν περὶ τὰ πρῶτα αἴτια καὶ τὰς ἀρχὰς ὑπολαμβάνεσι πάντες («Основные причины: по этой причине мы сейчас и затеяли эту беседу, а именно: каждый принимает на веру так называемую мудрость относительно первопричин и принципов») (§. 25).
1. Платон аналогично говорит о достоинствах внешнего облика и его связи с познанием в Tim. 47, a. b. Ср. также Poet. c. 4. 1448, b, 13: μανθάνειν οὐ μόνον τοῖς φιλοσόφοις ἥδιςον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ὁμοίωςδιὰ τοῦτο χαίρουσι τὰς εἰκόνας ὁρῶντες, ὅτι συμβαίνει θεωροῦντας μανθάνειν καὶ συλλογίζεσθαι τί έκαςον («Гадать могут не только философы, но и другие; поэтому они радуются тем образам, которые обозначают, что им случается угадывать и отображать то, что они угадали»). – Аристотель. В отличие от Платона, Аристотель придавал большее значение чувственному восприятию как источнику знания. В своей работе «О душе» (De Anima) он утверждает, что чувственное восприятие – это основа познания, так как оно предоставляет данные о внешнем мире. Однако Аристотель также подчеркивает, что чувственное восприятие само по себе недостаточно для достижения истинного знания. Оно должно быть обработано и осмыслено разумом.
3. О чувстве и смысле. 1. 437, 8, 5: διαφοράς πολλὰς εἰσαγγέλλει καὶ παντοδαπὰς ἡ τῆς ὄψεως δύναμις διὰ τὸ πάντα τὰ σώματα μετέχειν χρώματος, ὥςε καὶ τὰ κοινὰ διὰ ταύτης αἰσθάνεσθαι μάλιςα, λέγω δὲ κοινὰ, σχῆμα, μέγεθος, κίνησιν, ἀριθμόν (Сила зрения передает многие и различные различия, поскольку все тела имеют цвет, что позволяет воспринимать через него даже обычные вещи; под обычными вещами я подразумеваю такие аспекты, как форма, размер, движение и число). Аналогично, de anim. III, 2. 426, b, 10. Различие выражает уникальное определение и бытие разумной сущности по отношению к другой, ср. Met. VIII, 2, 3. 6. 7. Качество (ποιότης) вещи есть различие (ἡ διαφορὰ) ее сущности, Met. V, 14, 1. 6. Через различия (διαφοραί) определяются форма и сущность вещи: похоже, что рассуждение о различиях должно быть рассуждением о типе и деятельности, Met. VIII, 2, 16.
Беккер пишет по переданному тексту, хотя две лучшие рукописи E и Ab опускают τι. Вульгата действительно поддерживается как лучшим греческим употреблением, так и аналогичными фрагментами, например, Met. X, 1, 32: «и мы ссылаемся на значительную меру вещей и на восприятие по той же причине, что мы знаем что-то о них»: однако Аристотель обычно предпочитает использовать глаголы, которые обычно требуют объектного аккузатива, в абсолютном смысле, когда объект должен считаться неопределенным.
4. Man vergleiche folgende Stellen, für den ersten Satz φύσει μὲν οὖν αἴσθησιν ἔχοντα γίνεται τὰ ζῷα, de sens. et sens. 1. 436, b, 10: τοῖς ζώοις, ἡ μὲν ζῷον ἕκαςον, ἀνάγκη ὑπάρχειν αἴσθησιν τέτῳ γὰρ τὸ ζῷον εἶναι καὶ μὴ ζῷον διορίζομεν – fürs Folgende Anal. post. II, 19. 99, b, 34: φαίνεται τῦτο πᾶσιν ὑπάρχον τοῖς ζώοις· ἔχει γὰρ δύναμιν σύμφυτον κριτικὴν, ἣν καλέσιν αἴσθησιν ἐνώσης δ αἰσθήσεως τοῖς μὲν τῶν ζῴων ἐγγίγνεται μονὴ τὸ αἰσθήματος, τοῖς δ οὐκ ἐγγίγνεται [zugleich eine Bestättigung des Bekker’schen ἐγγίγνεται in uns. St.]. – ἐκ μὲν οὖν αἰσθήσεως γίνεται μνήμη, ἐκ δὲ μνήμης πολλάκις τῷ αὐτῶ γινομένης ἐμπειρία· αἱ γὰρ πολλαὶ μνῆμαι τῷ ἀριθμῷ ἐμπειρία μία ἐςίν. ἐκ δ ἐμπειρίας ἢ ἐκ παντὸς ἠρεμήσαντος τὸ καθόλε ἐν τῇ ψυχῇ, ὃ ἂν ἐν ἅπασιν ἓν ἐνῇ ἐκείνοις τὸ αὐτό, τέχνης ἀρχὴ καὶ ἐπιςήμης, ἐὰν μὲν περὶ γένεσιν, τέχνης, ἐὰν δὲ περὶ τὸ ὄν, ἐπιςήμης. Dazu Trendelenburg de anim. S. 170 f. und Waitz Comm. z. d. St. (пер.: Сравни следующие отрывки, для первого предложения φύσει μεν ουν αισθησιν εχοντα γίνεται τα ζωα, de sens. et sens. 1. 436, b, 10: τοις ζώοις, η μεν ζωον εκαςον, необходимость существуетν αισθησιν; τέτω γαρ το ζωον ειναι és μη ζωον ernρίζομεν – для следующего Anal. post. II, 19. 99, b, 34: кажется, что у животных нет ничего другого; ибо у него есть сила врожденной проницательности, которая называется aesthesia; по сочетанию ощущений, у одного из животных одно чувство, у другого ни одного [одновременно в нас рождается насыщение (Беккер) – из одного ощущения получается память, а из памяти многократно опыт того, что из нее делается; ибо множество воспоминаний о числе есть один опыт. И от опыта, или от всего того, что успокоило все вещи в душе, если в одной и той же вещи в душе, если в одной и той же вещи в них, начинается искусство и прозрение, если от рождения, то искусство, а если от бытия, то прозрение. Dazu Trendelenburg de anim. p. 170 f. und Waitz Comm. z. d. St.).
То же место и значение, которое отводится μνήμη («память») в нашем отрывке, когда она выступает как посредник между αισθησις («эстетика») и φαντασία («фантазия»), с одной стороны, μάθησις и опытом – с другой, Аристотель отводит ей и в других местах, например, в de memor. 1. 449, b ff., где более подробно рассматривается ее отношение к φαντασία по имени; см. также Trendelenburg на de anim. p. 167 ff.
Что касается текста нашего отрывка, то чтение Александра и Codd. Ab Db ταυτα φρονιμώτερα και μαθητικώτερα («чем осторожнее и опытнее»), также одобренное Фонсекой, заслуживает явного предпочтения перед другим τα μεν φρόνιμα, τα δε κτλ («хорошо воспитанные, далеко не очень высоко ценимые и т.д.»), которая, очевидно, основана на тревожной эмендации и совершенно противоречит аристотелевскому способу развития мысли. После того как Аристотель в предыдущем изложении разделил животных на два класса, на тех, которые не имеют памяти, и тех, которые имеют память, он теперь сначала высказывает совершенно общее суждение о животных последнего класса, что они φρονιμώτερα και μαθητικώτερα των μη δυναμένων μνημονεύειν («более совершенные и более ученые, чем те, кто не может быть помянут»), а затем только ил он также делит этот класс, под углом зрения чувства слуха, опять на два класса, на ζωα φρόνιμα и ζωα μαθητικά.
Может удивить предикат φρόνιμος, который в нашем отрывке приписывается животным. Также Александр Schol. 521, b, 25 объясняет, что данное значение этого слова является необычным и замечает: κυρίως ἡ φρόνησις περὶ τὰ βελευτὰ καὶ ἐν τῷ βελεύεσθαι, καὶ λέγεται ἕξις βελευτική. Это, конечно, обычное употребление слова у Аристотеля, см. Eth. Nic. VI, 5. 1140, a, 25: δοκεῖ δὴ φρονίμε εἶναι τὸ δύνασθαι καλῶς βελεύσασθαι περὶ τὰ αὐτῷ ἀγαθὰ καὶ συμφέροντα ̇ – ὥςε καὶ ὅλως ἂν εἴη φρόνιμος ὁ βελευτικός· λείπεται ἄρα φρόνησιν εἶναι ἕξιν ἀληθῆ μετὰ λόγε πρακτικὴν περὶ τὰ ἀνθρώπῳ ἀγαθὰ καὶ κακά· подобно Eth. Nic. VI, 11. 1143, a, 8 ff. VI, 13. 1143, b, 20 ff. Polit. III, 4. 1277, a, 14 ff. b, 25 ff.; см. Trendelenburg к de anim. III, 3, 3. В нашем отрывке, однако, φρόνιμος, кажется, употребляется в значении, близком к μαθητικός, как часто у Платона, который, например, в Conv. 202, a. употребляет φρόνησις как синоним σοφία и в противоположность ἀμαθία. Тем не менее, и в нашем отрывке, как правильно замечает Trendelenburg, можно без натяжки сохранить обычное аристотелевское определение φρόνιμος: δυνατὸς καλῶς βελεύσασθαι περὶ τὰ αὐτῷ ἀγαθὰ καὶ συμφέροντα, что также делает Александр, когда он оправдывающее добавляет: λέγεται φρόνησις καὶ ἡ περὶ τὰ πρακτὰ φυσικὴ εὐςροφία, ἥτις ἐν τοῖς μνημονεύειν δυναμένοις γίγνεται. То, что у человека является практическим разумом, у животного является практическим инстинктом. Яркий комментарий к этому дает Eth. Nic. VI, 7. 1141, a, 26: διὸ καὶ τῶν θηρίων ἔνια φρόνιμά φασιν εἶναι, ὅσα περὶ τὸν αὐτῶν βίον ἔχοντα φαίνεται δύναμιν προνοητικήν.
5. Hist. anim. IX, 40.627, a, 17: αἱ μέλιτται – ἔςιν ἄδηλον ὅλως εἰ ἀκέεσιν.
О значении слуха (которое превышает значение зрения) для познания и обучения, особенно de sensu et sens (смысла и значения). 1. 437, a, 4: τῶν αἰσϑήσεων πρὸς μὲν τὰ ἀναγκαῖα κρείττων ὴ ὄψις πρὸς δὲ νοῦν ἠ ακοή – προς φρόνησιν η ακοη πλειςον συμβάλλεται μέρος· ο γαρ λόγος αιτιός εςι της μαθήσεως ακεςος ων – διόπερ φρονιμώτεροι τῶν εκ γενετης εὶσὶν ὲκατὲρας τῆς αὶσϑήσεως οὶ τυφλοὶ των καὶ κωφῶν («Среди чувств зрение превосходит нужду, а слух больше способствует разумению, ибо разум – причина обучения, происходящего от слуха. Таким образом, слепые и глухие менее мудры, чем те, кто от природы наделен каждым из чувств»).
6. Относительно содержания §. ср. de anim. II, 3. 415, a, 5 ff. Утверждение τὰ ἄλλα ζῶα ἐμπειρίας μετέχει μικρόν может показаться заслуживающим внимания. Поскольку аристотелевская ἐμπειρία, как станет ясно из дальнейшего, уже является собственно теоретической рациональной деятельностью, созерцательной мыслью, λογική τις γνῶσις (Alex. Schol. 522, b, 29), кажется странным, что она тем не менее, пусть и в меньшей степени, приписывается животным. Однако Александр справедливо замечает: ἐμπειρίας μετέχειν παρὰ τὸν ἄνθρωπον τὰ ἄλλα ζῷα μικρὸν εἶπεν, ἤτοι ὅτι μηδὲν λέγων (для этого выражения см. многочисленные примеры, собранные Pierson в Möris on the Philet. of Ael. Herod. p. 450 и у Гейне на Il. V, 800. Tom. V. p. 149), ἢ ὡς καὶ ἐν ἐκείνων τισὶν ἐπ» ὀλίγον ἐγγιγνομένης ἐμπειρίας, ἀνάλογον ὥσπερ εἶπε καὶ περὶ φρονήσεως.
8. Иногда Аристотель цитирует фразу Пола (ср. об этом известном ученике Горгия Grön van Prinsterer, Prosop. Plat. p. 184 ff. Foss, de Gorg. Leont. p. 61. Spengel, art. script. p. 84 ff.): η μεν Erfahrung τέχνην εποίησεν, η δ απειρία τύχην. Аристотель взял это предложение либо из платоновской «Горгии» (в таком случае реестр платоновских цитат Целлера в Aristotle Plat. Stud. p. 201 должен был бы быть увеличен за счет данного отрывка), либо из σύγγραμμα Пола, также уже цитируемого Платоном. Ибо у Платона Пол говорит то же самое почти теми же словами: ω Χαιρεφων, πολλαι τέχναι εν ανθρώποις εισιν εκ των εμπειριων εμπείρως ευρημέναι; Опыт μεν γαρ ποιει τον αιωνα ημων πορεύεσθαι κατα τέχνην, απειρία δε κατα τύχην («Херефон, многие ли искусства постигаются людьми благодаря опыту?, ибо он направляет наши дни искусством, а неопытность – случайностью») (Gorg. 448, C. wozu die Anm. Heindorf’s und Stallbaum’s). Уже по одному этому отрывку схолиаст замечает: φασι μη εξ autσχεδίου τον Πωλον ταυτα ειπειν, προσυγγραψάμενον δέ (Schol. in Plat. S. 338. Bekk.., 101. Ruhnk.), и прямо говорится далее ниже Gorg. 462, b: Πωλ. А все же, что ты отдаешь риторике? Сок. Pragma o fis συ ποιησαι τέχνην εν τω συγγράμματι ο εγω εναγχος ανέγνων. Павел. Что ты говоришь? Сок. Соответственно этому и Сириан в своих Scholien zu den ςάσεις des Hermogenes (Rhet. graec. Walz. IV, 44) говорит: οθεν και Πωλος ο Γorgία μαθητης εν τη τέχνη (об этом значении τέχνη S. Stallbaum zu Plat. Phaedr. 171, C.) φησίν ̇ πολλαι τέχναι εν ανθρώποις εισιν εκ εκ των εμπειριων εμπειρίας [schreibe εμπείρως] ευρημέναι. Смысл рассматриваемого предложения, на горгийский резонанс которого справедливо обращает внимание платонический схолиаст (Schol. in Plat. p. 338. Bekk.: σκόπει τα πάρισα του Πώλε, experience – απειρία, τέχνη – τύχη), не может быть иным, как таким: опыт (т. е. старательный эмпиризм) ведет к искусству (т. е. к теории), неопытность дает цену случайности. Anders Eth. Nic. VI, 4. 1140, a, 18: τρόπον τινα περι τα αυτά εςιν η τύχη και η τέχνη, καθάπερ και Aγάθων φησι τέχνη τύχην εςερξε και τύχη τέχνην» («В каком-то смысле удача и искусство взаимосвязаны, ведь Агатон утверждает, что искусство обнажает удачу, а удача – искусство.»). Dazu Rhet. II, 19. 1392, b, 7 ff.











