Читать онлайн Коханна
- Автор: Анна Акулова
- Жанр: Исторические любовные романы, Биографии и мемуары, Книги о войне
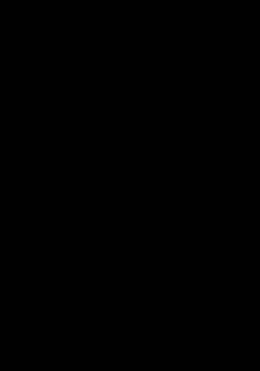
Глава 1 Мама
Посвящается моей бабушке Анне, чья замечательная жизнь вдохновила маму на мое имя, а меня – рассказать почему. А также миллионам судеб, в чьи жизни вмешалась война, в том числе, О. Тебя нет рядом. Ты всегда со мной.
1933 год, село Лобки Погарского района
“Не дождешься!”, – в сердцах подумала Аня. Горечь и обида за мать застучали молоточками сначала в груди, а потом – в висках.
Полуденное солнце ярким светом заявляло о своих правах на чудесный летний день. Домотканая кисея на окнах большой светлой избы пыталась сгладить его неуемный и неуместный сегодня напор. Подоконники густо уставлены горшками с геранью. Шапки алых цветов, пропуская лучи, пылали красным цветом, как будто поддерживая светило. Пылинки кружились в незамысловантом танце, как всегда немые ко всему на свете.
Со двора доносились привычные звуки. То вдалеке глухо замычит корова. То проедет где-то внизу по улице телега, скрипя колесам. То у самых сеней деловито закудахчет квочка. Как если бы она умела считать и неожиданно не досчиталась одного или парочки своих пищащих желто-пуховых наследников. Из палисадника вновь и вновь слышится деловитый баритон майского жука. Будто он, пролетая, сообщал всем, у кого только есть уши, последние новости с полей или откуда он изволил явиться.
День был как день. По-видимому, ни герань, ни солнце, и никто на свете кроме Ани не чувствовали и не слышали той тишины, которая тяжело заполняла светлицу. Тишину стало слышно сквозь все шорохи и звуки, доносившиеся со двора и из сеней.
День был бы как день. Если бы Аня не чувствовала кожей эту тишину. Если бы она не ощущала как безвозвратно становится взрослой, в свои четырнадцать. Прямо сейчас в майские ласковые дни. Когда хочется маленькой девчушкой бежать босоного по сочной траве с косогора прямо в прохладу реки.
День был бы как день. Если бы мама не смотрела на нее прозрачными сейчас, а когда-то ярко голубыми как васильки, глазами. Если бы только она привычно суетилась по хозяйству где-нибудь на дворе или в “холодной” избе. Вместо того, чтобы лежать здесь и наполнять горницу звенящей тишиной.
Низкие и тяжелые дубовые двери в сени и на улицу оставили открытыми. Чтобы прогретый солнышком воздух мог свободно течь по всей избе. Он приносил запах поздней разнотравной весны со двора, смешанный с ароматами бесчисленных пучков растений и корений, что висели в сенцах. Их каждый год собирала, сушила, переплетала, а потом развешивала в разных частях дома старенькая бабушка Анюты – Таисия.
В сенцы то и дело кто-то заходил, что-то перекладывал, перевешивал, открывал и закрывал сундуки. Зачем-то именно сейчас понадобилось бегать в “холодную” избу через общие с “теплой” половиной низкие, но просторные сени. Как будто этот кто-то чего-то ждал, каких-то новостей, но пройти в избу и спросить не решался.
Анюта сделала глубокий вдох, чтобы усмирить себя. Не здесь и не сейчас. В этой горнице нет места обидам, злости или ревности. Она заполнена скорбью и тихой грустью. Заполнена до самого верха. Как тяжелые сундуки в сенях заполнены всяким хозяйским добром.
– Мама, аль что хочешь? воды? – проговорила Аня, заранее зная ответ. Она взяла болящую за руку. Совсем легкая и такая бледная. Кожа на ней, как и на всем теле, слегка пожелтела. Вены как-то враз стали видны. Аня никак не могла понять, как получилось, что совсем недавно мама Маша носила полные ведра молока, с легкостью взбивала масло в тяжелой кадушке. А теперь с трудом держит чашку воды. И почему жизнь так стремительно покидает маму Машу. И почему она, Аня, никоим образом не может хоть чуть чуть замедлить это неестественное движение в Никуда.
– Спасибо доченька, – еле слышно, но внятно, без надрыва или жалости к себе прошептала мама. И от ее тихого уверенного голоса Ане стало спокойней.
“Может, все и обойдется”, – пронеслось в ее белокурой голове с золотистыми косами. Но от одного взгляда на мать мысль растворилась, как будто никогда не думалась.
Послышалась тяжелая и вместе с тем неуверенная поступь отца Ани – Демьяна. Через мгновение он показался в дверях горницы. Рослый, рыжеволосый и коренастый, как молодой бычок. Два года как Демьян Сипейко разменял седьмой десяток. Но если не заглядывать в метрику, ни в жизнь не угадать, сколько ему лет от роду.
Коханки издревле были моложавыми, крепкими и, что греха таить, любвеобильными. “Божьи любимчики” – то ли с завистью, то ли с любовью называли род Сипейко на селе. Сильные и зажиточные обычно вызывают восхищение – у сильных и зажиточных. И зависть – у мелких духом людей.
Зайдя в горницу, отец, уставившись в Красный угол, потянулся сложенными перстами ко лбу, чтобы проделать привычный десяткам поколений брянских казаков нехитрый ритуал. Но с пальцами у самого лба Демьян вспомнил, что сейчас 1933 год, и что село Лобки уже два года как превратилось в колхоз Красные Лобки, и что в Красных Лобках не крестятся. Он вроде бы раздумал осенять себя крестом в присутствии дочери. “А ну как прилепится привычка, да дите где-нибудь в сельсовете истово закрестится”, но через еще мгновение не удержался и перекрестился. “Отходит моя Машенька, – подумал он, – черт с ним, с сельсоветом”.
– Как она? – по привычке властно изрек Демьян. Но почему-то дальше мАтицы (Матица – центральная горизонтальная балка под потолком русской избы. Она условно делила жилище на две равные части, до нее – гостиная-коридор, а после – пространство строго для своих – здесь и далее Прим. автора) в светелку не прошел, а остановился в собственном доме как чужак, ближе к сенцам.
– Все то же, батюшка. Все то же – заверила Аня. За что получила благодарный взгляд мамы, от которого защемило сердечко. Молоточки снова застучали в висках и в глазах стало едко.
– Все то же – энто хорошо. Резонно и по-хозяйски вывел отец. Тон его говорил “сделаю вид, что я верю, что все хорошо. Но было бы здОрово, если бы это была правда. Было бы правда здОрово, донюшка. Не моя вина, что все так образуется.”
Вслух он такое никогда бы не произнес, не повинился, Аня тонко чувствовала его переживания и без слов. Чувствовала, а умом не верила. Из “холодной” избы послышался звон упавшей крынки и непроизвольный возглас Ксении “Ай, Божечки!” Голос мелодичный звучный и предательски здоровый. Такой, какой и должен быть у молодой пышногрудой и полнотелой крестьянки. Такой, который тяжело простить, когда ты держишь невесомую руку умирающей матери.
– Все проходит, доченька, пройдет и это. Всегда все к лучшему, – мама словно извинялась за отца, как будто было что-то давнишнее между ними, что прошло, и теперь наступила ее очередь прощать.
Аня хотела быть такой же мудрой и терпимой, как мама, силилась, не понимая до конца, принимать уготованное судьбой. Молоточки застучали по наковальне в висках. Как бы Аня хотела смотать веретено времени. Хотя бы на одно мгновение назад. Чтобы Ксения ничего не роняла и не кудахтала красивым голосом, напоминая о своем гадком присутствии в отчем доме, всего в нескольких саженях от лежанки укрытой красным одеялом матери.
“То-то будет, когда Иван приедет. То-то будет”, то ли с опаской, то ли со злостью плюхнулся в озерцо ее обиды камешек. И когда мысль разлилась в воображении в полную картину приезда старшего брата, маминого любимчика и заступника, молоточки в висках устроили настоящую революцию, а голубые глаза Анюты наполнились страхом. Страхом преддверия чего-то ужасного и непоправимого, а главное – неизвестности. А это самый сильный страх. Сильней него только страх смерти.
– Ксения на стол собрала, – не терпящим возражений тоном сказал отец.
– Иду, папа, – сказала Аня, вставая с лежанки, немного удивленная тому, что вместо батюшка или тятя зачем-то сказала “папа”. Хотя чему удивляться, если каждую минутку тратишь на чтение книг, а они то и дело о дворянской да о купеческой жизни, в которой барышни кличут тятю папА. Гораздо более удивительно, что отец пришел позвать ее к столу.
Глава крестьянской семьи обычно никого за столом не ждет и уж точно не бегает обеденным глашатаем. Если бы он пришел позвать ее к столу месяц назад, она наверное от изумления не смогла бы сдвинуться с места. Но за последний месяц в их семье произошло много событий, не помещающихся в сундучок обыденности. Анина душа ими напиталась с лихвой и попросту устала удивляться.
Она молча и покорно шла, не ощущая голода и стараясь не замечать, что вокруг стола и отца хлопочет Ксения. Ее наняли помочь по хозяйству после того, как слегла мать. Анюта не сразу обратила внимание на ее женскую манкость. При первом взгляде на Ксюшу девочка про себя заметила, что грудь и руки жинки полные и мягкие, как у попадьи. Лицо, почти не тронутое солнцем и морщинами, излучает здоровье и ласковость. Кисти рук при этом большие и натруженные, босые ноги – в мозолях и натоптышах. Словно верхняя часть Ксении была из одного человеческого набора, а нижняя, примерно от пояса – из другого. Аня еще попыталась тогда представить вместе оставшиеся части Ксениного наборного тела и улыбнулась. Явившаяся воображению женщина с изящными ногами, тонкими пальцами и грубым крестьянским лицом была гораздо смешнее настоящей Ксении.
Через время оказалось, что нанятая в хозяйство женщина готова брать ночные сверхурочные и выполнять не только обязанности батрачки. Было еще одно амплуа, как сказали бы театралы, бесстыдная очевидная роль. Неясно было одно: как такое вообще может быть на глазах у всего села и домочадцев! Ох, Коханки!
Глава 2 Бабушка Коханиха
То же село Лобки, но гораздо раньше
Кто и за что окрестил Лобки Лобками доподлинно неизвестно. Вполне вероятно их так величают за мягкие выпуклости – не то пригорки, не то пологие холмы – ни дать ни взять – лобок на красивом земном зеленом теле, усыпанном луговыми цветами и испещренном серебром неглубоких разливных рек.
Имя поселения сохранилось еще с семнадцатого века, когда здесь хозяйничал шляхтич Рачинский панского польского рода. Так бы и хозяйничал пан, да в середине века вскипело восстание под предводительством Богдана Хмельницкого, главным образом, из-за веры. Речь Посполитая освящена католическим четырехконечным крестом, а Стародуб, Погар, Почеп, Мглина тяготели к восьмиконечному православному. В 1654 году жители Погара, к которым относились лобковчане, присягали на подданичество русскому царю.
Если глянуть на карту России века двадцатого, то в западной части видно будет небольшой отросточек в виде головы акулы-молота. Застряла эта акулья голова между Белоруссией и Украиной, словно сунулась поглядеть, что у соседей делается. Лобки будут примерно на шее у этой акулы, если, конечно, у акул есть шея, что весьма сомнительно. То что есть Лобки, слава Богу, сомневаться не приходится.
Дом Коханков громоздился на выпуклом пригорке, на одном из “лобков”. Огромное крестьянское хозяйство растянулось вплоть до самой речки. По весне ее воды бурлили, как будто что-то варится. Так она и значилась с незапамятных времен – Варенец. А местные ласково называли ее Вареник.
На противоположном “лобке” красовался пряничный домик церкви. Чистенькая и беленькая, с четко очерченными синими куполами на фоне хрустального неба и зеленой травушки-муравушки церквушка так и просилась на холст. Если бы сюда телепортировался или приехал своим ходом Репин, то не удержался бы и кинулся ее писать. А потом бы увидел как чуть выше по речке приветливо и без устали машет лопостями-ручищами мельница. Илья Ефимович бросил бы незаконченный пейзаж с церковью. Побежал бы знаменитый “передвижник”, сломя голову, на телеграф, коря несовершенство действительности за отсутствие Интернета, соцсетей и смартфонов. Как было бы чудесно передать картинку в одно мгновение, но увы! Уставший и взмокший, он телеграфировал бы Шишкину, промакивая испарину белым батистовым платочком. “Иван Иванович, милейший, срочно закладывайте шестерку лошадей и всенепременно мчитесь в Лобки, что в Орловщине в нескольких верстах от Погара. Я вам такую мельницу уготовил, такой пейзажик, что вы ахните!” И ждал бы Шишкина, борясь со жгучим желанием изобразить излучину Варенца с мельницей самостоятельно (Правда в том, что в 1870 году художники Илья Репин, Иван Шишкин вместе с Иваном Крамским, Василием Перовым, Николаем Ге, Григорием Мясоедовым основали Товарищество передвижных художественных выставок. Правда и то, что Репин и Шишкин были приятелями. Но подыскивали ли они друг другу пейзажики – об этом автору ничего не известно. Известно то, что художники-передвижники искренне желали познакомить простых людей с искусством и красотой).
К сожалению, среди обитателей Лобков не было сколько нибудь значимых художников и хранились лобковские красоты исключительно в сердцах сельчан, в той папочке что называется “Родные просторы”.
Помимо отсутствия художников в Лобках наблюдалось отсутствие врачебного участка. Ближайший земкий доктор квартировался за 10 верст в Погаре. Одним из неоспоримых достоинств доктора было то, что его услуги были безкоштовны, то есть – даром. Оплачивало работу врача земство. Хотя ни один из болящих не смел прийти без копеечки или какого-нибудь подношения. К недостаткам врача любой профессиональной пригодности относилось то, что он был один на несколько тысяч человек и мог оставаться по несколько дней на каком-нибудь хуторе у богатого больного. Попасть на прием было не просто. Ездили к земскому доктору в случае крайней нужды.
Врачей в селах долгое время заменяли бабки. Услуги добровольного заместителя были не бесплатны. Бабке, независимо от возраста, полагалось “серебрение” или подношение в виде хлеба, яиц, платков. Обитатели Лобков Погарской волости чаще всего обращались с недугами к Таисие Коханихе, потомственной ведунье, знахарке и повитухе.
Высокая, осанистая да по молодости фигуристая, она была взята в жены Степаном Коханком. Жениться на ведунье – смелый шаг, граничащий с легким слабоумием и, так сказать, недальновидностью. Видит ведь насквозь. Но Коханки – на то и Коханки, чтоб жениться по любви на самых красивых девках. Не взирая на прошлое, место в деревенской иерархии, бедная или зажиточная. Единственное, что имело для них значение – внешняя и внутренняя красота девушки.
Бог любил их род. Посылал в наследники здоровеньких ребятишек, по преимуществу мужского пола. А по старой системе наделы земли под угодья выдавались по количеству сыновей. И так из года в год, из поколения в поколение хозяйство Коханков ширилось да прибавлялось.
На Брянщине не приняты загородки. Дом, амбар и другие хозяйственные постройки ничем не ограждены и видимы со всех сторон. Как и жизнь каждого обитателя, как принято в сельской местности.
Если спуститься вниз от дома Коханков по широкой и некрутой тропе, то попадешь к запруде. Здесь сельские бабы с верхних Лобков тяжелыми вальками выбивали замоченное в кадушках с щелоком белье. Выбивали и полоскали тут же, в речке. Помимо белья, как водится, полоскали всем без исключения соседям кости. Мокрое белье приносили и уносили хлопцы, стараясь унести ноги до того, как попасть на язык говорливым девкам да бабкам. Хохот перемежал добродушные смешки с незлобивой руганью, потом вновь хохотали. Запруда могла бы именоваться Парламент общин или Главное министерство сплетен. Но сельчане не знали столь пышных фраз и кликали место Рукав.
Век уж целый год как сменил старое платье на новое. Конца света при смене эпох, как пророчил батюшка на вечерней службе в “пряничной” церкви, не произошло. Поговаривали, что графа Льва Толстого отлучили от церкви (Постановление Святейшего правительствующего синода, в котором официально извещалось, что граф Лев Толстой более не является членом Православной церкви, так как его убеждения несовместимы с таким членством. Опубликовано в официальном органе Синода «Церковные ведомости», полное название документа: «Определение Святейшего Синода от 20-22 февраля 1901 года № 557, с посланием верным чадам Православной Грекороссийской Церкви о графе Льве Толстом») и что была зачем-то студенческая демонстрация, но по совсем другому поводу. Что-то творилось в столицах и городах, что-то приготовлялось. А жизнь в Лобках текла своим чередом, как много веков назад. За зимой налетела громогласным ледоколом весна. Птичье царство с зарей спорило шумностью с ледоколом. Птахи проигрывали в громкости, но брали за душу мелодичностью.
Был весенний погожий и ласковый день. Вареник совсем уже сменил ледяной панцирь на подвижную сверкающую на солнце чешую. Казалось, что все вокруг наконец-то проснулось от зимней спячки. Таисия вместе с другими селянками гутарили на Рукаве о том о сем, полоская белье. Пришел черед вымывать от щелока тяжелые тулупы да полушубки и женщинам было не справиться, не вытянуть из запруды напитавшиеся водой шубы. Зато плечистый Демьян Коханок справлялся легко, выбрасывая на берег увесистую мокрую одежду, как кот мелкие рыбешки.
Краем глаза Демьян заприметил тонкую фигуру девушки, спускающейся по косогору к Рукаву. Он распрямился, отер рукой пот со лба и не стесняясь встречал глазами идущую. Мать Таисия проследила за его взглядом и тоже обернулась на девку, предчувствуя почему-то худое. Мария Колыванова. “Байстрючка (Байстрюк – внебрачный ребенок, незаконнорожденный)” – зашептал и зашевелился Лобковский Парламент. “Мать пропащая и она туда же”, – уловила Таисия Афанасьевна. Взгляд на сына. “Только не она!” – пронеслось в голове матери и одновременно звучало “Поздно. Пропал сын”.
– Доброго дня! – поздоровалась не умеющая читать мысли Маша.
– Доброго, доброго, – закудахтал Парламент.
Василькового цвета глаза спорили красотой с небом. Румянец на высоких скулах звал прильнуть к щеке. По крайней мере именно так казалось Демьяну. Он как будто впервые увидел и разглядел по-настоящему Машу Колыванову. Как так случилось, что он не замечал ее девичей красоты раньше, он не мог сообразить.
– Держи! Держи! Кафтан уплывает! – загалдели бабки, как будто криком можно было замедлить отплытие крейсера “Зипун Кафтанович”.
Демьян опомнился, потянулся за медленно тонущим кафтаном, вытянул жилистую руку что было мОчи и плюхнулся в ледяную реку.
“Конфуз-то какой!” – вылезая из воды с коричневой мокрой добычей в руках, сокрушался в сердцах Демьян.
Когда стало ясно, что никому не угрожает опасность, ни белью, ни Демьяну, Министерство сплетен дружно захохотало. На селе не так много всего происходит, чтобы упустить возможность вдоволь посмеяться над ближним. Не упустила эту возможность и байстрючка Колыванова. Ее заливистый смех казался Демьяну самым певучим. Вот остальные ржут как лошади в поле, а Машенька одна звенит, как колокольчик степной.
Не смеялась только Таисия. Совсем не потому что боялась хвори. Эка невидаль в холодную воду окунуться. Это не беда, это Бог с ним. Пропарили мужика в баньке да с веничком дубовым – и ни одна зараза не подступится. Сердце матери чуяло другое, недоброе и неотвратимое. Уж она то умела читать мысли и глядеть будущее. Это ж надо такому случиться. Столько лет перебирать невестами точно еврей шелками на ярмарке, разменять четвертый десяток и бах! положить глаз на чужую девку.
“Ох, беда, беда!” , – сокрушалась Таисия глубоко внутри себя, ни одним мускулом не выдавая, что творится у нее на душе.
Кафтан был спасен. Демьян вышел из реки и струйки воды стекали по его рыжим волосам, телу и прилипшей рубахе.
Маша поставила тяжелую корзину с бельем, заправила выбившиеся из под полушалка золотистые как пшеница волосы. Давно она так не смеялась. Ей было гораздо привычней, что смеются над ней. Они с матерью жили вдвоем. Отца никогда не видела и не знала. Байстрючка, одним словом. Поговаривали, что он – заезжий гость поручика Наврозова. Дескать, гостил одно лето, спортил Глашу и, как водится у господ, был таков. Мать сказывала, что он уехал на войну аглицкую, но почему-то в Азию, к бусурманам. Маша спрашивала у учителя в сельской школе, тот показал где Англия и где Азия. И Маша сделала поспешный вывод, что малограмотная мать все выдумала, причем не очень-то складно (Англо-русская война (1884-1885) – вооруженный конфликт между Российской империей и Британией. Боевые действия велись, в том числе, на территории Средней Азии. Итогом сражений тех лет стало установление британского протектората над Ачехом и Тибетом). А отец скорее всего где-то рядом, может даже кто-то из усадьбы. Знает ли он, что у него растет дочь, приедет ли когда-нибудь да попросит у них с матерью прощения. Такие мысли нет нет да подкрадывались. Как, наверное, у всех до единого брошенных детей.
– Ого какая корзина! Полна полнешенька. У вас с Глашкой и добра то столько нет. Признавайся, чьи портки приволокла на запруду. За деньги аль задаром стирать думаешь? – начала упражняться в острословии Настасья Крынкина, рябая от усыпавших лицо и тело веснушек бойкая девица. Про таких говорят “палец в рот не клади”.
– Хошь заплачУ – простирнешь и мое исподнее? – присоединилась бабка Агафья из Ельцовых, делая вид что скидывает с себя одежу.
Маша спокойно и без лишних эмоций делала то, зачем пришла на реку, не обращая ни на кого внимания. Как будто она была в каком-то слюдяном домике, и все смешки и шуточки стекали по его стенам. Правда была в том, что белье она принесла не свое, а людей, у которых работала мать. Об этом мог бы догадаться любой человек, если бы пораскинул своим умишком. Но не всем жителям Лобков было чем раскидывать.
– Нет, глядите только, она и ухом не ведет. Уж простите, королевишна вы наша, что мы к вам без поклона.
На Рукаве поднялся хохот пуще прежнего. Но теперь не смеялись три человека, двое – из Коханков. Демьян поднял мокрый картуз с земли, помял маленько и вдруг метко швырнул его в Настасью. Попал прямо в ее рябое с оспинами лицо. Хлопок был пренеприятный, но девка не охолонула.
– Глядите, люди добрые, на Машку зенки пялил, да чуть не утоп, кафтан чуть не схоронил. Уж не его ли портки у Машки в стирке?
– То то он переживает, – не унималась Агафья – Мабуть, в речку сиганул, чтоб ей меньше работы, на себе думает рубаху да портки простирнуть ха-ха-ха по-быстрому.
– Ну будет вам, бабоньки, будет, – степенно закончила стендап батл Таисия.
Ведунью никто сердить не планировал и Парламент перешел к рассмотрению других насущных вопросов.
Пойдем сынок баньку топить. Как раз собиралась, – заключила Таисия, укладывая свой мокрый скарб и желая увести великовозрастного сына от байстрючки подальше и как можно скорее. Демьян играючи подхватил тяжелую корзину и, проходя мимо Марии, услышал робкое “благодарю” и почуял прикосновение ее руки к своей, чуть выше запястья.
Он вздрогнул, как от ожога. Вверх по руке побежали мурашки. Все тело сковало, и парень еле смог двинуться за матерью, которая необычно шустро неслась домой. Что за музыка ее голос! Как лелеял ухо ее шепот, точно плеск воды в жаркий день.
“Баран! Ох и баран же я! Надо же было сказать что-то в ответ. А может вернуться?” – в каком-то оцепенении размышлял Демьян.
– Демьян! – Голос матери вернул его назад, в село Лобки Погарской волости.
– Мамань, что вы как на пожар летите?!
– Тебя, горемычного, отогревать. Поди озяб весь!
“Ну точно – олень я замороженый! Вернуться бы надо. Ан нет, будет повод в гости зайти”, – повеселел и “разморозился” бесповоротно влюбленный олень.
Через несколько минут Демьян затапливал баню, а Таисия подбирала травки для отвара, чтобы сын не захворал.
“Ох и выбрал! Тридцать лет жил да выбирал! Ох порадует батюшку!” – крутилось в голове у ведуньи. А губы шептали на ветерок остуду “Сердечный змей, извейся, изыди, твоя воля пусть по ветру развеется, сердце перестанет маяться, а душа перестанет скорбеть…” Но сердце матери знало, что против истинной любви остуда не подействует, а против любви Коханка и подавно. Знала она этот взгляд, что был сегодня у старшего сына на реке. Ой, знала. “На то и Коханки! На то и Коханки!”– принимала то, что не в силах изменить никакая ведунья, Таисия Афанасьевна Сипейко.
Она вспомнила свое сватовство, вспомнила как Степан точно также увидел ее, обомлел и порешил, что она будет его. Вспомнила Таисия, как весь мир был против. Как покойница свекровка костьми хотела лечь и “не допустить в дом ведьму”, а его отец знай приговаривал “На то и Коханки! На то и Коханки!” И свадьба состоялась. С жареным поросенком, протяжными да веселыми песнями и всем что причиталось в добротном хозяйстве на веселой деревенской свадьбе.
Глава 3 Глафира Евсеевна
После неспешной баньки с матушкиными травами и взварами, весь чистенький и напоеный силой да удалью, Демьян в который раз вспомнил о Маше. Ее хрупкая фигурка, спускающаяся по косогору к Рукаву, робкое прикосновение и нежное “благодарю” прокручивались в голове, как смотрят понравившееся видео в соцсети его правнуки.
Если кто-то думает, что социальные сети, вроде Facebook, Instagram или Одноклассники – изобретение двадцать первого века, то прав он лишь отчасти. Техническое исполнение конечно претерпело существенные изменения. Но принцип работы был заложен коллективной жизнью от начала времен и во всех деревнях и весях издревле существовали их прототипы. Когда у каждого жителя есть аккаунт и вся его жизнь выложена в нем как на ладони. Можно было бы назвать этот прототип Книга Сплетен или Односельчане. Только если профиль в facebook или какую другую страничку человек заводит по своему желанию, то в социальной сети под кодовым названием Односельчане профиль заведен на каждого жителя, была на то его воля или нет.
Информацию в такой профиль выкладывали в основном не хозяева профиля, а чуткие сторонние наблюдатели. Как и в современных пабликах были на селе свои хейтеры и фоловеры. Вместо кнопки “передать данные” использовался принцип “пересказ из уст в уста”. Весьма некачественный канал, который однако не страдал потерей информации, а как раз наоборот грешил ее приумножением. Хранились данные на сервере людской памяти долгие годы, обрастая новыми, иногда нелепыми подробностями. Уничтожение базового аккаунта человека происходило при смене двух, а то и трех поколений его родственников и соседей. А если житель чем-то отличился, попал в какую-то или смешную, или героическую, или занимательную историю, то аккаунт мог храниться на сервере людской памяти десятки и даже сотни лет, пересказываясь или перепеваясь. Мы сегодня называем такие былины и сказания народным эпосом.
Вполне предсказуемо Демьян обратился к сети Односельчане. Запрос его касался жизни и актуального статуса Марии Колывановой. Не далее чем за полчаса ему удалось получить доступ к тайнам ее личной жизни, жизни ее матери и к легенде о мифическом отце. Вместо Интернета Демьян вышел во двор, где на завалинке как раз сидели главные сельские блогеры: бабка Герасютиха и дед Антип с фоловерами-слушателями. Селяне точили лясы, ожидая гульный скот и лузгая семки.
– Да она же Глашки Колывановой дочка. В дальнем хуторе вдвоем они живут. Живут – одно слово и то шепотом. Не живут, а так, прозябают. По лету ягоды лесные да грибы на продажу сбирают. Чем зимой живут, ума не приложу, ни скотины у них, ни запасов. Глашка поди христарадничает в Погаре да по селам. Ты б сам съездил да поглядел, мож подсобил бы чем сиротам, – вещал канал бабки Герасютихи, что из Балабков.
Герасютиха по старости лет к работе была почти не пригодна. Телевизоров в то время не было и дома ей было бы скучно. В свободное от ничегонеделанья время она жестко “спамила”. Передавала одну и ту же новость из двора во двор, попутно собирая новый материал для “рассылки”. Эдакая пенсионерка двадцать первого века, которая овладела тайнами рассылки сообщений в Ватсапе. Найдет что-то интересное, пару раз по экрану телефона кликнет и всем своим подружкам отправит.
Герасютиха при таком же действии невольно соблюдала норму 10 000 шагов в день, шляясь от одного хозяйства к другому, из переднего хутора в дальний. Норму она перевыполняла и если бы у нее был установлен шагомер, то могла бы собой гордиться. Но и без шагомера, есть чем погордиться. Ведь одного вопроса Демьяна “а что Колывановы на дальнем хуторе живет чи не?” Герасютихе было достаточно, чтоб додумать всю их историю. И история была ей на руку в одном хорошем дельце, которое она своим бабьим умишком в два счета сложила.
Следующим, кто смог пролить свет на нехитрое житье-бытье Маши, а заодно и на истинное лицо Герасютихи и всего ее семейства, оказался дед Антип Ельцов. Он, не перебивая, выслушал весь доклад Герасютихи. Дед многозначительно молчал, давая ей время покинуть владения Коханков и, как только та торопливо ушла разносить новости о Демьяне и Машке по всем Лобкам, буднично изрек:
– У Балабков полдвора девок на выданье, они сами в худой год христарадничают по селам да в Погаре. Герасютиха и до Брянска шастает, а это больше трехсотен верст. Да подают наверное в Брянске отменно. Вона рожу каку наела. А Колывановы – обе батрачки. И Глашка, и Машка. Только в дом, где девки имеются, их не берут. Срамно. Одна – девку от барина заезжего в шестнадцать годков нагуляла, а другая – энто самое, байстрючка, значит.
Он хотел сначала добавить, что и Машка порченая, но вовремя остановился. Инстинкт самосохранения позволил ему дожить до седин и он не хотел изменять ему в преклонном возрасте. Опытному человеку сразу видно, что про Машу при Демьяне лучше говорить как про покойницу – либо ничего, либо хорошо.
– А те, что берут к себе на двор, мабуть не доплачивают. Знают, что деваться им некуда. Вроде Глашка у Бычков трудится. У них мал мала меньше, а Матрена померла от тифа, нарожала кучу ребятни и померла, прости Господи, уж третий год пошел как схоронили, – продолжал рубрику “Лобки: кто? где? и с кем?” дедусь Антип Ельцов.
– А Маша-то шо?! – не унимался Демьян, стараясь изгладить из памяти информацию про Матрену, Герасютиху, да Балабков. Пропади они пропадом! Его Машенька, душа ненаглядная, интересует. А Антип как будто нарочно околесицу всякую мелет.
– Колыванова то? А шо с ней?
– Ты дед надо мной насмехаешься че ли? – Можно было сказать, что Демьян терял терпение, да только не было у него терпения с самого начала разговора с дедом Антипом.
– И не думал, Демьянушка, Господь с тобой. Жива она да здравствует вроде, Маша энта, значит. Шо с ней станется то?
По отцовскому заданию Демьян снарядился в Погар. Особенной надобности не было. Так, купить всякие мелочи да переговорить с людьми нужными. Все это могло и обождать до другого раза. И уж точно не было никакой производственной необходимости делать крюк через дальний хутор. Если бы отец узнал, то точно пенял бы сыну нецелевое использование перевозочного средства марки “серый конь в яблоках”. Тюнингован был конь дорогим седлом с кожаными ремнями и посеребренными луками.
В общем Демьян скакал на коне со сбруей по ценности как ехал бы его праправнук на Гелендвагине с салоном и обвесами от ателье Брабус. Хотя резоннее было бы поехать в Погар на телеге, запряженной лошадкой Машкой. Это как если бы его внук выбрал из парка отца минивен типа Газель. Но кто ездит женихаться на Газели, когда есть Гелендваген? Имя лошадки Машка и совсем уж не в тему. Еще больше не в тему, чем телега. Нет, ну кому только придумалось назвать кобылу таким красивым да ладным именем?! Мысль, что Маша Колыванова рано или поздно узнает, что у них на дворе лошадь Машка, удручала Демьяна, как будто он нес персональную ответственность за имена живности на дворе. Хорошо хоть лошадь, а не свинья, успокаивал он себя. Надо будет сказать маменьке, что негоже тварюг именем богородицы величать. Богохульство какое-то! Ну в самом деле, горячился он, погоняя коня.
Рысак тем временем домчал Демьяна до дальнего хутора. Домовладение Колывановых выглядело, прямо скажем, бедненьким. Крытая соломой изба, как будто стесняясь своего внешнего вида, немного вросла в землю. Амбар был не заперт, с приоткрытой дверью, из которой зияла причина его открытости миру. Он был пуст. И по этой простой причине совершенно не интересен лихим людям. Сараюшка вся покосилась, как будто старая бабуська в юбке припала на коленки и забыла встать. В сарае совещались куры, парочка бегала по двору, выискивая червячков и делая вид, что они не замечают гостя.
“Куры есть – энто хорошо”, – констатировал про себя Демьян, стараясь не подмечать остальной бедноты.
В дверях избы показалась круглолицая Глафира Колыванова. Шерстяная синяя кофточка кокетливо не сходилась на ее пышной груди. Темная домотканая юбка тоже была узкая и не по-крестьянски обтягивала крутые бедра обладательницы. На Демьяна с интересом смотрели ее беличьи глаза с прищуром. Она была совсем не старая и выглядела даже младше Демьяна.
– Здорово, матушка. Я – Демьян Степанович из Коханков. Вы яйца продаете? “Зачем мне яйца то сдались?! – пронеслось у него в голове – а ну как продаст, я их как везти буду? На рысаке то?” И он представил как гарцует по селу с куриными яйцами в руках.
– Будьте здравы. Меня Глафирой Евсеевной звать. Колывановы мы. Яйца то? Отчего не продать? Сколько тебе, хлопчик? – удивилась, но сразу нашлась Глафира.
– Да мне парочку, матушка. Я их здесь и выпью, оголодал, – нес какую-то несуразицу Демьян и уже готов был сквозь землю провалиться.
– Откуда ж ты путь держишь, что оголодать успел? – с еле скрываемой улыбкой спросила Глаша, начиная смекать, в чем может быть дело – а впрочем мне что за дело? откуда б ни был, проходи в дом. Яйца я сейчас принесу да хлеб-соль найду.
– Благодарствую, матушка, – не веря своей удаче, от всей души сказал Демьян, спешиваясь.
“А ну как она не дома?” – забеспокоился он, озираясь в темных узких сенях. “Ежели б никого в хате не было, в дом бы не позвали. Живут вдвоем. Значит, дома моя незабудочка”, – резонно и к своей радости подумал Демьян. Распрямился весь, плечи расправил и тут же пожелал, чтоб “незабудочка” не дай Бог не оказалась дома, потому что задел какое-то приспособление и полетели по сеням миски да крынки, упала с грохотом кадушка, что-то потекло. В общем, в горницу он вошел с громкой помпой.
Маша оказалась в доме и с опаской глядела в сторону двери. Было ясно, что пришел чужак и наверняка мужского роду. Кто еще, как не мужик, такой переполох на ровном месте устроит.
Ее васильковые глаза удивленно и испуганно-строго встретили Демьяна. Так иной раз глядит кошка, когда ты тянешь к ней руку гладить, а она не в настроении быть поглаженной. Взгляд ее расширенных глаз говорит: “в чем еще дело, товарищ, держите себя в руках.” Она одновременно боится тебя и немного негодует твоей вольности в обращении.
– Здравствуйте, барышня, – промямлил Демьян, снимая шапку и крестясь, глянув по привычке в Красный угол, а потом непривычно – себе под ноги.
Маша прыснула. Барышнями называли дочерей барина или городских каких-нибудь. Ее так отродясь не величали. Только дразнили “королевишной да княжной”, намекая на ее недобарское происхождение.
– Здравствуйте, барин! – в тон ему выпалила она.
Да, девка не из робкого десятка, языкатая. Вот хорошо, что языкатая. На что нужны все эти молчуньи, глаза в пол, да скучные лица? Рассуждал наш жених.
Когда человек нравится, все в нем нравится. Особенно попервой. Любовь она глаза застит. Если бы он зашел, а она сильно стушевалась, он бы подумал. Ой, как хорошо, что скромная. На что нужны эти языкатые.
– Я – Демьян Степанович, из Коханков мы.
– Знаю, барин, – съязвила Маша, – Я Мария Евсеевна Колыванова, – подойдя ближе к нему, она сделала реверанс, как будто они были из “благородных”.
По деду значит отчество, такое же как и у ее белки-матери, ну да точно, она ж байстрючка. И прекрасно. Мороки меньше. Подсказывал лукавый в голове у Демьяна.
– Позвольте ручку – включился в игру Демьян.
Она протянула руку, оттопыривая пальчик и слегка отворачиваясь, очень натуралистично изображая кисейную барышню, вот не ровен час упадет в обморок.
Демьян вдруг стал серьезен, схватил руку, поднес к своему лицу и жадно припал к раскрытой девичьей ладони губами. Маша оторопела. В неожиданном откровенном жесте виделось нечто дикое животное и пугающее. Как будто он ее собрался съесть и начал с руки. Она хотела отдернуть ладонь, но он не отпускал, жарко глядя в ее глаза. Не нужно уметь читать мысли, чтобы понять, что он хочет. Во взгляде не было наглости, но был напор и страсть, жар и желание. Если бы они были хоть чуть-чуть ответны, то неизвестно, чем бы эта мизансцена закончилась.
Закончилась она приходом Глафиры Евсеевны с лукошком с дюжиной яиц в одной руке и туеском с какой-то снедью в другой.
– Чего гостя в дверях держишь? – заворчала мать на Машу, как будто не видела, что гость ведет себя и без того вольно. – Проходи, мил человек. У нас небогато, да чем богаты, тем и рады.
– Благодарствую, матушка, – повторился Демьян и как-то по-хозяйски вошел в дом, озираясь вокруг словно управляющий в усадьбе. Он почувствовал немое расположение матери Колывановой и поглядывал на Машу как на дорогой, но продающийся, а значит покупаемый трофей. Что-то подсказывало ему, что стоить васильковоглазый подарок судьбы будет не сильно дорого. Дешевле, чем он готов был платить. Робость его куда-то враз подевалась.
Пробыл Демьян у Колывановых недолго. Вышел окрыленный и опьяненный самыми приятными мыслями да предчувствиями. По дороге в отчий дом нежно гладил “Гелендваген в яблоках” и пытался не уронить куриные яйца, которые всуропила Глафира Евсеевна с поклоном Таисии Афанасьевне да Степану Демьяновичу.
Дома отец принял поклон по-своему. Отходил Демьяна плетью. Не сильно, а для порядку. Чтоб охолонился и в башке провеялось, а то сдурел совсем – рысака в праздничной сбруе без спроса взял да приветы по халупникам сбирает.
Дед Антип всю эту картину зафиксировал в своем полутрезвом сознании, сложил все пазлы воедино и решил, что полностью готов пополнить новостную ленту Лобков. Дескать, Демьян к Машке Колывановой не ровно дышит, а Глашка, мать ее непутевая, рада радешенька, иначе поклоны бы не слала. А Машка то гулящая. А Демьян то ни сном ни духом.
Новость эта распространялась быстрее, чем вирусная реклама в двадцать первом веке. Подкрепляла ее подлинность другая новость – как Демьян давече на Рукаве швырнул тяжелый мокрый кафтан и зашиб безобидную Настасью Крынкину. Самое начало всей истории, а картуз уже успел превратиться в кафтан. То ли еще будет. Деревне впору запастись попкорном. Вместо попкорна в Лобках лузгали семки. Не слышали последних новостей только Демьян, Маша да Павел. Так уж водится, что главные герои сплетен узнают обо всем последними.
Глава 4 Иван Снытко
Павло, тот самый что был третьим в треугольнике Демьян-Маша-Паша, родился в горемычной семье солдатки Авдотьи Снытко. По какому-то злому стечению обстоятельств ее молодого да пригожего мужа “забрили в армию” на целую дюжину лет. На тот момент на действительную службу отправлялись “по жеребью”. Годные к службе молодцы тянули бумажки с номерами и в зависимости от цифры, либо оставались дома, в запасе, либо уходили служить Отечеству. Ивану Снытко выпало служить. Двенадцать лет не видеть мужа, когда вы и года не женаты. Авдотья голосила в присутствии (читай, в военкомате) как на похоронах.
За год до этого был издан Указ, по которому любой желающий мог внести в казну определенную сумму денег и не отбывать службу. Сумма была большой, но вполне посильной для среднего по достатку крестьянина. Называлось такое, с позиции современного военкомата, непотребство нанять за себя «охотника» (Охотник – в данном случае не тот, кто по лесам дичь бьет, а тот, кто делает что-то по своему желанию, в охотку). Хороший Указ, да только нужной суммы у Снытко не оказалось. Иван был пригожий, но не шибко хваткий. Кроме того, он был вполне себе уверен, что родители отдадут с их двора служить младшего брата Серго.
Было правило отдавать сначала бессемейных. Но как раз перед набором вылилось, что младший брат обрюхатил девку из соседнего Борщово. Их спешно обженили, чтобы живот молодухи из срама превратился в гордость. На семейном совете было решено отдать в солдаты Ивана. Наревелась тогда Авдотья. Да ничего не поделаешь.
Чтобы ощутить полнейшую нефортовость ее мужа, достаточно знать, что на следующий год прошла знаменитая военная реформа батюшки царя Александра II. Что Иван Снытко почувствовал, когда через месяц после призыва узнал, что отныне будут призывать не на 12 лет, как его, горемычного, а на 6, одному Богу известно. Что он в этот момент сказал? Слова эти солдатские навряд ли могут быть печатными.
После того как забрали ее “родненького”, “единственного”, “ненаглядного” Ивана в солдаты Авдотья не вернулась на двор свекра, а осталась проживать отдельно. Оно и понятно. Молодая, не сказать, чтоб уж очень красивая, но манкая для мужчин Авдотья не сумела пополнить нестройный ряд верных своим мужьям солдаток. Крестьяне не слишком осуждали бобылок. Судьба у них была незавидная. Примерно у одной из двадцати женщин была возможность встреч с мужем, да и то раз в несколько месяцев, а то и лет.
Везучесть Авдотьи и Ивана Снытко не оставляла им шанса попасть в тот маленький процент удачливых семей, кому положены были встречи. Пехотная дивизия, в которую по несчастливой случайности попал Иван, была откомандирована на борьбу с бусурманами в какой-то далекий и непонятный простому русскому крестьянину Туркестан (Земля, ставшая русским Туркестаном (Средняя Азия при СССР), была присоединена к Российской Империи во второй половине 19 века. Сейчас она разделена между Казахстаном на севере, Узбекистаном в центре, Кыргызстаном на востоке, Таджикистаном на юго-востоке и Туркменистаном на юго-западе. На эти земли активно претендовали англичане. “Бусурманами” зачастую командовали английские офицеры). Наш горемычный солдат наверное мог бы много чего интересного да занятного написать своей дрожайшей и оставленной без присмотра половине. Но вначале службы Иван был абсолютно неграмотен. А когда его уже в армии обучили писать, читать и считать, он посчитал глупым писать не умеющей читать Авдотье. А то бы он с удовольствием ей поведал, что баба по-бусурмански это баян, а сарай – это дворец. И что ему очень хочется поиграть на своем баяне у себя во дворце. Но на этом баяне играли другие.
Через восемь лет после рекрутинга Ивана в солдаты стало известно, что где теперь Иван никому, окромя Бога, неизвестно. Если бы Ивану да Авдотье повезло родиться в семье дворян, то оставшись без кормильца Авдотья могла бы рассчитывать на сносную пенсию. Про везучесть семьи Снытко уже много нами сказано. Крестьянскому сословию никакие пенсии в те времена не полагались. При том, что отставные офицеры получали не только пенсию, но и специальное дополнительное пособие на оплату прислуги. Такие были нравы.
Свезло нашему солдату Снытко по итогу вот в чем. Семья его ширилась и ему для этого ровным счетом ничегошеньки не приходилось делать. В тот момент, когда родился его первенец Павел, он мог быть занят в битвах за крепость Геок-Тепе в песках Каракумов (На месте крепости Геок-Тепе в 1881 году был основан Ашхабад в качестве передового опорного пункта русских войск), если бы не пропал парой лет ранее. Так как он по-прежнему не значился в списках убитых, сын и обе рожденные опосля с шагом в два года девочки, Людмила и Малуша, были записаны как дети солдата Снытко. Развестись с безвестно отсутствующим сколь угодно долго мужем по тем временам не представлялось возможным.
Авдотья жила с детьми с северной стороны Лобков, ближе к хутору Левдиков. Изба, амбар, пуня ( Пуня – сарай для хранения мякины, сена и пр.) – все добротное, просторное, успели справить с Иваном до его скоропостижного отбытия в армию. Кряжистый, но крепкий еще свекр Елисей предлагал отделить со своего двора младшего Серго с молодой жинкой, а Авдотью забрать к себе. Покуда Иван из солдатов не воротится. Строили то для сына Ивана, а не чтоб Авдотья туда мужиков таскала. Супружница кряжистого “горжилхоза” в приватной беседе высказала свои соображения на сей счет. “Перетопчешься, хрен старый! На кой нам тут Авдотья?! Ишь чего удумал. Седина тебе в бороду, бес в ребро. Постыдися!”. Елисей Павлович не смог найти сколько-нибудь увесистых аргументов против наглых и небоснованных подозрений и отходил бабку вожжами. Не нашли его идеи поддержки в лице и других частях тела Авдотьи. Так, из-за глупой ревности ушло из семьи имущество не знамо кому.
Когда у Елисей Павловича через семь лет отсутствия дома сына пошли один за другим “внук и внучки” он вспоминал эпизод с вожжами и многократно хотел его повторить на спинах и бабки, и Авдотьи. Да было поздно и бесполезно.
По понятным причинам Павел своего “деда” почти не знал. Когда Паша по малолетству бегал к ним на двор и обращался к Елисею “дедусь”, тот крякал как будто его подстрелили и невнятно ругался. Ребенок был конечно ни в чем не виноват: ни в рекрутчине, ни в том, что “Авдотья совсем стыд потеряла”, ни в том, что “бабку слушать было нечо”. Но доставалось за всех Пашке. “Дедусь” отвешивал ему затрещины как будто поучал родного внука. “Елисей Палыч мы, Елисей Палыч, бисова ты душа, оглоед окаянный, нашел дедуся!” Авдотья не раз пожалела, что зачем-то сказала сынишке, мол тут твои дед да бабка живут. Наверное, не сдержалась, представляя лицо свекра, когда малец назовет его “дедушкой”. Пораскинуть умишком и предвидеть, что мальцу хорошенько всыпят, она не сдюжила. Дуня принадлежала к той категории жителей Лобков, кому не особенно хотелось лишний раз задумываться. Она жила здесь и сейчас, решения принимала чаще сердцем, а не разумом. Отчего зачастую упускала выгоду.
Павло вырос в худощавого, крепкого и милого парня. Он даже был чем-то похож на своего “отца” Ивана. Те же раскосые глаза, белесые кудри, какая-то нежность во всей конструкции тела. В двадцать первом веке он мог бы снимать клевые видосы в тикток и томно смотреть в камеру, поправляя челку или чуть прикусывая губу. Наверняка, он стал бы популярным и не было бы отбою от фанаток, так и дымел бы директ. В конце девятнадцатого века ему приходилось дымить, помогая взрослым выжигать по весне лес, чтобы в следующем году помогать сеять на этом месте рожь. Все трое детей Авдотьи были совершенно друг на друга не похожи. С Павло можно было смело списать Леля из славянских сказок (Лель – в славянском дохристианском эпосе маленький пламенный бог любви, весны и молодости, оплодотворения всего живого. Чаще всего изображался молодым златокудрым юношей). Добродушный, пригожий, голубоглазый и тонкокостный. Людмила, на шесть лет младше брата, в противовес своему имени (Людмила – Милая людям) была неприветливая, с темными волосом и глазами, с каким-то тяжелым недетским взглядом. Сызмальства она смотрела на мир исподлобья, как будто ожидая от действительности еще какого-нибудь подвоха помимо отсутствия в жизни тяти. Она почему-то напоминала мышь или блоху. Мелкая, кусучая и дурная.
Малуша, сестра ее, была крупная круглолицая и улыбчивая. Между ней и Людой было два года разницы, но выглядели они как однолетки. Малушино ладное тело как будто не знало голода. Румянец не сходил с щек и глаза излучали спокойствие. Почти всякий, кто приходил в дом, путал имена девчонок.
Всякий: “Которая из вас Людмила? Ты куколка златоволосая? А Малушенька, ты, девочка?”
Люда про себя: “И не в склад и не в лад – поцелуй кобылу в зад”
Люда вслух: “Обознатушки. Я – Люда, она – Луша”.
Павел с детства ощущал, что он единственный в семье мужчина и на него вся надежда. Безропотно и с усердием выполнял он любые работы, не помышляя, что можно от забот отлынивать или ослушаться мать. Авдотья и рада бы не нагружать парня, да ничего не поделаешь, какое-никакое – хозяйство. Коровушке сена накосить, воды в дом натаскать, коровник почистить, огород вскопать, крыльцо поправить, что-то починить, что-то наточить, а хорошо бы и за денежки работу какую по соседям сыскать, да в дом копеечку принести. Это вам не у репетитора после школы часик позаниматься, тесты порешать да раз в три дня пакетик с мусором, кряхча как старый дед, до мусоропровода донести.
В одном повезло – Павел как единственный в семье кормилец не подлежал призыву в армию. Семья Авдотьи расплатилась с государством по этим счетам. Слава Богу, прошли те времена, когда все мальчики, нарожденные в семье солдатки, зачислялись в воинское сословие и в будущем должны были повторить незавидную судьбу своих формальных отцов.
Глава 5 Авдотья
С того дня как Демьян запустил картузом в Настасью, защищая на реке честь байстрючки Марии Колывановой, минуло десять дней. Воздух налился весенней свежестью, попросыпались и повыползали букашки, весело чирикали птички во дворе. Параскева Ивановна Балабкова, в миру Герасютиха (кликали так по девичьей фамилии), по частому своему обыкновению пожаловала до соседей Снытков. Она чуть не наступила на жмурящуюся на солнышке трехцветную кошку. Та, внезапно и дерзко потревоженная шумной юбкой Герасютихи, прижалась к земле и сделала полукруг на присогнутых лапах, зыркая недобро на пришелицу.
– Ну нечо, нечо! Что ты вздыбилась, котеюшка?– примирялась с четерехлапой хозяйкой гостья. Сегодня Герасютихе хотелось выглядеть особенно приветливой и доброй.
Павел чем-то стучал в пуне, починяя инвентарь. Парень выглянул поздоровкаться, услыхав сквозь шум своей работы звучное “здорово, соседушки. Как спалось?”
– Слава богу, все хорошо. Благодарствуем, соседушка. Вы как? Как девицы ваши поживают? Как дед? – ответствовала Авдотья по всем правилам крестьянского этикета. Обменялись нехитрыми домашними новостями.
– Попить бы чего-нибудь, соседка, – напросилась Герасютиха.
Хозяйка жестом пригласила Параскеву Ивановну в дом, поднимаясь по ступеням и обметая подолом домашней шерстяной юбки высокое крыльцо. Кошка последовала за людьми, авось, прямоходящие будут трапезничать и кусочек ей, красавице, перепадет.
Войдя в хату, обе женщины поочередно перекрестились на образа в Красном углу. В избе щекотал ноздри запах свежесваренных щей. Постные. Определила для себя Герасютиха, как будто в Великий Пост могли у кого-то быть приготовлены скоромные (Скоромное – еда с мясом, яйцами и другими продуктами животного происхождения. Постное – то, что можно есть в пост).
– Ладный у тебя Павло, работящий, – начала издали Герасютиха, поглаживая стульчик прежде чем притулить на него свой увесистый зад.
– Благодарствую, соседушка, не жалуюсь, послал Бог сыночка, мне горемычной в помощь, – заехала спереду разговора Авдотья, помятуя, что у Балабков две девки перестарка да еще две на выданье (В XIX столетии крестьянские девушки выходили замуж по меркам XXI века рано, в 15-17 лет. В 20 лет они считались уже «перестарками». В 35 у большинства женщин на селе были взрослые дети, в 35-40 почти все становились бабушками. Возраст для вступления в брак был установлен законом: 18 лет для мужчин и 16 лет для женщин, но в сельской местности могли отыграть свадьбу, а запись в церковных книгах сделать попозже, по наступлению положенного возраста. Для вступления в брак необходимо было получить согласие родителей независимо от возраста жениха и невесты. Согласие брачующихся носило иногда формальный характер. Считалось, что родители дольше понимают жизнь и знают лучше, кто подходит молодым) – угощайся, Ивановна, кваском свеженьким, – предложила Авдотья, и не дожидаясь ответа, налила гостье кислый квас. Оставив крынку на столе, хозяйка подошла к печке и открыла заслонку. В печи стояла большая чугуняка, в горнице еще шибче и приятней запахло нехитрой крестьянской едой.
– Тебе бы в помощь еще одни женские рученьки. Разлетятся твои дочки по семьям вскоре. Самой придется всю бабью работу по дому влачить на своих плечах. А плечи то поди наносились за жизнь непростую, ой, наносились тяжестей житейских, – гнула свое Герасютиха, жалостливо и с пониманием да добром глядя на Авдотью. Она качала головой, глядя как крепкая да справная хозяйка легко достает ухватом из печи полную чугуняку не меньше ведра по объему (Ведро – основная русская дометрическая мера объема жидкостей, обычно 12-15 литров). Качала с таким видом как будто ноша для той была непосильной.
– Еще одни женские рученьки – это, бабушка, еще один в семье рот. А нас и так на дворе четверо. Хорошо соседи добрые, когда-никогда да помогут с работами полевыми. А иной год сами управляемся, – хозяйка поднесла к столу табуретку и присела за стол – Нам бы еще одного мужика в дом, – распрямляясь и потягиваясь, как будто желая продемонстрировать свое совсем не старое дородное и мягкое тело потенциальным женихам,– закончила мысль Авдотья. Она зачем-то встала и, вставив руки в боки, прошлась по горнице, сладко вспоминая былые годы, когда хаживали к ней мужички. Да вот ни один не удержался.
– Да где ж его раздобудешь ныне, матушка, – всплескивала руками с поддельной грустью и беспокойством Герасютиха. Она подошла к оконцу, заглянула в него, словно высматривая мужичка для соседушки. И за неимением такового, обернулась и подошла к Авдотье с самым серьезным лицом. С таким выражением люди обычно приступают к важному торгу, давая визави понять, что дело нужное и копейничать не стоит.
– Мы с тобой одной кровушки крестьянской, обе горемыки. Прости Господи, что скажешь. Так уж сложилось, по воле Его, аль супротив, того я не разумею. Твой муженечек сгинул в чужих землях, а мой дед с Крымской то вернулся, да без ноги, да как выпьет так лютует. Старший сын пятерых деток с жинкой настрогали. И ток один – пацан, да помер скоренько. А потом и жинка его в шестых родах померла, два года как схоронили. Так сыночек не оправился, все пил беспробудно, да в Варенце потом нашли. Еле священника уговорили в ограде положить, взял он с чего-то что Алешенька по доброй волюшке втопился. Свят, свят, – искренне и с большим чувством осенила себя крестом Герасютиха. Но тут же вспомнила, к чему весь разговор затеяла. Если бы бабка Герасютиха владела теорией НЛП (НЛП – Теория межличностного общения, развития личности и психотерапии. НЛП было разработано в 1970-х годах американцами Джоном Гриндером и Ричардом Бендлером. Широко применяется, в том числе, в агрессивных манипуляциях), то она знала бы что такой прием в переговорах называется подстройкой (Подстройка – процесс намеренной демонстрации схожести с собеседником. Важна при установлении раппорта. Это когда вы установили доверие и человек готов следовать за вами, то есть соглашаться с вами, идти у вас на поводу). Но бабка, мастерски владея техникой установления раппорта, делала все не по науке, а по зову своей крестьянской выгоды, для счастия своих домочадцев.
– Царствие небесное Алешеньке вашему, – со вздохом, понимающе кивая, перекрестилась, глядя на образа темного письма в углу Авдотья.
– Помощи нам с тобой, бессеребреницам, ожидать неоткудова.
– Твоя правда, соседушка, неоткудово, – соглашалась присмиревшая Авдотья. Она села на табурет, вся как-то съежилась, вздохнула и глубокая межбровная складка, сильно просившая ботокса, как сказали бы косметологи в начале двадцать первого века, стала глубже и виднее.
Параскева Ивановна присела рядом, взяла ее ладони в свои руки и заговорила как можно проникновеннее.
– Давай к друг другу лепиться, Авдотьюшка. Вы ж мне и так, как родные. Обженим детей наших, породнимся по-христиански. Всем легче будет, – перешла к основному тезису Герасютиха.
Авдотья враз встрепенулась, сбрасывая с себя гипноз Герасютихи, как страшный сон поутру. Старушка не ведала, что для пользы дела нужно как минимум три “да” от собеседника, а уж потом свою тему толочь, поторопилась бабуська.
– Какую же из своих кровиночек за Павло моего отдать думаешь? – глаза матери жениха смотрели на гостью с прищуром. Как если бы в доме случилась пропажа или кража только готовилась, а вор он вот он, напротив сидит, и ты смотришь на него, не желая пока говорить, что преступление раскрыто, но уже киваешь и источаешь всем своим существом мысль “Эх ты, что удумал, не стыдно тебе?”
– Дык не гоже младшим поперед старшой замуж выскакивать, Авдотьюшка, – заерзала Герасютиха, еще не догоняя своим умишкой, что подстройка не удалась и что вопросы ей задаются, только чтоб выведать всю полноту коварства.
– За Богдану стало быть толкуем, – как хороший следователь повторила за подозреваемой хозяйка.
– Стало быть за Богдану, соседушка. Работящая она у меня, смирная, слова поперек от нее не услышишь. Одна радость такую в семье честной заиметь. От сердца отрываю кровиночку мою. Главная она у нас во всем доме, все хозяйство истинно на ней, – нахваливала залежалый по меркам того времени товар бабка.
– Как можно в таком разе у вас ее забрать, соседушка? Грех это. Лишу вас опоры большой. Еще какой большой – она у вас еле в дверь проходит, такая опора что задница шире плеч раза в три, – заводилась Авдотья.
– Так это она в нашу Герасютину породу. Мы все справные, да к деторождению пригодные, широкобедрые да грудастые. Хоть по два ребеночка зараз закладывай. Чай у вас есть двойнятки в роду аль нет? – заискивающий добрый такой взгляд, прямо в душу. Хороший прием. Жаль не сработал.
– Бог не дал такой радости, – всплеснула руками Авдотья и подскочила с табурета, как будто он стал неожиданно горячим и обжег ей седалище – И вашей Богданы нам не нужно. Уж простите, соседушка, как есть скажу. Ну как мы ее прокормим? У нас и без нее ртов хватает, прости Господи, четверо. Милке скоро четырнадцать, Лушке – двенадцать весен, едят как взрослые, да мы с Павлом. Да он ее и обхватить не сдюжит, Богдану вашу, – все увереннее и увереннее говорила Авдотья, убеждая и себя и соседушку в глупости затеи. Нет это ж надо себе такое намечтать. Да за ее Павла пригожего любая пойдет, ну может не любая, учитывая кой-какие обстоятельства, но можно невестами поперебирать.
Герасютиху так просто не проймешь. Делай, что должен, и будь что будет. Замечательный принцип отчаявшихся людей. С одной стороны, сделай все, что от тебя зависит, старайся, до последнего, не сдавайся. С другой, после того как сделал все, от тебя требуемое, предоставь воле Божьей случиться, как Им было задумано. Сейчас бабка чуяла, что разговор не удается, но у нее хорошие карты в руке, как сказали бы картежники, и даже один козырь.
– Чай не раздавится голубок твой Павлушенька, сдюжит. Говорят, тощие парни до полнотелых пирожочков ой как охочи, – бабуська причмокнула, как будто смакует свежеиспеченную ватрушку и ватрушка на вкус – ну точно Богдашенька ее внученька, сладкая да мягкая.
– Ну вот и ищите тощих охотников на вашу булочку сдобную. Ничего худого я про вашу Богдану не говорю, по-соседски завсегда ей рада, но в невестки брать не буду. Уволь ты меня от этого разговора, Ивановна, – закрывая переговоры, отвернулась от Герасютихи хозяйка. Она начала суетиться вокруг печи, как бы показывая, мол, посидели, квасу попили, а нужно и хозяйством заниматься, а не о пустом полдня гутарить.
– Каку ж вам невесточку надобно? Аль побогаче кого присмотрели да с приданым знатным? – не унималась соседушка, стараясь задеть за живое.
– Да если бы побогаче?! Если бы! – нервно заходила по избе Авдотья. Эвона, гетуновская девка Антонина все глаза на моего Павло в церкви третьего дня проглядела. Уж целый год глаз с него не сводит, испепеляет всего.
– Гетуны – знатное семейство. Все у них честь по чести. Одних коров голов двадцать, да гульного скота не перечесть. Нешто они Тонечку свою отдадут за Павлика вашего? Такой невесте и жених нужен честь по чести, да чтоб с “поклажей” богатою (Поклажа – дары жениха невесте. Обычно в поклажу входила шуба, кое-что из одежды и деньги. Размер поклажи задавался родителями невесты при первичном сватовстве – смотринах. Если невеста нравилась родителям жениха, то они либо соглашались, либо просили уступить, уменьшить поклажу. Помогала им переговорщица – сваха. Иногда родители невесты нарочно требовали непосильную для семьи жениха поклажу. Зная, что им такую вовек не собрать. А иной раз родители жениха, если на смотринах им чем-то не угодила невеста, не соглашались даже на малую поклажу и уходили домой, говоря “мы подумаем, посоветуемся с родственниками”. Такие вот тонкости брачного крестьянского этикета). Даже купца могут ожидать, – подливала маслица в огонь Герасютиха.
– Тонька у Гетуна – любимица. Кого выберет, за того и отдадут, девка хорошая, да тятькой балована, – Авдотья продолжала нервно ходить, метя подолом юбки пол, – А мы что – мы тоже не голодранцы. Корова есть, даст Бог приплод в этом году будет. Тут бы хорошее невестино приданое очень впору было бы и зажили б как люди, – делилась соображениями Авдотья.
– Мы бы с Богдашенькой в приданое дали крупы две меры да сундук с одежей справной: шерстяной сарафан, полушалок пуховый да две рубахи, из постельного – стеганое ситцевое одеяло, – вставила свои пять копеек соседушка.
– Обещала я тебе, Ивановна, на чистоту говорить. Так вот скажу я, что не видать мне ни Тоньки, ни хоть бы сундука вашего, потому как Павлик мой с Машкой Колывановой милуется. Свадьбу еще на тот мясоед хотел с ней справить, на силу отговорила (Мясоед – период между постами, когда по церковному уставу разрешена мясная пища). Думала, охолонится парень. Ведь живут они, бесстыжие, взрослой любовной жизнью, а парень обычно, когда энто дело получит, враз остывает к зазнобушке, – она остановилась, налила себе квасу и хлопнула стакан залпом почти, как будто это была горилка или какой другой спиртной напиток, – Не тут-то было! Не таков оказался мой Павлушенька. Только и слышу дома. Маша то, Маша се! А Маша – голь перекатная, за нее и курицу не дадут!
– Не дадут. Откуда у Глашки окаянной лишняя курица в хозяйстве? А мы бы с Богданушкой вам петушка б завернули. Знатная у наших петушков порода, хоть на бои выставляй, хоть суп вари, – не отступала от принципа “гни свою линию” Параскева.
Но Авдотья разошлась не на шутку и ни про каких петушков уже расслышать не могла. Видно было, что мысли про свадьбу Павло давно у ней в голове зародились, сформировались и им суждено было появиться на свет Божий прямо сейчас, цепляясь одна за другую. Повитухой стала Герасютиха, ненарочно спровоцировавшая эти роды.
– Глашка еще носом крутит. Не для вас я Машеньку, цветочек мой аленький, растила, – скривляла гнусавым голосом Глафиру Евсеевну Авдотья – Поди не знает, дура, что ягодка уже Машка ее, а не цветочек. Того и гляди семечки с нее пойдут приплодом Пашкиным, тогда точно пиши пропало – высказала наконец все свои опасения Авдотья, ища взглядом поддержки у Герасютихи.
Только вот беда, Герасютиха пришла опасения не развеивать, а сеять. Чтоб потом развеять единственно верным способом – женитьбой на ее старшей внучке Богданушке. Девке давно пора было замуж. То, что она не в меру упитанная, по тем временам было скорее достоинством невесты, но почему-то женихи не толпились. Наверное, из-за небогатого приданого. Откуда ж ему взяться то, коли на дворе сразу четыре невесты.
То, что Демьян Коханок Богдану в жены не возьмет, было ясно как божий день. Поэтому у Коханков в доме таких разговоров Герасютихой сроду не велось. Зато бедовый Коханок, наверное, единственный из всего села, кроме вдовых, кто мог взять порченную девку и не поморщиться. Коханкам коли глянулась девка, все было ни по чем. С приданым невеста, аль без, что и кто о ней по селу болтает. Уж сколько таких историй о них было, не перечесть. На то и Коханки. А Павлуша, как любовь его с Машкой расстроится, наверняка женится на ком мать скажет. С такими мыслями Герасютиха достала наконец из рукава главный свой козырь:
– Машка то может за кого другого выскочит.
– Врешь, бабка, кому она, халупница, нужна? – в сердцах выпалила Авдотья – еще и Павел ее спортил – махнула она рукой в сторону Герасютихи, словно та тоже была виновата, что Пашка спал с Машкой, – деваться нам особо некуда теперь.
– Глянулась она Демьяну Коханку, а ты их породу знаешь. Не посмотрит он, что девка порченная. Опосля конечно будет ей пенять, но коли глянулась, Демьян не отступится. А я в их союзе пособить берусь. Где нужно слушок распущу, когда нужно сплетни перекукую, да с ног на голову все переставлю, – степенно продолжала Параскева Ивановна.
– В этом ты, соседушка, большая мастерица, надо отдать тебе должное. Язык твой что помело метет, никого не щадит, – прищурилась на Герасютиху Авдотья, вспоминая сколько сплетен о ней самой распустила в свое время словоохотливая соседушка.
Много она страдала от молвы на селе, оставшись в девятнадцать лет без мужа. Из-за сплетен передумал строить с ней быт кареглазый бобыль Михей, отец Людимилки. Ох и страдала Авдотья, в омут кинуться хотелось. Михей был ее поздней и сильной любовью, она цвела с ним как в последний раз, а он бросил ее из-за наговоров. Потом оказалось, что под ее сердцем бьется сердце нового человечка. Вспомнила она и как нахватавшийся бредней Герасютихи и всяких злых на язык людей Михей беспочвенно сомневался, что ребенок от него. Как жгли ее каленым железом его укоры и распросы.
– Как тебе мои разуменья, Авдотьюшка? Сплавим Машку Коханку да свадебку нашим деткам сыграем. Породнимся по-христиански? – повторилась Герасютиха. Видимо, это была заготовленная фраза, да бабка запамятовала, что уже ее использовала. Забыла она думать и о Михее, конечно, и как пятнадцать лет назад сплавляла в угоду какого-то другого хитроумного разуменья саму Авдотью.
– Благодарствую, Параскева Ивановна, за вести, за заботу. Идея мне твоя ясна. Вижу, ты о детях наших переживаешь да радеешь. Только гоже Бога гневить, в дела сердечные вмешиваться. Хай ужо сами разбираются. А там как Бог решит, так тому и быть. Сладится коли у Демьяна с Машкой, да Павло мой на Богданушке намерится женится, препятствовать не стану. А сплетни какие распускать иль сына неволить я не сподобна, – холодно и с достоинством ответила Авдотья, торопливо и суетно выпроваживая незваную гостью из избы на двор.
Добрососедское настроение покинуло Герасютиху.
– Глупая ты баба, Авдотья. Демьян – мужик лихой, битый. Уж пятый год как со службы пришел. Сколько невест ему Коханиха прочила, а он все перебирал, нагличал, гулять гулял с бобылками да солдатками, а о свадьбе и думать не хотел. А Машка его душу сильно забрала, у меня глаз наметанный. Он твоего Пашку в бараний рог скрутит, выплюнет и не подавится, коли тот на его пути встанет. Тайка Коханиха любую невзгоду навести может. Локти потом кусать будешь, – не теряя надежды пристроить Богданушку, увещевала сплетница номер один всей Погарской волости совсем сбитую с толку соседушку.
– Как Бог повелит, так тому и быть. Прощевайте, Параскева Ивановна.
Проводив гостью, Авдотья вернулась в дом. На душе неспокойно. Трехцветная кошка хотела подластиться к ней, выгнула спину и тыкалась мордашкой в ноги. Хозяйка споткнулась об нее. Та отскочила и смотрела укоризненно, как будто говоря: “Да что с вами сегодня, кожаные?!” Авдотья хотела убрать крынку с квасом в погреб, да посудина запотела, выскользнула из рук и разбилась на черепки. Вся юбка была в квасе. И хотя потеря кваса и крынки не нанесла существенного урона хозяйству Авдотьи, женщина, опустившись на пол собрать глиняные кусочки, так с осколками в руках и заплакала. Тихо и горько, предчувствуя большую беду. Крупные слезинки падали на юбку прямо на пятно от кваса. Словно она специально разлила квас, чтоб никто не приметил пролитых в глухом одиночестве слез.
Глава 6 Демьян
До 1872 года Погар принадлежал к территории стародубского казачьего полка. То есть, населяли эту местность в основном казаки – служилые люди, готовые в любую трудную минуту прийти на помощь стране в полном оружии. Как и при каких обстоятельствах казачьи малороссийские семьи перевели в крестьянство в конце восемнадцатого века – доподлинно сейчас одному Богу известно. Возможно, Бог хотел сохранить казачью кровь, предвидя их массовое истребление через сто лет с небольшим во время становления Советской власти. Если так, то Его далеко идущий план на примере рода Коханков во многом сработал.
Есть предположение, что в одну из ревизских сказок некоторые казаки добровольно переписались в крестьяне, чтобы не нести пожизненную воинскую повинность (Ревизская сказка – перепись населения. Называлась сказкой, потому что составлялась со слов, “сказом”). Но кровь не водица. Как себя не называй, а порода берет свое.
В Демьяне Степановиче Сипейко текла червонная кровушка стародубских атаманцев. Многие поколения Коханков до его рождения в 1871 году числились казаками. То, что по неясным причинам они стали значиться податными крестьянами, не могло вытравить горячность, задор, казачье упрямство и своеволие. Этих качеств, которые нравятся женщинам и раздражают мужчин, у Демьяна было с лихвой. Плечистый, рослый да статный, волосы с рыжиной, орехово-зеленые глаза, дерзкий взгляд. Его правнучки, в один голос сказали бы, что он брутал и альфа-самец.
В Лобках начала двадцатого века назвать Демьяна самцом вряд ли кто решился. А ежели бы решился, то абсолютно целым ходить ему пришлось бы скорее всего недолго. Иной раз крутоват на расправу бывал Демьянушка. Но только за дело. Вообще слыл справедливым, хоть и своенравным, но не злобивым. Да и откуда злости взяться?
Дом – полная чаша, хозяйство крепкое, одно из самых зажиточных в Лобках, не сравнивая, конечно, с усадьбой Наврозовых или домом купцов Сомовых. Отец с матерью, слава Богу, в добром здравии. Младший брат Илья года четыре как при семье. Живут справно. Акулина, жена его, чернобровая, пышнотелая да работящая, коханкам отрада. Илья с Акулькой сына прижили и, даст Бог, еще наживут.
Вернулся из армии Демьян за четыре года до смены девятнадцатого века на неспокойный двадцатый. Спесь, какая была по молодости, местами пообтесалась с Демьяна за время действительной шестилетней службы. Все пять лет, что сменяли своим чередом друг друга после его радостного возвращения целым и невредимым, Таисия Афанасьевна присматривала Демьяну самых лакомых невест.
В первые два года перебрали ладных и справных девок из ближайших станиц, сел и деревень. На третий год радиус поисков существенно расширили за счет добрых семей и хозяйств дальних от Лобков поселений. Что тоже не принесло урожайных результатов. Не потому что подобающих невест не было в наличии и не потому что Демьян был особенно привередлив. “Не по сердцу, матушка”, – так каждый раз говорил Демьян и отправлять сватов в очередной раз откладывалось.
Положение усугубляли сельские солдатки да бобылки. Кабы Демьян не справлял свои мужские потребности благодаря их непотребству, возможно, вопрос о надобности жены стоял бы злободневней, особенно по утрам. Но Демьян был один из немногих видных и в добавок свободных мужичков в Лобках. Простой, заботливый, сильный как мужчина, что еще нужно? Одинокие бабы были завсегда рады его простым, но неустанным ласкам. Иной раз он помогал им с покосом или с другими крестьянскими делами, покуда управлялся со своими, в другой раз мог и с денежкой помочь. Романтика села – это не цветочек на подушке, а вскопанный твоим мужиком огород. Бабонькам отрадно было видеть Демьяна на своем подворье и тошно, когда он с такой же молодецкой удалью управлялся на хозяйстве по соседству. Они бы его наперебой привораживали да от разлучниц отсушивали, но вот беда, мастерицей в подобных делах была Таисия Коханиха, евойная матушка.
Ни одна из бобылок молитвами ее соперниц и Коханихи не застревала занозой в сердце Демьяна. Ему нравилась одна славница еще до армии, шибко нравилась. Но он всеми силами притушил дикую первую страсть. Парень здраво рассудил, что сначала отслужит, а потом, даст Бог, вернется и женится. С девчушкой он даже ни разу не целовался и себя ждать не наказывал. Та лишь смутно догадывалась о силе его чувств. Видел Демьян, как живут солдатки в отсутствии мужей и не желал такой судьбы девке, и сам не хотел рогами притолоку задевать.
Девку ту родители выдали, покамест он в армии был, замуж и она умерла в первых родах. Возможно, это каким-то образом сказалось на нежелании Демьяна прикипать душой к женскому полу. Может, если бы он посетил модных в Австрии и Франции психотерапевтов, те подсказали как быть. Но Демьян мало того, что родился на селе, где психотерапия в принципе не развита, так еще и в России, а не в Австрии, к тому же не в том сословии, чтобы иметь свободное время на душевные страдания.
Жизнь текла своим чередом и он был вполне ею доволен. Пока не повстречал повзрослевшую Машку Колыванову на Рукаве. Она чем-то напоминала ту, первую девушку, что пускала сердце Демьяна в галоп добрых десять лет назад. Ладненькая, белокожая, с васильковыми глазами, толстой пшеничного цвета косой и чуть вздернутым тонким носиком. Она могла бы отлично вписаться в дворянский интерьер и украсить собой чью-то дорогую гостиную. По деревенским канонам – чуть худовата, ведь в норме крестьяне искали в невесте дородность, широкие да крутые бедра и хорошее приданое. Жена – это еще одна пара рук в хозяйстве и мать для деток. Но у Демьяна на дворе матери помогали батрачки. Семья могла себе позволить нанимать людей и этот факт мог пополнить копилочку причин, отчего сын был так долго не женат.
Все дороги ведут, как известно, в Рим. Римом для Демьяна этой весной стал дальний хутор. Куда бы ни отправился Демьян, все правил коня на знакомую дорожку. Другой раз и пешим совершал знатный крюк, лишь бы пройти мимо хатенки Колывановых.
Чаще всего его привечала Глафира Евсеевна. Они с Демьяном были почти ровесники и Глаша мнила себя женщиной в самом соку. То кофточку не застегнет до конца и с деланным стыдом при Демьяне поправляет. То юбку подоткнет по какой хозяйственной надобности, чтоб белизна икр была видна гостю. Демьян не мог не видеть всех ее немудреных бабьих ухищрений. Не будь он влюблен в дочку, может, и сгодилась бы ему Глашка. Так, на пару раз. Но он не собирался размениваться.
В один из погожих весенних дней, Демьян посетил семейство Колывановых, возвращаясь из Погара. Тарантас был запряжен гнедой лошадью, которая до недавнего времени звалась Машей, но уже месяц, как была переименована в Марфушу. Демьян лихо соскочил с козел, поднимая маленький тайфун придорожной пыли, и захватил с собой небольшой сверток
– Здравствуйте, маменька! – звучно обозначил свое отношение к Глаше Демьян
– Ох и нашел маменьку, – жеманно смеялась хозяйка, – здоровей видали, – приподнимая бровь и меряя парня взглядом, хорохорилась она.
– Что дочка ваша? дома?
– В дом? Проходи, проходи – как будто не расслышав вопрос, приглашала Глафира, шурша нижней юбкой и плавно покачивая бедрами. Она шла впереди Демьяна то и дело, оборачиваясь. Поворот головы: “Ой, не смотри на меня так”,– говорит взгляд. Отворачивается. Снова поворот: “а впрочем, ладно, смотри”.
Демьян и не думал смотреть, и весь маленький женский спектакль пропадал без зрителя.
–Я вам, матушка, рыбки привез, – сказал Демьян, особенно остановившись голосом на слове “матушка”. Он аккуратно прошел через сенцы, переживая как бы снова чего не опрокинуть, как в прошлый раз.
– Благодарствуем, – процедила сквозь зубы Глафира.
Рыба была редчайшим в Лобках угощением. Варенец – широкая, но мелководная речка. Доброй рыбы в Погарской волости почти не водилось, так, мелюзга всякая. Гостинец был знатным. Удивить таким образом “Машку с Глашкой, чтоб зенки у них повыпали” посоветовал вездесущий дед Антип.
– Так Маши нету? – пытаясь не показывать глубину расстройства, еще раз спросил Демьян.
– Нету, соколик, – как-то недобро глянула хозяйка, принимая сверток.
– Где же она?
– Где ж ей быть? – вроде как сама у себя спросила Глафира. И покумекав, через мгновение обрушила на Демьяна слова – Мабуть, с Павлом? Как на заре ушла к Сныткам, так домой еще не верталась. Передать что?
Глаза мужчины вспыхнули как два уголька. Вспыхнули и погасли. Он умел себя сдерживать, когда нужно было. Потолковав с Глафирой о ничего не значащих для обоих вещах, Демьян откланялся.
Новость, что Маша зарюет со Снытком, пришлась Демьяну не по нраву. Поначалу он даже хотел пойти по уже разыгранному десять лет назад сценарию – наступить своей страсти на горло. Но в этот раз “коханковская” порода взяла верх над доводами разума. К тому же он смекнул, что дело не в распутстве девки, а в ее своеволии и упрямстве. Была бы блудливой, так Павло был бы не единственным и ворота всенепременно ребята давно дегтем вымазали, да и держала бы она себя по-другому. Он предпринял на всякий случай несколько попыток найти в ней распутство, но ее реакции говорили в защиту ее чистоты и неопытности в амурных делах.
Демьян собрал небольшое досье, используя соцсеть Односельчане. ОтметЯ то, что селяне могли рассказать про Машу и Павло из зависти, ревности или злобы, выходило вот как. Павло и Маша дружат с детства, повзрослев, решили разделить жизнь друг с другом. Но Авдотья, мать Павло, переживала, что еще один рот при двух малолетних сестрах Павло будет в семье лишний. А Глафира рассчитывала на жениха побогаче, чем безродный Павло. Маша проявила своеволие – стала, не дожидаясь свадьбы, любить своего Павлика. Нехитрый ход искренней любви разбивал вдребезги хрустальную мечту матери о славном и зажиточном будущем за счет удачного замужества дочери. К такому повороту часто прибегали девушки, чтобы их не выдали замуж за нелюбого.
Когда ты прикипел к кому-то, все в этом человеке вызывает восхищение. Какая Маша смелая да гордая, – размышлял лежа в пуне на мякине Демьян, – не побоялась молвы и осуждения. Мария виделась ему гордым красивым существом, которое хотелось приручить и любить, покорить, а потом холить да лелеять.
– Эх, девка, не за тем парнем ты побежала супротив материной воли,– вспоминал о Павло Демьян – но по зову сердца, – клал он копеечку в копилочку Машиных достоинств.
Менее влюбленный человек, может, усмотрел бы, что то был зов другой части Машиного тела и не было здесь особенной гордости да дерзости, а одна лишь глупость женская да неуважение традиций. Степан Демьянович был как раз из таких людей. Родитель знал, что переубедить Демьяна, коли что задумал, сама Царица Небесная не сможет, прости, Господи, что скажешь.
Степап отпускал колкие шуточки по поводу Маши, Павло и Демьяна, чтоб хоть чуток остудить сына, но только разогревал того еще жарче. Вылетал молча Демьян из хаты, играя желваками, не желая продолжать разговор, чтоб не перечить отцу да ходил опосля с лицом каменным.
– Молчи уж лучше, Степан, не поминай при сыне Колыванову – говаривала мудрая Таисия, по привычке практически не используя мимику, с таким же каменным лицом, как у Демьяна. Не для того, чтоб морщин меньше было, об этом ей переживать было поздно и в то время морщины не считались чем-то позорным, а чтоб никто не мог по лицу считать мысли.
– Аль думаешь хорошая партия Машка для Демьяна нашего, может сватов зашлем? Эт я мигом. Ой, погоди, хромой то кобылы у нас в хозяйстве нету, на чем же поедем к нашей паночке? – прятал тревогу за остротами Степан Демьянович
– Нехороша партия. То, что бедные, это пусть. Это иной раз только на руку, больше в жене уважения. То, что погуленная девка – беды не вижу, коли девка хочет позор скрыть и признательна после, – размышляла вслух повидавшая жизнь Таисия, стоя посреди горницы и придерживая рукой голову, как будто мысли в ней были тяжелы или напирали на лоб.
– Отчего ж нехороша тогда партия, матушка моя? Что худое про нее знаешь? – спрашивал Степан серьезно, привставая со скамьи в нетерпении.
– Худого не вижу. Неплохая девка-то. Душа у нее чистая, прямая, гордая. Уступила бы Демьяну, он бы и охладел вскоре, а Павло простил бы опосля и все бы разрешилось. Да не уступит она, не люб ей Демьянушка. Как бы сын какой беды не наделал.
Степан Демьянович нутром чувствовал, что жена видит больше, чем говорит. Знал он и то, что проговаривать вслух беду – лишний раз горе кликать и потому не расспрашивал, уповая, на Господа. Пусть отведет, что бы ни узрела Таисия. Бог любит Коханков. Чай, беды не допустит. Но беда была тут как тут, даром, что не звали.
Глава 7 Павло
За весной явилось лето в сарафане заливных лугов, с подолом налитых зерном хлебов, с рукавами цветущего табака да хмеля. Урожай выдался богатым, работы на селе было через край. И стар, и млад были заняты делом от зари до зари. Не было времени для страданий, обид, любви, свадеб. В добрых хозяйствах все, кроме крестьянского труда, откладывалось на осень.
Степан Демьянович нагружал Демьяна Степановича больше обычного. Иногда пускался на хитрости, притворяясь более немощным, чем на самом деле. Старик в прямом смысле слова не давал сыну ни минуты продыху.
Павло нанялся на уборку табака в соседней волости. Обещали платить по пятьдесят копеек в день. Мать Авдотья разрешила сыграть свадьбу с Машей по осени, но денег парнишка должен был заработать сам.
Колыванова младшая пошла сезонной кухаркой на усадьбу к Наврозовым. Она готовила нехитрую еду для нанятых на лето людей и помогала делать запасы на зиму в виде солений, варений, колбас, пастилы, сушеных овощей, ягод и фруктов. За труд от зари до заката девушке платили по двадцать копеек в день. Совсем не густо. В разы меньше платили женскому полу по сравнению с работниками-мужчинами. Знай, Маша, что это никуда не годится и что существует равноправие и что платить должны одинаково, без всякого шовинизма и сексизма, так наверное осталась бы без работы. Но она не знала ни о суфражистках, ни о феминистках, и была рада тому, что получает (Суфражистки и феминистки боролись за права женщин. Для начала им невтерпеж как хотелось голосовать наравне с мужчинами, получать плату за труд не меньше, чем мужчины, иметь доступ к образованию и все такое. Впоследствии все это привело к тому, что женщины получили не только права, но и ворох обязанностей, типа платить налоги наравне с мужчинами, содержать детей. По мнению автора, именно их движение способствовало тому, что мужчины по всему миру перестали законно нести ответственность за женщин. Потому что всякая идея, доведенная до абсурда, становится абсурдом). Еда и кров предоставлялись, к питию вина Маша была равнодушна, так что все денежки ей удавалось копить. Она знала, что мать будет кочевряжиться, как придут сваты от Павло, и хотела ее умаслить хорошим подарком. Лучший подарок для Глафиры Евсеевны – денежки. Оченно она их уважала.
Герасютиха подалась с несколькими девками да бабами на богомолье. Пойти на богомолье – звучит благопристойно и, наверное, представляются крестящиеся старушки в белых платочках, что расточают поклоны поясные да заемные Творцу. На деле на богомолье уходили женщины разного возраста. В основном не отягощенные большим хозяйством или если есть кого на хозяйстве оставить. Детей малых зачастую брали с собой. Возможно, чтоб было проще христарадничать, то есть, попрошайничать.
Официально миссия была не в бомжевании и отлынивании от тяжелой крестьянской работы, а – в паломничестве ко святым местам. Наверное, так крестьяне реализовывали свою тягу к путешествиям, чтоб из привычного попасть в непривычное, мир посмотреть да в конце пути святым мощам да знаменитым иконам поклониться. Телевизора и Интернета не было, не было даже цветных открыток. Единственный способ увидеть диковинное – снарядиться, добраться и посмотреть. Вместо селфи – живые эмоции и память на всю жизнь. А потом, в своем краю ты становишься ведущим “Орел и решка”, рассказывая по многу раз, что в далеких краях повидал. По дороге на дворах постоялых и ночлегах могло происходить всякое. Так что, придя к месту назначения, всем было о чем помолиться и за что у Господа попросить прощения. А когда и у кого нет такого повода?
В отсутствии Герасютихи функции главного местного канала новостей были творчески разделены между дедом Антипом, Агафьей Ельцовой и Анчуткой Цыганковой. Справлялась эта троица так себе. Сплетни разносились ими хаотично и без особого прицела, бездумно передавали они услышанное и увиденное. Разве что Агафья могла добротно прибрехать да хорошенько приукрасить, но до Герасютихи ей было далеко.
В конце августа через село проходил табор цыган. Они разбили свой стан, не доходя до Погара версты три. Их цветные шатры и палатки раскрасили убранное желтое поле всего на пару дней. По ночам молодежь ездила на зов их костров и песен. Крестьяне близлежащих сел и деревень зорко стерегли своих коней, не одобряя цветастого соседства. На третий день пожаловали казаки из уезда и табор без особенных возражений снялся с необжитого места.
В Лобках все кони были на месте. Не досчитались средней внучки Герасютихи – Меланьи Балабковой. Говаривали, что этот же табор проходил здесь год назад, когда Меланье было пятнадцать (Брачный возраст в России наступал для мужчин с 18 лет, для девушек – с 16. Требовалось согласие родителей или опекунов). Черноглазый и чернобровый сын цыганского народа еще тогда пришелся Меланье по вкусу. В этом году они сговорились и в условленный час тот увез девушку в табор. “Коней уберегли, а козочку одну подрезали”, – комментировал произошедшее дед Антип на своем новостном канале.
Добровольный отъезд Меланьи с “нехристем” стал самым большим инфоповодом лета. Сельчане качали головами и радовались за родителей новоиспеченной цыганки, дескать, те не дожили до такого позора. Одноногий дед Балабок, как бы извиняясь, долдонил “я ж без ноги, не уследил”. Как будто наличие у него второй конечности могло как-то изменить ситуацию и затушить страсть Меланьи к черноглазому цыганчонку. Признаться, пропажа лишнего рта, не сказать, что обрадовала старика, но точно не сильно расстроила. Иначе он мог бы пожаловаться десятскому или волостному старшине и шанс вернуть Меланью был очень высок. Шанс то был, но Балабок им не воспользовался.
Тем временем летний сарафан Брянщины сменился пестрым осенним платьем. На богатом цветастом одеянии: пуговицы черники и поздней смородины, орнамент душистых яблок и сладких слив, россыпь червленой облепихи, подол – из убранных колосьев ржи, овса да пшеницы. Кружилась природа Черниговской губернии (Село Лобки в начале двадцатого века принадлежало к Погарской волости Стародубского уезда (читай – района) Черниговской губернии (области)) в таком одеянии под оркестр багряной, желтой, красной, бордовой, рыжей и золотой листвы, наполняя душу осенним неспешным вальсом.
Работы немного поубавилось. Группа паломниц с Герасютихой вернулись до дождей по домам. По дороге им встречались сезонные рабочие. Те понесли пожитки в холщовых заплечных мешках, надеясь поймать трудовую удачу в городах. На селе их услуги в этот год были более без надобности. Осядут горемычные в шинках, прогуляют большую часть летнего заработка и с чистой совестью и пустым или полупустым карманом будут сетовать на свою судьбу. Не зря революции обычно зимой или поздней осенью свершают. Подходящее у людей, кто себе дела не нашел, настроение.
В середине сентября Маша Колыванова вернулась из усадьбы Наврозовых на дальний хутор. Как только рассчитали сезонных работяг, местная немолодая кухарка всеми правдами неправдами выжила Машу со своей кухни. Обоснованно переживала старуха, что Маша миловидней и расторопней, чем она. А на симпатичную прислугу, известно, глаз панский больше радуется. Такая конкуренция кухонной работнице была не по нутру и она потратила немало хозяйской наливочки и других весомых аргументов управляющему усадьбой против присутствия на усадьбе Маши.
Возлюбленный Маши Павло пришел из Погара на дальний хутор пешком. Потный, в дорожной пыли, со сбитыми ногами, даже в таком неприглядном виде не смог он миновать подворье Колывановых.
Маша прижалась к нему всем телом, ощущая запах его путешествия и дробный стук сердца. Не таясь, долго долго стояли они посреди улицы, словно прорастая друг в друга, превращаясь в одно целое. Павло был невысокого роста, всего на пару вершков выше Маши (1 вершок – примерно 4,45 см). Глаза их были почти на одном уровне. Маша верила и не верила, что вот он, ее Павлуша, стоит перед ней и она видит себя в его глазах, на которые то и дело падают его белесые длинные кудри. Они бы еще долго простояли, не в силах наглядеться друг на друга. Но соседская детвора загалдела: “жених и невеста, тили-тили тесто”. На их крики выскочила как ошпаренная из сарая Глафира Евсеевна, стрекоча по сторонам беличьим своим взглядом.
– Здравствуйте, Глафира Евсеевна, – устало произнес Павло.
– И вам не хворать. На чем же записать такое счастье, Палываныч? Какими судьбами? Нешто сразу к нам? А как же маменьку проведать? Не хорошо, Палываныч, не хорошо. Поклон Авдотьюшке.
Глаша не дала молодым перемолвиться даже парой фраз, выпроводив возлюбленного дочери со своей территории на нейтральную по добру, по здорову – до дому, до хаты.
– На закате, на нашем месте, – уже вдогонку услышал Павло любимый голос-колокольчик своей Машеньки.
– На нашем месте, на нашем месте, – кривляла Машу мамаша, – ух! Всыпать бы тебе по одному месту! – не выдержала Глафира, глядя на филейные части дочкиного тела. Так и шла она за ней, сжимая маленькие кулачки и как будто ища по двору хворостину. От бессилия ее беличье хитренькое и востроносенькое лицо покрыла испарина.
В версте от двора Колывановых на Павло повисла другая женщина. Авдотья. Мамочка. Так же смотрела она на Павло и не могла налюбоваться на его необычного цвета лилово-голубые глазоньки, на золотистые кудри, ниспадающие на красивое его лицо. Высыпали на улицу сестренки, прильнули к мамке и брату.
– Совсем невесточки, – улыбался Павло, осаждаемый бабьим войском. У него было чувство, что он пришел не с работ из соседнего уезда, а с войны. Так тепло они его встречали.
На сходе велели всем хлопцам двадцати лет явиться в уездное Присутствие в первый день грудня (Грудень – ноябрь), – уже в хате, меча на стол все, что есть в печи, вспомнила заполошная Авдотья. Присутствие – царская канцелярия, выполнявшая, в том числе, функции военкомата.
– Жребий что ль тянуть? – спокойно спросил Павло, откидывая кудрявые волосы назад, чтоб в тарелку не лезли, окаянные (С 1874 года все годные на службу парни тянули жребий и в соответствии с вытянутым номером шли на действительную службу или в запас, а по истечению 15 лет – в ополчение. От жребия освобождался ряд льготников. Льготы были разных разрядов и видов).
– Нииии, – протянула Авдотья, – у тебя льгота самого первого разряда (Первый разряд льготы по семейному положению: а) для единственного способного к труду сына, при отце, к труду неспособном, или при матери-вдове; б) для единственного способного к труду брата, при одном или нескольких круглых сиротах, братьях или сестрах; в) для единственного способного к труду внука, при деде или бабке, не имевших способного к труду сына; г) для единственного сына в семье, хотя бы при отце, способном к труду и д) для внебрачного ребенка в семье, на попечении которого находились: мать, не имевшая других способных к труду сыновей, или сестра, или неспособный к труду брат). Один ты добытчик при мне и малолетних сестрах. Я узнавала. Писарь в Присутствии сказывал, пожизненная льгота энта.
– Бумагу надобно наверное справить, чтоб льготу зачли? – предположил Павло, не догадываясь как тяжело будет получать такую бумагу для военкомата в двадцать первом веке и как сильно за сто лет изменится состав льгот.
– Известное дело. Волостной староста сказывал, что бумагу о семье выправил и куда следует передал. Я спрашивала про свидетельство из волостного правления, он кажит, не потребуется.
Авдотья помнила, как забрали в солдаты ее муженечка Ивана. Долго после этого в страшных опустошающих снах ей являлось военное присутствие и последний виноватый и жалкий взгляд Ванечки. Она просыпалась, разметавшаяся по кровати, в слезах и поту и с ужасом понимала, что это не сон, а тяжелое муторное воспоминание.
– От Глафиры Евсеевны поклон, – жадно сербая “варево”, сквозь рот, полный еды, передал Павло (Варево – щи или подобие супа. В Орловской губернии в скоромные дни варево приправлялись салом, в постные – конопляным маслом).
– Благодарствую. Когда ж успел до них? – чуть заметно поджались губы Авдотьи.
– Так мимоходом, мам, по дороге ж мне, – загружая остатки щей из миски в запрокинутый рот, оправдывался сын. Он словно хотел спрятать лицо за миской.
“Прям как пеликан едой нагрузился”, – могла бы подумать Авдотья, но она никогда не видела пеликанов и поэтому не подумала.
Павло хотел было обсудить с матерью предстоящую свадьбу с Колывановой, но его остановили поджатые материны губы при упоминании о Глафире Евсеевне. Ну как толковать о сговоре с будущей свашенькой, когда одно имя свашеньки вызывает оскомину. (Сговор (обручение, помолвка, запой, заручины, просватанье, своды, рукобитье) – важная часть русского свадебного обряда, в ходе которой родители жениха и невесты договаривались по поводу свадьбы детей. Устанавливался окончательный размер приданого и поклажи, оговаривались всякие материально-технические свадебные приготовления. Сваты знакомились семьями и зачастую напивались пьяны в доме у невесты. В том числе, чтоб увидеть всю подноготную будущих родственников)
Да и что обсуждать, обещала мать добро дать. Он все лето спины не разгибал на табачной фабрике. Целых пятьдесят целковых скопил на предстоящую свадьбу. Не возьмет матушка слов обратно. Осенний мясоед продлится до начала Рождественского поста (Осенний мясоед (между Успенским и Рождественским постами) начинается на следующий день после праздника Успение Божией Матери – 29 августа и продолжается до 27 ноября – дня святого Апостола Филиппа. В народном календаре древних славян 14 (27) ноября назывался Куделицей. Он завершал сезон свадеб. Таким вот чудесным образом накладывались христианские праздники поверх уже существующих народных обрядов). На дворе – хмурень (сентябрь). Есть еще времечко, чтоб сговориться да сделать все честь по чести. Хорошо бы в свадебник (октябрь). Только удастся ль сговориться с Колывановой старшей? Не запросит ли ее беличья душа непомерную поклажу? Кого позвать поязыкатей в свахи, чтоб разрешила спор? Одному такие сказки не рассказать, а мать неожиданно стала не в духе. После потолкуем, – прокрастинировал Павло.
В середине октября-свадебника Маша и Павло нежились на теплом зипуне в риге.
– Паш, мне в материном доме тошно. Мать совсем голову потеряла. Прочит меня замуж за нелюбого, за рыжего Коханка. Он ей мягко стелет, она тает. Я ей говорю, сами за него и идите, матушка, коли он вам так нравится
– ахаха! хорошо ты придумала
– я то хорошо придумала. Ты что делать думаешь?
– Поговорю с матушкой да зазовем сватов к вам
– Когда ж поговоришь?
– Поговорю, горлица моя, поговорю. В духе добром будет и поговорю.
Мать Авдотья так и не пришла в нужный дух до самого грудня, в первый день которого нужно было зачем-то явиться в уезд. Со слов старосты, Павло требовался “для мебли”. Тянуть жребий ему без надобности. Дескать, в этом году всем годным, включая льготников, надлежало явиться вместе с призывниками в Стародуб. Путь не близкий, почитай тридцать пять верст.
Все годные к службе парни отгуляли свое в ночь перед первым ноября (Годные – в ночь перед тем, как отправиться тянуть жребий, кто из них пойдет на действительную службу, а кто в запас, все годные к службе двадцатилетние парни по традиции шумно и весело гуляли). Лобки каким-то ежегодным чудом выдержали буйное веселье призывников. Павло не упустил возможность погулять с друзьям. Возможно, с кем-то из них они больше не увидятся. Один из них угощал и угощал его, сверх всякой меры. Почти до зари вся ватага годных шкалик за шкаликом опустошала запасы местного потайного, но известного всем шинка.
Ехали в Стародуб гуртом. Было холодно и ветер разгулялся, мать его так. Павло где-то оставил шапку и наборной пояс зипуна, сидел нахохлившись, весь мятый и не протрезвевший. В дороге так замерз, что ничего не понимал и двигался на чистом автопилоте, как сказали бы его правнуки.
Приехали. Казенный двор нагонял серую тоску. Где он? Зачем он здесь? Долго ему еще тут стоять с призывниками? И когда их, льготников, повезут домой? И где дОлжно стоять льготникам? И куда делся староста? Вопросы медленно шевелились в заспанной тяжелой голове. Вспухая, как волдыри жижи на болоте.
Призывники тянули жребий. Их вызывали поименно. Неожиданно Павло услышал свою фамилию вкупе со своим именем. Надо же какое совпадение, шевельнулось в его замерзшем мозгу. Опять. “Снытко Павел!” “Снытко Павел?!”
– Иди! Тебя! – кто-то толкнул его и он поковылял через плац. Вытянул продолговатую бумажку. Номер он ее не видел, писарь забрал листочек и огласил его сам. Аккурат номер для действенной службы. “У меня льгота. Первого разряда. Семейная. У меня льгота. Бумага ж есть”, – твердил он всем вокруг, но никто не слушал. Была бы льгота, чтоб ты тут делал? Льготники дома на печах лежат.
То ли обманул их с матерью староста, то ли что-то напутал. А только попал Павло на действительную службу, как кур во щи. Было это в ноябре 1901 года. Призывались ребята на долгих шесть лет. Помятуя об антивезении старшего Снытко, не сложно угадать, что белесые кудри Павло никто больше в Лобках не увидит.
“И ведь не одной они с Ванькой Снытко крови, а невезучесть Ванькина передалась. Авдотья, значится, корень невезения, через нее вся беда”, – зло вещал потом по селу беспощадный канал бабки Герасютихи.
Как только дошел до Маши слух, что Павло ее теперича в армии, себя не помня, полетела-побежала девка к несостоявшейся свекрови на двор.
– Через тебяяяя всяяяя беда! Гадинааа! Павло говаривал, глаза-василькиии у ней, у Машеньки моеееей. А сама змея проклятая! – голосила в слезах и отчаянии Авдотья.
– Авдотья Филипповна, Господь с вами. В чем я то пред вами виновна? Я Павлика люблю и ждать буду.
– Чего ждать ты будешь? Через твою любовь окаянную пропал сыночек мой, кровиночка, – источала свою боль, раня всех вокруг Авдотья. Малуша и Людмилка жались друг к дружке на передней лавке, ничего не понимая, но веря, что вот она, змея, Машка, через нее брата забрали в армию. Армия рисовалась им чем-то вроде Ада, откуда живыми не возвращаются.
– Зачем вы так говорите? – бесцветно проскрипел Машин голос – я к вам, к одной пришла, не к кому больше.
– Уйди с глаз моих, уйди, проклятая, и не попадайся мне, мОчи нет на тебя смотреть.
Маша беспомощно подняла руки к опухшему от слез лицу, на секунду задержала их обручем, словно придерживая, чтоб голова ее не раскололась на части, тяжело вздохнула, покачала головой в знак неверия тому, что случилось, и пошла прочь, держась за голову, не отнимая рук ото лба. Павло, ее златокудрый Лель, не приедет к ней и свадьбы в зимний мясоед не будет ((Зимний мясоед длится с Рождества (7 января) по последний день Масленицы. Свадьбы играют обычно после Иванова дня (20 января) и до Масленицы (начало масленичной недели – дата плавающая, примерно конец февраля – начало марта)).
Глава 8 Варвара Макаровна
Ошибалась Машенька. Случилась свадьба. И не за двадцать рублей, а за двести! Давно в Лобках так не гуляли.
В первые дни святок (Святки – несколько дней после Рождества Христова) снарядились Коханки на смотрины невесты. Демьян запряг в сани серого рысака в яблоках и гнедого донской породы коня, помог усесться Таисии Афанасьевне и свахе Варваре Макаровне. Степан Демьянович взгромоздился самостоятельно, всем своим видом показывая, что хоть он и участвует в затее, но затея гроша ломанного не стоит. Демьян, благодарно заглядывая в глаза матери, заботливо укутал ноги родителей овчиною, сам сел рядом с Макаровной, раскрасневшейся от мороза и выпитой “для хорошего сговора” водочки. Та стреляла по сторонам глазами, придерживая на коленях подарки и угощенье. Правил Илья, Акулина примостилась рядом с ним на кОзлах и концессия тронулась в неспешный путь.
В это время принаряженная Глафира Евсеевна скакала белкой по избе. Макаровна загодя обговорила с ней общие моменты, а этим утром Коханки отправили Колывановым голосовое сообщение. Дескать, кланяемся, принимайте в вечеру гостей. Голосовушка была платной и в валенках. За труды сын батрачки Кирюшка получил одну копеечку. На обратном пути малец раззвонил новость по всему селу. Очевидно, функция “рассказать всем, кого встречу по дороге ” входила в стоимость оплаченного тарифа.
Бабка Герасютиха, как только новость достигла ее не по годам чутких ушей, тотчас засобиралась к Колывановым. Ее гнал к ним журналистский долг, вперемешку со святым крестьянским любопытством. Еле дожила она до вечера. Слава Христу, вечерело в январе рано, а не то б она совсем извелась. Явилась бабуська часа за полтора до Коханков. Там уже находился дед Антип. Глафира Евсеевна сама его кликнула, чтоб выступил в роли крестного Маши, заменяя отца. Антип глядел на Параскеву Ивановну с нескрываемым превосходством.
Ощущение превосходства журналиста-конкурента подталкивало Герасютиху к действиям. Она изводила и без того дерганную Глафиру Евсеевну искрометнейшими замечаниями да вопросами, типа “подсобить чем, хозяюшка?” “а может сухой калинки к чаю принесть?” “а хлеб то не сырой внутри, Глашенька, что-то бледноват?” “а водки немало ты приготовила?” “а из закуски то что?” Евсеевна готова была выгнать горе-помощницу взашей, но понимала, что ни по чем Герасютиха не уйдет. И только приговаривала “ой, соседушка, не знаю, я не знаю, еще вы под руку булькаете, сидите ужо!” Антип Балабок, осознавая дальше и глубже важность миссии, возложенной на него, весь раздувался и совсем уж свысока поглядывал на Герасютиху, отчего та еще больше кудахтала, а Глафира Евсеевна еще больше подпрыгивала.
Не об водке да закуске переживала Колыванова старшая, а о загадочной непредсказуемости Колывановой-младшей. Как ее разобрать? Весь последний месяц, как Павло попал в солдаты и Авдотья, как ни бегала по присутствиям, как ни молила, не смогла вернуть “льготника”, Маша была сама не своя. Бледная и словно не живая. Как будто Павло унес в кармане зипуна ее душу. Тело Маши осталось в Лобках и способно было совершать какие-то механические обыденные действия, а душа ушла из этого тела сопровождать горемычного возлюбленного в его армейских мытарствах.
По всему селу трезвонили, что избираемый раз в три года староста пошел на встречу Коханку и подстроил жребий Павло. А как не пойти было старосте? Голоса Коханков на сельском сходе весили гораздо больше, чем голос Павло Снытко (Сельский сход – местное крестьянское самоуправление. Крестьяне по сути вели общинное хозяйство. Например, подати (налоги) собирались старшиной и подавались от всего села. Если зажиточные крестьяне (основные плательщики) не уплатят их в срок, то старшине не миновать неприятностей с земскими властями. Принятие решений на сельском сходе напрямую зависело от самых больших семей, которые обычно были заодно. Таким образом, они могли влиять на старосту и на жизнь всего села, держали народ “в кулаке”. Возможно поэтому зажиточные большие семьи называли в деревнях “кулаками.”). Проголосуют против Коханки – и полдеревни за ними повторят. Не видать тогда старосте своего места. А это шестьсот рублей жалованья, да еще столько же, а то и поболее, на всяких махинациях при распределении общественной собственности.
И вот по непроверенным слухам зачинщик Машиного несчастья – Демьян едет свататься. Слышала ли дочка треп про старосту и Демьяна или не слышала? Что она там себе думает за пустыми невидящими никого глазами? Что у ней за настроения? Как себя дочь поведет? Глафира Евсеевна могла только догадываться. Вот и металась баба по избе как белка в преславутом колесе, занимая себя деятельностью, чтоб успокоить нервы. А тут еще Герасютиха со своим журналистским расследованием!
“Едут! едут” – послышались со двора запыхавшиеся детские голоса и через несколько долгих мгновений в небогатые владения Колывановых въехали сани Коханков. В тот же момент что-то с дребезгом разбилось в бабьем углу (Бабий кут (бабий угол, печной угол, теплюшка, чулан, кухня) находился напротив “рта” печи. Обычно крестьяне отделяли его от основного помещения занавесом или деревянной переборкой, так что получалась маленькая комнатка – исключительно женское пространством в избе).
Глафира Евсеевна с Антипом Ельцовым по традиции не пошли встречать гостей, а ожидали чинно в хате. Первой вошла Таисия Афанасьевна. Ни одной мысли на лице ее прочесть невозможно. Она почему-то напомнила Глафире Евсеевне Богоматерь Семистрельную с иконы, что стояла в красном углу. Обладательница непроницаемых, но острых как алмаз глаз была одета в богатую беличью шубу и красивую расписную шаль. Следом за иконой крестьянского стиля показалась Варвара Макаровна в овчинном добротном тулупе. Женщины поздоровались.
– Нам за матицу перейти надо, – по-театральному громко и певуче молвила Варвара.
– Что ж, хорошее дело, – залопотала в ответ Глафира, чувствуя, что дело и впрямь для нее хорошее.
Дальше дежурное: “у вас товар, у нас купец”, “мы не шутим”, “и мы не шутим, мы с отцом согласны.”
После этих слов в горницу вошли оставшиеся концессионеры. Степан Демьянович поглаживал ладную длинную бороду, как будто он не был уверен, что пришел по адресу. Глаза Демьяна напротив жгли пространство исступленностью и было ясно, что он или уйдет отсюда с “товаром” или …не может быть никакого “или”. Акулька с Ильей хранили нейтральные лица.
– Сейчас дочку спрошу,– метнулась Глафира за пеструю ситцевую занавеску в бабий угол.
Демьяну показалось, что их нет добрых полчаса. На деле прошло минуты две. Наконец гордо появилась Евсеевна-старшая. Будущая свашенька ступнула пару шагов от занавески, явно рассчитывая, что позади нее неслышной девичьей походкой грациозно семенит дочь. Глафира посторонилась, обеими руками медленно и театрально зачерпнула немного воздуха и перенесла этот воздух справа от себя, чуть за спину, словно показывая “вот оно – мое сокровище сияет перед вами”. Шасть глазами, а сокровище-то за ней не вышло!
Глафира выпучила глаза на полное отсутствие Маши, как будто могла ее материализовать силой мысли. Она выставила две ладони вперед от себя, жестом давая понять: “Дорогие мои зрители, минуточку, технические неполадки, сей же час все будет исправлено” и скрылась за занавеской.
Демьян побледнел, еще жестче стал его взгляд. Отец закатил глаза, глубоко-глубоко вздохнул и перестал гладить бороду. Таисия хранила то же лицо, с которым вошла. Макаровна заметалась, похоже, она в совершенстве владела техникой “метаться, не сходя с места”. В том ей помогал украденный по традиции веник – нещадно колол под юбкой, куда она его мастерски спрятала. (По преданию украденный свахой веник сулил согласие невесты. Домыслы автора: когда-то давно одну из предприимчивых свах уличили в краже хозяйственного инвентаря и ей ничего не оставалось, как придумать эту традицию. Типа “на кой ляд мне ваш веник вшивый, традиция такая, а вы, дураки темные, и не знаете, тьфу на вас!”. Так и пошло) В голове у ней закипело: “Ужель веник не сработал?! Батюшки светы, что деется!”
Но сила веника пересилила волю Маши и каким-то чудом она вышла за матерью. Та вела ее теперь за руку, как маленькую непослушную девочку, что не хочет рассказать гостям стишок.
“Как же хороша!” – мысль Демьяна.
“Фух! Сработал веник! – мысль Макаровны. Покалывания веника стали ей теперь родны и приятственны.
– Как вы, батюшка и матушка, желаете – глядя на всех и ни на кого конкретно еле слышно, холодно и обреченно произнесла Маша.
Таисия и Варвара подошли к девушке. Обычно свахи на этом этапе осматривают “товар-невесту”, как какую-нибудь скотинку перед покупкой. Могут даже попросить пройтись или показать зубы, высказывая свои оценочные суждения. Возможно, Макаровна так бы и поступила. Но начать осмотр должна была мать жениха, а та что-то медлила и отходила от принятого протокола.
Вместо того, чтобы задать ряд унизительных вопросов, Таисия Афанасьевна глянула в глаза будущей невестки. Смотрела она долго и пристально. “Наша Маша”. Сказано было с участием, ласково и по-матерински. Мария словно очнулась и взгляд ее потеплел. Видно было, что она не ожидала такой обволакивающей добротой фразы. Чувствовалось, что давно не слышала она подобных фраз и сердце истосковалось по человеческому обращению.
Таисия словно напустила на нее гипноз, гипноз принятия. Когда ты чувствуешь, что кто-то принимает тебя всего без остатка, со всем твоим прошлым, всеми ошибками и горестями, принимает не потому что одобряет, понимает или сочувствует, а просто разрешает тебе быть самим собой и ни за что не осуждает.
– Что ж, можно и винца выпить! – с облегчением выдохнула Глафира, вернув своим голосом Машу в привычный опостылевший мир попреков и сравнений.
Дальше были разговоры при “поклажу” от жениха и “дары” от невесты и совместные возлияния сватов. В общем, “пропили невесту”, как ритуально называется сие действие.
Как во сне прошли для Маши “смотренки” (Смотренки, смотрины – еще один ритуальный совместный пир в доме невесты с богатыми гостинцами от жениха и родни невесты), благословение матери и свекров и “покатушки” (Жених после смотренок катает невесту и ее подруг по селу), девичник и сама свадьба. Она не была весела, но была спокойна и даже иногда улыбалась. Безропотно выполняла невеста все необходимые предсвадебные и свадебные действия: подставляла голову, когда повязывала будущая свекровь платок на голову, шила жениху рубашки, парилась с девушками в баньке, где распускали ее девичью косу, держалась с Демьяном за руки, стояла красивой точеной статуэткой в церкви на венчании.
Проснулась она, когда обнаружила себя на брачном ложе – обычной завалинке в избе у Коханков. Демьян истово целовал ее губы, осыпал поцелуями лицо, шею и плечи, просунул горячие умелые руки под исподнюю рубашку, легко нашел ее тверденькие девичьи груди, приятно сжал пальцами соски, отчего у Маши внизу живота потеплело и повлажнело. Он словно ждал этого и его рука легко и точно определила, откуда исходит жар Машиного тела и хозяйничала в срамном месте. Тело жены выгнулось и она часто, удивленно и испуганно задышала. Муж проник в нее, властно, уверенно, страстно и со знанием дела. Она вытерпела приятное вторжение, но несмотря на благоприятные факторы особого удовольствия от близости не испытала. Демьян оставался по-прежнему чужой.
Если бы Маша смогла хоть на минутку отключить голову и расслабиться, то наверняка не раз была бы потом инициатором брачных игр с мужем. Но она не догадалась так сделать. Не читала она в Космополитене, что оргазм – в голове и что ей непременно его нужно испытывать при каждой близости. Маша испытывала угрызения совести за свое естественное удовольствие и страдала по утраченному Павло с удвоенной силой. Такое впечатление, что если бы кто-то сделал томографию Машиного мозга, то вместо обычного снимка орехового вида полушарий получилась бы фотокарточка Павлика. А то и две.
Маша не помнила, чтобы от робких прикосновений Павло с ней происходило нечто подобное, чтоб тело ее так бесчинно реагировало, выгибалось, сочилось. Не иначе рыжий Демьян – колдун и знает что-то запретное и срамное, что милый и добрый Павлик не обязан и не мог знать. Так думала новобрачная, не желая признавать, что природа взяла свое, а Павлик просто не одарен был по естественной части. Ведь секс – музыка тела, у кого-то есть слух, а у кому-то медведь на ухо наступил. А у некоторых белобрысых Лелей кое-что не больше свистульки и руки не из нужного места для энтого дела произрастают.
Глава 9 Иван
Время шло. Мария старалась всячески избегать колдовского влияния законного мужа. Ее холодность не оттолкивала Демьяна, а только больше распаляла. Заводило, что молодая жена, уступая натиску, словно совсем не хочет близости, но через несколько сладких минут ничего не может с собой поделать: извивается и стонет под ним. Ее явный и забавный страх перед его желаниями пробуждал в нем животное начало. Каждый раз Демьян покорял и укрощал супругу, как в первый. Ответными ласками рыжего колдуна Маша не одаривала. Другой бы плюнул и вернулся к более опытным в постельных делах бобылкам, но по первой Демьян наслаждался ежедневными завоеваниями и было как-то не до соседок.
К неудовольствию Акулины не особенно озадаченная работой по дому Маша находила массу времени для страданий по Павло. Мария казалась себе эдакой царевной, которую украл кащей бессмертный (Забегая вперед: Демьян Степанович (1871-1972) прожил 101 год) и непременно должен спасти Принц. Здоровые мечты шестнадцатилетней девушки. Все ждала от любимого весточки, готовая убежать с ним, куда глаза глядят. Романтичная ее натура представляла их встречу через пять лет. Как он придет за ней после армии, возмужавший, златокудрый и в кожаных сапогах, и она упорхнет из дома Коханков, только ее и видели.
Через год после свадьбы фантазии Маши о Павло приняли несколько навязчивые формы. Почти в каждом человеке, что шел по селу ей виделся возлюбленный. Положение усугубляло, что дом Коханков высился над всем селом на довольно высоком пригорке. Маша, по-прежнему не особенно занятая по хозяйству, могла украдкой изучать местность и чуть завидит кого, так вытянется стрункой и трепетно вглядывается в пространство. Ни дать ни взять Ассоль и алые паруса.
Акульке не раз хотелось врезать снохе по корпусу, чтоб выбить дурную привычку. Всем домочадцам было понятно, кого высматривает Мария Евсеевна СИ-ПЕЙ-КО. Свекр давно отходил бы невесточку вожжами и ей наверняка бы полегчало, но Таисия Афанасьевна словно взяла сторону Маши и с ее незримого разрешения та предавалась своим причудам. Не смущало гордую Таисию даже то, что невестка делилась с посторонними, что не любит Демьяна и жить с ним не будет. Ей хватило ума поделиться такими соображениями “по секрету” с Герасютихой.
Гриф “по секрету” при передаче какой-либо информации каналу инфо-Герасютиха по незримому правилу обозначал ускорение передачи данных и расширение сетки оповещенных. Чтобы прознали все и скорейшим образом требовалось добавить “Только ты уж, Параскева Ивановна, не предай меня, между нами пусть останется”. “Ни в жисть, ни в жисть, будь, матушка моя, покойна. Я никому, никому!” Если бы у Герасютихи был смартфон, она бы в ту секунду как это говорит, набирала бы под столом сообщение и делала массовую рассылку в группу “Лобки”, “Борщово”, “Погар”. Но у Герасютихи – только ноги и длинный язык.
Пару раз в первый год замужества Маша собирала свои нехитрые пожитки и уходила через село на дальний хутор. Оба раза ее, как нашкодившую собачку, приводила в дом свекров Глафира Евсеевна. С поклонами, заискиваниями, кривыми улыбками и сетованиями на дурь дочери, матерью повыбитую. На третий раз Глафира Евсеевна предприняла новую тактику, когда узнала, что дочь с мешочком отправляется до матушки. Она попросту закрыла дом и ушла ночевать к Герасютихе. То, что Машу из уважения к Коханкам никто на ночлег не возьмет, было ею тонко просчитано. К слову сказать, взять могла из любопытства Герасютиха. Именно поэтому Евсеевна окопалась у нее, а не у кого-то другого. На улице было морозно, и Маше после не очень долгих раздумий ничего не оставалось делать, как вернуться в дом Кащея. Не ночевать же царевне в сараюшке.
Через года полтора “дурь” чудесным образом исчезла. Кое-что произошло на дворе Коханков, что-то, в чем участвовало двое. С Машиных глаз вдруг упала пелена. Увидела она себя взрослой замужней молодой женщиной, которую взяли в богатый да любый дом, где долго терпят ее глупые девчачьи выходки. В доме этом она живет с одним из самых завидных мужиков села. Конечно, Маша не воспылала какой-то дикой страстью к Демьяну. Она просто приняла то, что не в силах изменить. Приняла с радостью и осознанием, что Господь лучше знает, что нужно и все, что ни делается, то к лучшему.
На третий год супружеской жизни в семье Демьяна Коханка родился первенец – сыночек Ванечка. Мать в нем, как удивительно говорят на селе, “души не чаяла”. Почему в народе закрепилось, что если ты кого-то любишь, то не слышишь, не чувствуешь его душу? Психологи, наверное, вывели бы интересную теорию по данному поводу. А физиологи – еще интересней. Простыми словами, шибут тебе в голову гормоны и ты себе отчета не отдаешь.
Мария конечно ничего не ведала ни про какие гормоны. Она беззаветно носилась со своим первенцем Ванечкой. Что было в деревне, мягко говоря, диковато. Это в конце двадцатого века стало нормой, что мать “сдувает пылинки” со своего долгожданного ребеночка, иногда забывая о муже и вообще обо всем на свете. В начале века в крестьянских семьях все обстояло совершенно по-другому. По сути, дети были чем-то вроде миниатюрных взрослых. И даже некоей обузой пока они не смогут быть полезными по хозяйству.
Если бы современные матери увидели прообраз ходунков – дуплянку, то их глаза расширились бы в неприятном удивлении. Деревянная конструкция типа стула с дыркой для совсем маленького ребенка. Дырявый стул прибит к плоскому днищу. В него вставляли мальца и он не мог никуда из него деться. В таком положении пупсик мог безопасно стоять и не мешать маме суетиться по хозяйству. Все, чем он мог ответить на данный антипедагогический прием – это обгадиться. Что было не очень целесообразно, так как зачастую количество тех, кто бросал все свои дела и кидался его подмывать, было равно нулю. Его даже могли в таком пахучем виде поставить подальше в угол. Такая вот проза детской крестьянской жизни.
Детство Ивана Сипейко по сравнению с бытом большинства крестьянских детей того времени было не прозой, а самыми что ни на есть стихами. Уж он то не стоял обкаканый и позабытый позаброшенный в уголочке. Мария не спускала его с рук, не оставляла в колыбельке “проплакаться”, нянчилась с ним как будто он был какой-то барчук, а не обыкновенный крестьянский сын.
Таисия Афанасьевна смотрела на Машу с первенцем и не выдерживала.
– Что ты с ним носишься как с писаной торбой! Ничего ему на траве не будет. Тепло давно. Пусть ползает, божий мир узнает.
– Что вы, матушка, а ну как съест что не то да захворает? В прошлый раз он у курей из поилки испил, да всю ночь колики были.
– Ну в дуплянку посади. Спусти с рук то мальца, дай ему продохнуть.
Но как только Мария давала мальцу продохнуть, тот начинал орать во все свое казачье горло, объявляя всему божьему миру, что он не согласен с политикой бабки Таисии. И сколько бы раз властная Таисия, знахарка и повитуха, уважаемая всеми в Лобках и по всему Погару, не пыталась отучить внучка ездить на матери в прямом и переносном смысле, столько раз она терпела неудачу.
В конце концов Таисия сдалась, понимая, что семья сына – это семья сына и со своим каноном в этот монастырь незачем хаживать. Она уже один раз вмешалась в их жизнь по-крупному. И Господь внял тогда ее мольбам. Так зачем его теперь гневить по пустякам? Пусть сами со своими детьми, что хотят, то и делают. А у нее и своих дел покуда хватает. Ох и мудрая да рассудительная была Таисия. Дай Бог такую свекровку.
В деревнях не принято “кусочничать”. Вся семья от мала до велика садится за стол скопом. Примерно в одно и то же время. Опаздывать к столу – верный способ остаться голодным. Пропустил обед – жди теперь, когда сядут вечерять. Накормить вне расписания могут путника или тех, кто задержался допоздна на работах. Если кому-то из семьи делают поблажки – точнехонько он – мамкин любимчик. И не говорите, что для матери все детки равны. Все равны, да, как водится, младшенькому яблочко покрасивее, да кусочек сахарку побольше. Так было и будет.
Но в семье у Марии с Демьяном сложилось иначе. Бессменным маминым любимчиком был Иван – старший сын. Чем он снискал мамину сумасшедшую любовь никто из остальных троих детей не смог бы сказать. Признаться, они об этом как-то не задумывались. Ведь и Егор, и Коленька и Анюта родились в мир, где изначально был Иван. И Иван был номер один. Ему – яблочко послаще, ему – сахарку, ему – чуть больше скупой крестьянской нежности.
И может такое положение семейных дел правильно и ладно. И могло бы приниматься всеми домочадцами полностью и с миром. Ведь с него как со старшего при всей любви спросу должно быть больше. Но что-то в этой схеме давало сбой.
Мальчик рос рассудительным, смелым и уверенным. А еще категоричным, то есть человеком у которого в палитре два цвета: черное и белое. Никаких полутонов. Формула отца “как сказал – так и будет” была им очень рано скопирована. Отчего между ним и отцом, чуть только младший подрос, возникло некое напряжение. Какое бывает между молодым и старым львом в прайде. Только у львов такое случается когда лев стал совсем стар. А Демьян был крепок и открытого противостояния не допустил бы.
Вот и в тот день на завтраке, когда вся семья была за столом, а десятилетний Ваня не занял свое привычное место, Демьян миролюбиво окликнул:
– Сядь, сынок, поешь с нами, успеешь в школу свою
– Я, батюшка, с собой котомочку возьму и в перерыве съем, неохота сейчас.
Оно конечно неохота, коли перед сном мамка пирогами с вишней накормила. Да так, что всю ночь сны цветные снились.
– Не гребуй нами, малограмотными, – подзуживает Демьян, хотя у самого церковно-приходская школа за плечами да армейские занятия и малограмотным на фоне того, что три четверти жителей России не разумеют азбуку, он не был.
– Я не гребую, батя, я просто не хочу есть и я пошел!
– Иди иди , сыночек, – запела, запорхала над своим орленком Мария, – ну что ты, Демьян, будет. Пусть идет учится. Ты же сам велел учиться хорошо. Учителя им довольны. Он у нас – родительская отрада.
Пятитилетний Егор почувствал обиду. Даже галушку бросил и смотрел на недоеденную половинку с недетской грустью. Ванька вроде как отрада, а он вроде как нет. Потому что ему бы батя уже два раза ложкой по лбу треснул. Но малец быстрехонько сам себя успокоил. Будет же и ему когда-нибудь десять – можно будет батю не слушать и тоже быть отрадой. Двухлетний Коля ерзал на лавке и тоже безмолвно мотал на ус, как нужно себя вести, чтоб мамка больше всех любила – не слушать батю и ластиться к маме. Угу. Ясненько.
Ох! Много раз потом вспоминал Демьян и корил себя, что не добился своего, не усадил сына за общий стол и позволил ему ослушаться. Вроде бы мелочь, но иной раз мелочь имеет такой вес, что потом ничем не перевесить.
Иван рос вспыльчивым. Однажды он из-за пустяка повздорил с соседским мальчишкой. Слово за слово, то да се, Ваньке – десять, тому все тринадцать и он на голову выше. Кто-то первым кого-то толкнул. Лицо Ивана налилось кровью и он стремглав помчался в сенцы, а через секунду выскочил на обидчика с топором. Добро дед Антип, рискуя остатками здоровья, Ваньку остановил, а не то, не миновать беды.
Братья Егор и Николай были гораздо спокойней. Обычные мальчуганы, готовые делать то, что им скажут старшие, делать хорошо по мере своих сил, не рассуждая и не удивляясь. А вот Иван – своенравный, упертый. Как будто взял он от отца не только внешность, но и характер. Взял, да в себе преувеличил. И Иван, и Демьян – статные, мускулистые, справные. С живым цепким взглядом, с невидимой, но ощущаемой любым, кто был рядом, мощью.
Единственное чем они внешне отличались – это цвет волос – Иван был русым, а не рыжим как отец. Сходство отца и сына в фигуре, стати, походке отмечали все, кроме мамы Маши.
Когда Ваня был совсем ползунком, она то и дело спрашивала:
– И в кого ты у меня такой красавчик уродился, Ванечка?
– Поди в батюшку, – не выдерживала Таисия принижения роли отца в детопроизводстве
– И совсем не в батюшку, а сам в себя. Сам в себя, мой сладенький. Ты у нас один такой – ворковала Машенька и зацеловывала Ванюшку как куколку
– Господь с тобой, что удумала. Виданное дело, чтоб дитятко сам в себя был. Нешто он мох козий, что без корней растет? Без роду, без племени? В Коханков он, к бабке не ходить.
Из ее уст последнюю фразу было забавно слышать, потому что бабкой, к которой ходило все село за советом да за снадобьем, была как раз Таисия Афанасьевна. Маша улыбнулась, чуть-чуть, самыми уголочками рта, но это не укрылось от свекрови. Что в ответ подумала Таисия Афанасьевна, не смог бы прочитать даже доктор Лайтман из сериала “Обмани меня, если сможешь”. До самой старости смогла сохранить ведунья и чуткий слух и тонкое понимание человеческой натуры.
В один памятный для Маши вечер наварила Таисия Афанасьевна брусничного киселя из сухой, оставшейся после зимы брусники, наварила прямо перед тем как пора уж было укладываться. Знатный кисель, сладко-кисленький да пахучий. Маша, большая охотница до всего сахарного, лупила стакан за стаканом, широко и довольно улыбаясь. Хоть и родила к тому времени первенца, временами она чувствовала себя и вела совсем девчонкой, той что ждет принца в кожаных сапогах и с белыми кудрями.
Поблагодарив Господа за прожитый день, Маша примостилась к Демьяну под бочок. На свежепостеленнной мягкой соломе было тепло и уютно. Вдобавок не разбудила благоверного и не пришлось нести сладостные тяготы супружеской жизни. Хорошо то как! Да вот на тебе – кисель, войдя через верхнее отверстие Машиного тела, пройдя свой нехитрый путь сквозь, запросился наружу. Через некоторое время женщине пришлось встать по его требованию и юркнуть на двор по естественной надобности.
Тусклая луна с трудом несла службу ночного освещения Лобков. Прямо скажем, совсем не справлялась. Маша почти на ощупь выбралась на воздух, сделала несколько быстрых шагов за пуню с посапывающими домашними животными и замерла.
Она увидела привидение. В паре десятков аршин (Аршин – 71,12 см). от амбара в белом одеянии на коленях стояло чудище. Кикимора – пришло в крестьянскую голову девушки логичное объяснение. Маша истово закрестилась и даже крестила в воздухе существо, еле слышно лепеча “чур меня, чур меня”, но картинка не менялась.
Существо продолжало стоять и, как Маша смогла расслышать в глухой тишине ночи, молилось. Молилось горячо, не замечая ничего и никого вокруг. Существо было Таисией Афанасьевной.
Господи, Святый Боже, помилуй мя. Ниспошли в сердце невестки моей, рабы Божией Марии, любовь к моему сыночку, рабу Божиему Демьяну. Открой ее сердце для любви, для радости. Открой душу ее для разумения. Помоги Господи семье нашей. Ниспошли нам лад да радость, деток здоровых, хлебов богатых, лет долгих…
Она что-то достала из рукавов и бормотала: “в сладости волосы сплетаются. Так и души Демьяна и Марии в страсти и неге сплетаются”.
Маша обмерла. Даже кисель присмирел в ее теле. Она попятилась назад маленькими шажочками, завернула за пуню и тогда уж бегом, как мышь от кота, полетела к дальнему нужнику.
Лежа потом рядом с похрапывающим супругом, как со стороны увидела Маша всю картину их с мужем жизни. Она вдруг ощутила всю боль матери Демьяна. Со стыдом вспомнила, как уходила из дома, где с ней обращались по-семейному тепло, к родной, но извечно недовольной и осуждающей матери. Как гордо и глупо говорила свекрови: “Я вашего сына, душегубца, никогда не полюблю”. Теперь, когда у самой рос сыночек, слова эти жгли душу. Что-то навсегда изменилось в сердце Маши. В ту ночь она со слезами простилась с принцем Павликом, простилась тяжело и навсегда. С утра встала с лежанки покладистой и понимающей женой своего рыжего Коханка.
Года два-три Коханки жили без существенных поводов пополнить колонку лобковских новостей. Даром что дед Антип к ним хаживал чуть не каждый день. В 1909 году родился сыночек Егорушка, в 1912 – Николенька. Несмотря на то, что Демьян испробовал свои “колдовские” приемчики на парочке соседских бобылок, в семье был относительный лад и спокойствие. Чего нельзя сказать про жизнь российской империи.
Странные были времена, муторные. После революций 1905, 1917, после раскола людей на “белых” и “красных”, на идейных и безыдейных, недопонимание проросло во всем, что касалось человеческого общения. Как будто люди потеряли основу мира и теперь пытались ее найти, пробуя новые роли. Пробуя и удивляясь, а что и так можно было? И так тоже правильно? Чудны дела твои, Господи. Господа коммунисты тоже упразднили. Погорячились конечно, Он был бы кстати в такие смутные времена. Но Бога враз отменили. И казалось, что он действительно покинул Русскую землю и люди справлялись без него по своему скудному разумению.
Все встало с ног на голову. Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов перевернул действительность резче, чем Декрет о Мире или о Земле. Хороша была эта действительность или так себе, справедлива или нет, не под силу рассудить отдельному человеку. Но был определенный, понятный каждому уклад. И всякий кто хотел находил свое место под солнцем, знал что и как делать, что дозволено, а что нет и чего примерно ждать. Все шло своим чередом.
Реформы Столыпина обещали сделать крестьян хозяевами земель. Одной из вех реформы была идея о выкупе государством земель у помещиков и продажа по льготным условиям крестьянам, а также переселение семей с подъемными на необжитые земли (Подъемные – денежная ссуда для подъема хозяйства).
Земля была бы в настоящей собственности. О большем люди села и мечтать не могли. Ведь и с церковно-приходским образованием ясно, что богатые жители – это богатая страна.
Петр Аркадьевич Столыпин был убит в 1911 году каким-то психом, застрелен прямо театре, где находились августейшие особы. А мечту крестьян о своей земле взяли на идеологическое вооружение совсем не те, кто хотел им ее отдать. Фантазиями о мире и собственной земле подкупили революционеры неокрепшие умы. Но обещать – не значит, жениться. Вместо мира получили войну внутри своего же государства, а вместо того, чтобы раздать людям землю, поотбирали даже у тех, у кого она была.
После революции князья перестали быть дворянами, попы – духовенством, лавочники – купцами. Все стали называться непонятным на селе словом – гражданин. Стали равноправными гражданами и гражданками молодой страны, товарищами. Равноправие очень скоро проявилось в одинаковом отсутствии прав. А самые истовые товарищи вели себя совсем не по-товарищески.
Сотни тысяч казаков вдоль почти всей российской границы перестали быть казаками. Перестали ими быть на бумаге, документально. Но разве может голова простого человека успеть за Декретами? Разве может человек в одночасье стать кем-то, кем вчера не был? В умах одних новоявленных граждан пошла смута и неприятие, в головах других – восторг и желание двигаться вперед к изменениям, пусть и пока непонятным.
Из всего этого вылилась Гражданская война. В ней все стали равноправными перед смертью. Зачастую жестокой, нелепой и ненужной, как будто граждане убивали друг друга на всякий случай. Очень странные получились товарищи, готовые обокрасть, растерзать, убить и все во имя счастья и справедливости.
Лобки успели побывать под властью Австро-Венгрии по условиям мирного договора, которым бесславно для России завершилась первая мировая война. Лихорадило волость во времена гражданской войны. Вплоть до конца ее в тех краях значилось два самоуправляющихся общества: крестьянское и казачье. Последнее почти поголовно выступало за прежние традиции. Вместе с другими деникинцами продвигались сторонники старого режима к Москве. Если бы советские власти не подкупили Махно деньгами и обещаниями и его вольная армия не ударила в тыл белогвардейцам, никто не знает как бы развернулись события. Но все закончилось по известному сценарию. Казаков нещадно истребляли.
Бог любил Коханков. Они уже в нескольких поколениях значились крестьянами. Не пришлось никому из семьи в братоубийственной гражданской войне участвовать. Дедушка Степан успел почить, Демьян и дядя Илья миновали мобилизационный возраст, а мальчишки были малы. На момент октябрьской революции Ивану Сипейко – старшему из сыновей Демьяна и Марии – тринадцать, Егору – восемь, Николаю – пять. Через два года Бог подарил редкую для Коханков драгоценность – родилась девочка. Ее назвали Анютой.
Глава 10 Мама, прощай
Через четырнадцать лет Анюта в горнице с геранью на окнах будет держать за руку укрытую красным одеялом Марию Евсеевну. В холодной избе сбирает на стол пышнотелая Ксения, роняя от волнения крынки и кудахча “ай, божечки, божечки!” Анюта вздрагивает и жалеет, что дома нет ни одного из братьев. Николай учится в Москве. Егор – в Брянске. Оба брата – на инженеров. Молодая страна советов усиленно готовит кадры для индустриализации. Иван из столицы перебрался в Краснодар, где заведует сельско-хозяйственным техникумом.
Хороша или плоха рабочая революция, но только при царе вряд ли крестьянские дети, вроде Коханков, смогли бы учиться в высших учебных заведениях. До революции если такое случалось, то как единичные, уникальные случаи.
Новая власть дала новые возможности. Одним, которые буржуи, – попробовать жить без привычного комфорта. Другим, которые пролетариат и крестьяне, – примерить непривычные роли. Всех несогласных либо выслали из страны, либо уничтожили. Либо им пришлось делать вид, что они со всем согласны и тщательно скрывать непролетарское происхождение. У Коханков была хоть и непролетарская, но правильная для Советов родословная – крестьянская. Об их казачьих корнях сведений не сохранилось, а не то пришлось бы худо.
Иван со всем пылом юности воспринял новую политику. Когда только все свершалось в 1917, услышал малец, как отец ругает советскую власть. Дескать, шантропа да голодранцы слушают немецкие бредню и дурью маются. С тех пор он при каждом удобном случае выискивал “немецкие бредни” и убеждался, что отец ничего не понимает, а Ленин – тот дело говорит.
Когда ты отучился семь годов в сельской школе, а отец всего лишь прожил жизнь, то ты в жизни, конечно, лучше разбираешься, чем он. Голова то у тебя светлая, умная, свежая, не то что у него, старика. Отец – он тоже башковитый, но приземленный. Высокие идеи коммунизма и всеобщего равенства рожденному при царе родителю в голове не уместить. Есть в нем мудрость и опыт, но хватает их туточки, в Лобках, по хозяйству, а мировую революцию таким умом не осмыслить. Тут Ивановых семи классов школы маловато, не то что четырех церковно-приходских, как у Демьяна.
В пятнадцать лет Иван под причитания матери и бабки собрал котомку, попросил у родителей денег на первое время и отправился в Москву доучиваться. Образование оказалось бесплатным и качественным. Иван после рабфака окончил сельскохозяйственную академию и по распределению попал в Краснодар.
Выбился Иван, как говорят на селе, в люди, женился, родил дочку Валю, назначен директором сельскохозяйственного техникума. На рабочем месте и застала его весть о тяжелой болезни и смерти матери. На похороны Иван никак не успевал. Решил в таком разе попасть на девятый день.
Путь из Краснодара до Лобков не близкий. В начале двадцать первого века этот путь станет еще длиннее. Не по километражу, конечно. Пространство осталось прежним. Судьбы украинского и российского народов неожиданно отдалились друг от друга на высоком политическом уровне. Донбасский транзитный железнодорожный ход, проложенный через Украину, будет утрачен.
В тридцатые годы двадцатого века две трети поездов из Москвы на юг следовали через Малороссию, следовательно, громыхали и мимо станции Погар. Так что жители двадцать первого века могут только позавидовать Ивану Сипейко, который без проблем взял жд билет Краснодар – Погар.
Хотя чему тут завидовать. Сын ехал навсегда проститься с матерью. В купе Иван был один. Осмотревшись, он тяжело опустился на нижнюю полку. Заглянула кокетливая проводница с вопросом о чае. Она увидела серьезное, даже суровое круглое лицо пассажира. Ее опытный глаз определил: едет номенклатурный работник, семейный, явно на хорошем счету и ловить с ним ей нечего. Больше девушка его не беспокоила до самого Погара.
Сознание Ивана Демьяновича всеми силами старалось уберечь носителя от конечной цели поездки. Он размышлял о рабочих несданных планах в своем учреждении, о педсоставе на следующий учебный год, о том, что неплохо бы забрать Анюту учиться в Краснодар, что жене была бы помощь с маленькой Валечкой, что кстати нужно распорядиться насчет инвентаризации постельного в общежитии техникума – посчитать сколько осталось одеял да подушек. Но в какой-то момент Иван Демьянович упустил нить рассуждения и мысль, что “мамы больше нет” накрыла его жуткой тишиной. Он слышал стук колес, слышал как кто-то в соседнем купе перебирает струны гитары, слышал шаги по коридору. Но внутри себя он не улавливал ни одной мысли, кроме страшной, пустой и безобразной. “Мамы нет! Моей мамы Маши нет!”
Если бы снимали фильм, он, наверное, зарыдал бы навзрыд и картинно закинул руки, закрывая уродуемое болью лицо. Но он был советский гражданин и даже наедине с собой не мог позволить разрыдаться как в дешевом театре. Иван сидел ровно, смотрел в окно немигающими глазами, а мысли выбивали его из колеи.
Мысли о Боге. Если Бога нет. А его нет, это доказано диалектическим марксизмом. То мать умерла насовсем? Ее нет? Совсем нет? Но она то верила в Бога и всегда говорила, что тот уготовил самое лучшее для нас, что главное ему не мешать. Делай, Ванечка, что должен, и будь, что будет, Он все управит. Звенел ее родной голос в душе. Она верила в вечную жизнь, а теперь умерла. Попала она в вечность? Увидит он ее в каком-то новом качестве? Если такое предположить, Бог есть что ли? Лучше бы он был. Лучше бы она была права. Ленин тогда не прав? Сознание опять пыталось заглушить ту жуткую мысль. Но она просачивалась: “Есть Бог в итоге или нет, а мамы нет. Мамы нет.”
Глаза жгло. Он допустил слезы. Они текли по его раскрасневшемуся разгоряченному каменному лицу. Неожиданно по подбородку потекла струйка крови. Иван Демьянович, пытаясь сдержать эмоции, прокусил губу. Он отер подбородок, поискал, обо что вытереть руку, кроме свернутого красного одеяла в купе ничего подходящего не нашел. “Я же не распорядился в общежитие заказать дополнительные одеяла”, – ворвалось в его голову. Это была последняя капля. Взрослый Иван упал на красный калачик белья и разрыдался в голос, как маленький мальчик на коленях у любящей матери. Больше никакие посторонние мысли не донимали пассажира. Он перебирал в памяти детство, юность, как мало маме писал, как мало с мамой говорил, как редко приезжал навестить, корил себя и оправдывал, оправдывал и снова обвинял.
В Лобки он приехал совершенно издерганным и постаревшим. Словно ему шел не тридцатый год, а как минимум семидесятый. Наверное, потеря родителя – основная ступень во взрослении. Даже не ступень, а целый этаж. Сколько бы тебе ни было лет, каким бы серьезным ты ни был человеком, пока живы родители, ты все равно чей-то ребенок. А когда они уходят, ты теряешь детство навсегда.
Герань на окнах отчего дома не успокоила и не обрадовала Ваню, только добавила в душу пустоты. Раньше цветы ассоциировались с мамой, которую он через минуту крепко-крепко обнимет. Навстречу ему вышла красивая и совсем молоденькая девушка. Анюта? Анюта! Как она выросла. Как!? Он то помнил ее десятилетней девчушкой. Четыре года, что они не виделись, изменили сестру, превратив из девочки в почти что женщину с очень пронзительными взрослыми мудрыми глазами. “Есть в ней что-то от Любови Орловой”, – примечал он, разглядывая сестру, как будто видел ее впервые.
Анюта обняла брата. Скорбь захватила их немые объятия. Но было еще что-то. Что-то, что сестра прячет от него, что-то, что он все равно узнает. Растерзанный горем, Иван стал сверхчувствительным. И он чуял нутром, что-то не так. Он смотрел Ане в глаза и читал в них страх, боль и одновременно желание ему что-то рассказать, поведать. Что-то, что нельзя сказать словами, это что-то тяготило ее, и нет, это не касалось смерти матери.
Иван обменялся крепкими рукопожатиями и объятиями с отцом и братьями. Снова ощущение недосказанности. Какой-то тайны между всеми. Ему стало казаться, что он сходит от печали с ума, что он накручивает себя.
На дворе и в избе сновали соседские бабы и девки. Точнее, не бабы да девки, а сознательные и не чуждые соседского горя жительницы колхоза “Красные Лобки”. С самого утра они чистили овощи, шинковали капусту на традиционные для поминок щи, заводили и месили тесто для пирогов, варили кисель. Все делалось бережно и помощниц было гораздо больше, чем требовало количество приготовляемого. Щи – совсем пустые, пироги с лебедой, кисель жиденький и совсем не такой пахучий да сладенький, какой любила покойница. Все блюда – постные, хотя никакого церковного поста в советском колхозе быть не могло. Постились люди не по религиозному разумению, а вынужденно.
В стране был голод. Если бы жителей Лобков перенесли в двадцать первый век в какой-нибудь супермаркет и они услышали, как кто-то страдает от отсутствия хамона иберико или настоящего французского сыра из-за жестоких санкций, то этот кто-то наверное услышал бы о себе всякие непечатные крестьянские слова. Его бы сюда, в 1933 на Брянщину или Поволжье.
Голод 1932-1933 случился не только из-за засухи. Промышленно развитые страны наложили эмбарго на советское золото, запретили ввозить из СССР лес, руду, уголь, нефтепродукты, драгметаллы. В общем, все, за что можно получить валюту. Валюта нужна была для закупки промышленного оборудования. Без которого не восстановить экономику. К оплате принималось только зерно. Расчет простой: в СССР начнется голод, народ взбунтуется, большевики потеряют власть, территорию страны можно будет растащить по лакомым кускам. План по развалу какой-либо страны обычно такой: дестабилизируем ситуацию внутри страны, граждане свергают власть, пользуемся неспокойными временами (от дачи невыгодных кредитов до аннексий территорий).
К слову, на этот раз власть удержалась и индустриализация страны шла небывалыми темпами, удобренная жизнями умерших от голода, приправленная пОтом и смертью репрессированных людей. Кто знает, как бы страна перенесла Великую Отечественную войну 1941-1945, не будь жутких мер по развитию промышленности в тридцатые годы. Кто знает, была бы Великая Отечественная вообще, было бы Гитлеру с кем воевать на Востоке. Или был бы Гитлер, который появился сразу после неудачной попытки развалить СССР. Говорят, его партию спонсировали американские и британские финансисты. Может, где-то в параллельных Вселенных и существует мир без России, СССР или Гитлера в разных вариациях, а в осязаемой людьми Вселенной история не дает ответов на вопросы “что было бы?”
Жители Лобков политических премудростей не знали. На их глазах произошло вот как. Власти сначала забрали весь хлеб и скот у частников, а потом посгоняли людей в колхозы с нелегкой трудовой повинностью. Ходила тяжелая крестьянская шутка “Колхоз – дело добровольное. Не пойдете – расстреляем”.
Введенные в СССР паспорта с прописанным местом жительства колхозникам на руки не выдавались, чтобы они не сбежали от своего трудового счастья. Несмотря на тяжелую работу, жизнь не становилась сытнее. Убранный колхозный хлеб нельзя было трогать под страхом смертной казни. Есть было почти нечего, даже в черноземных территориях страны.
Помянуть Марию Евсеевну сойдутся жители трех колхозов: Красные Лобки, Путь бедняка (так решил именоваться дальний хутор), Захаркин Гай, что организовались на месте Лобков. Иван ходил по некогда богатому дому, заглядывал в пуню, вспоминал как здесь толклись овечки, а в стойлах стояли рабочие лошади и два ездовых красавца. Дитем он любил залезть на самую верхатуру стога и утопать в запахе сухих трав. Сейчас карабкаться в пуне не на что, сеном кормить некого. Но им пахнет по-прежнему, все пропитано воспоминаниями и мамой. Мамой, которой больше нет.
Демьян Степанович, як быти? Посудины под кысэль нэ хватат, – певучий с ярким кацапским говором голос принадлежал ладной женщине с белыми полными руками. Она стояла напротив отца, излагая нехитрые бабьи соображения по важным на поминках мелочам.
Иван шел на ее голос, подмечая каждый жест отца. Как будто все происходило в замедленной съемке. Вот баба при разговоре трогает батю повыше локтя. Тот убирает ее руку. Она как будто спохватившись прячет свои белые руки за спину. Но взгляд. Взгляд не спрячешь за спину. Не так глядят батрачки. Так может смотреть только … Как цунами накрыло Ивана понимание ситуации. Мать в земле всего девять дней, а постель родителя греет вот эта пышногрудая белотелая баба!
Видя приближение Ивана, Ксения умелась в избу. Сын схватил отца повыше локтя, там где только что трогала Ксения, и резко развернул к себе, пылая гневом.
– Батя! батя! ты как… – Иван не смог закончить. Ярость душила его. – Как?!!!
Отец смотрит пристально и молча. Во взгляде нет раскаяния и вообще эмоций. Долгую минуту два Коханка жестко играют в гляделки. Душевное смятение проступило красными пятнами и каплями пота на лице у сына. Он в сердцах отталкивает родителя, отрывая мысленно себя от него. Демьян не шелохнулся, словно врос в землю и какую-то свою правду, и на том стоять будет.
Из избы выскочили Егор с Николаем. Они замерли на крыльце, как два коня у пропасти. Иван вперил в них налитые злостью и бессилием глаза, мотал головой из стороны в сторону, мучимый вопросами, на которые один за одним сами собой приходили тяжелые ответы. Эти ответы гнули его к земле и не давали свободно дышать. Он рванул ворот на рубахе и с нее, как пули, полетели пуговицы.
– Аня! Аня, где ты?!
– Я туточки, Ванечка, – Аня растерянно вытирает руки об фартук, переводя взгляд с отца на брата.
Ее ласковый голос, так похожий на материн, ни капли не успокоил. Зато шквал горячих эмоций сменился рассуждением и желанием действовать.
– Собирайся! Немедленно собирайся – холодно приказал брат.
– Куда? Зачем?
– Мы уезжаем с тобой ко мне, в Краснодар.
– Сейчас?
– Немедленно
– Ваня, як же так? А поминки по матушке?
– Здесь о ней зазорно и поминать
– Да як же зазорно? Тады где же?
Аня переводила взгляд с Ивана на отца, с отца – на Егора, с Егора – на Мыколу, но никто не подсказывал ей, как быть. Она поняла, сейчас нужно принять, возможно, самое важное решение в жизни. И сделать нужно самой. Никто не подскажет, никто не обоснует, что дескать, вот так хорошо, потому-то и потому-то, а так – по эдакому. Взрослая жизнь неожиданно обрушилась на нее. Ей хотелось забраться на полати и там отлежаться, пока все не закончится. А еще хотелось положить голову на колени к маме. Но мамы больше не было.
Аня выдохнула и пошла в дом. На крыльце безмолвно, в тревоге стояла Ксения. Аня сильно и намеренно задела ее плечом, втолкнув обратно в сенцы.
Ай, божечки! – наигранно взвизгнула бабенка.
Девочка не обернулась, не повинилась.
Собираться в те годы было проще некуда. Почти ни у кого не имелось больше двух смен одежды. Одна – на каждый день, вторая – праздничная. Косметические средства для подростковой кожи, привычный кондиционер для волос, красивый халатик и любимые тапочки со зверушками, пижамка – все это напрочь отсутствовало.
Аня даже растерялась, когда решительно зашла в горницу. А что собирать то? Герань с окон? Мама так любила цветы и так не хотелось оставлять их Ксении. Но Аня не могла себя представить, отъезжающей на подводе с горшком герани в руках. Если бы она посмотрела фильм Леон, где герой таскал за собой фикус, возможно она бы прихватила кустик. Аня сложила юбку, пальто и две своих рубахи в красное одеяло, которое завязала узлом.
Отсутствие вещей для сбора поубавило решимость. Как уехать вот так от родного отца? Мама не осуждала его, хотя видела Ксению и понимала, что происходит. Все проходит. Пройдет и это. Бог все управит, как следует. Говорила она, глядя Анюте глубоко в душу, запрещая взглядом не то что осуждать, а вообще рассуждать на эту тему. Если мама не осуждала, то как смеет Аня? И что она, простая крестьянская девчушка, будет делать в большом городе Краснодаре?
Аня сидела на лежанке, обхватив голову руками. Той самой лежанке, на которой совсем недавно хворала мама. Девочка суетно соображала. Часы тикали набатом, словно поторапливая, а она никак не могла собрать разбежавшиеся мысли и на что-то решиться.
Как вихрь, ворвался старший брат.
– Готова?!
Аня отняла трясущиеся руки от лица и растерянно опустила их на колени, всем своим видом выражая нерешительность и непонимание, что делать.
– Демьян Степанович, Гетуны едуть, – услышали они с братом певучий голос отцовой полюбовницы, которая распоряжалась на поминках матери как хозяйка.
– Готова, – глаза сузились как щелочки, ручки сжались в кулачки.
Аня встала с лежанки, схватила узел и пошла прочь, не желая больше никогда возвращаться в дом отца.











