Читать онлайн Посылка из Америки
- Автор: Василий Киляков
- Жанр: Современная русская литература
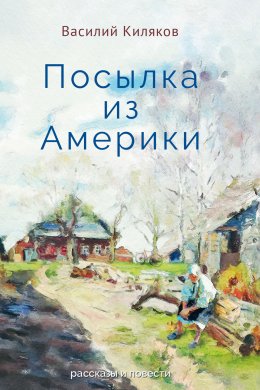
© Киляков В.В., 2018
© Оформление. ИПО «У Никитских ворот», 2018
О книге Василия Килякова
«В сборник В. Килякова вошло несколько рассказов, которые разнятся по объему, и по материалу, но есть нечто, что объединяет их. Это уровень письма. Я бы даже сказал – редкий, если говорить о выпускниках нашего института. Василий Киляков продолжает традицию деревенской прозы, но продолжает по-своему, ярко и современно. Его герои живут не слишком богато и не слишком весело, но они умеют чувствовать, умеют слушать (и слышать) другого человека, умеют сострадать. Как правило, сюжеты его рассказов незамысловаты (один из самых ярких из них, “Балагур”, построен на том, что мужики за неимением водки коротают время в разговорах), но характеры видны, ситуация обрисована, настроение передано. И все это скупо и выпукло, без нажима, без резонерства. Представлен в сборнике и городской рассказ “Будьте любезны!”… Заключительный рассказ сборника – это даже не рассказ, а притча на библейскую тему, своего рода апокриф, герой которого, Иов, перед тем как быть призванным к Богу, выбирает для себя самое дорогое. “А я, – вопрошает себя рассказчик, – что бы просил у Бога я, будь я на месте Иова?” И отвечает: “Просил бы продлить те часы, что прожил я за чистым листом бумаги”. Я думаю, часы эти В. Килякову продлены будут».
Руслан Киреев «Избранные рассказы. В. Киляков»
«В. Киляков много и плодотворно работает в разных жанрах: рассказы, стихи, эссе, критические статьи, собирал частушки и т. д. Много печатался в журналах и газетах. Он хорошо знает жизнь деревни, связан с ней кровно, что называется, всеми фибрами души, неподдельно любит своих героев, и, хотя автор нового поколения вроде бы запоздал с эпитафией погибающей деревне, он находит для своей искренней боли по разоренной нынешней деревне свои средства выражения, сообразно с личным опытом. И не менее, чем его герои, а, пожалуй, даже более примечателен в его рассказах сам образ рассказчика, о котором можно сказать словами Ивана Аксакова: “С народом и над народом”. Плач по погибающей русской деревне явно затянулся, и для меня, например, большой знак оптимизма – не “в слепых и пьяных деревенских мужичках”, а в таком “продукте” (слово Лескова) деревни, как рассказчик, способный стать на уровень современного сознания.
Василий Киляков талантлив, что видно по всем его рассказам, отмеченным пристальностью, бытовой наблюдательностью, вживанием в обстановку (от домашнего балагурства мужиков в рассказе “Балагур” до какой-то вселенской покинутости последних жителей деревень в повести “Последние”). И, конечно, язык – живой, выразительный, без всякой спекуляции на деревенских словечках с характерными “физиологическими” чертами народного мышления. В своих новых рассказах автор расширяет поле своих наблюдений, выходит за пределы деревенского мира, о чем свидетельствует такой удачный психологический опыт, как рассказ “Будьте любезны!”».
М.П. Лобанов «Рецензия»
«В. Киляков стремится следовать тому литературному опыту, когда в характерах героев доминирует спокойная прочность и нравственная устойчивость. На фоне нынешнего “раздрыга”, беспокойства и неустойчивости всех нравственных и иных институтов общества герои подобного склада предстают без лишней сентиментальности и пышных слов-заявлений: они, с одной стороны, как бы аккумулируют в себе суровую действительность с пронизывающим все драматизмом, с другой – умение двойного высвечивания характера героев путем сочетания суровости и сентиментальности. Во всех рассказах просматривается достоверное знание бытовых реалий деревни. Рассказы характеризуются, определяются не заемно-литературными приемами, а непосредственным знанием деревенского быта, его драматической стороны, судеб героев. А это главное достоинство».
Н.С. Буханцов, доктор филологических наук, «В. Киляков. Рассказы»
«…Он печатался в “Новом мире”, “Октябре”, “Юности”. Получил первую премию на конкурсе… не дома, а в Германии, в издательстве некого Иоахима Бургхардта. Замечу от себя: наши-то когда еще почешутся, а немцы народ хваткий, знают, что почем. Наше время удивительно еще и тем, что за печатное слово почти ничего не платят. О славе и разговору нет. Все равно что писать в стенгазету или в стол. Рассказы В. Килякова простые, деревенские, без какого-либо “триллерства”, на любителя русского слова, которое услышишь только в наших глубинках, вдали от шума городского. Возьмем наугад несколько строчек из какого-нибудь рассказа – и сразу почувствуем здесь русский дух. Ну вот, например, из рассказа “Товарищи”: “Деготь он берег для сапог и для своих больных ног – разводил деготь самогоном-первачом и смазывал суставы. От него всегда сытно, остро и свежо пахло деготком”. Помните такое словечко – “деготок”? Забыли? Прочитайте Василия Килякова и вспомните. От его прозы тоже пахнет “сытно, остро и свежо”».
Глеб Горышин «Бежин луг»
Капитал
ВОсиновке не было объездчика злее Фомы Кукина. В свои сорок с небольшим выглядел он подростком: невысок, рыжеволос, голова маленькая, острой тыковкой, густо поросшая волосами морковного цвета. Лицом красен, конопат и так курнос, как бывают еще курносы малорослые, в третьем колене осевшие в России немцы, коротконогие, с подмесом мордовских кровей.
И сквернослов был на редкость. И хоть не выговаривал он «б» – «Бог» (а говорил «пох»), но матерщина эта богохульная страшила до дрожи осиновских, до озноба – столько зла, ненависти вкладывал он в крик:
– С-стой! – кричал он на поле, застав старуху за выкапыванием картошки, – стой, в пока, в душу мать! Засеку!.. И так гнал лошадь, хлестал ее – ожаривал наотмашь то с одного бока, то с другого, что обомлевшая, чуть живая от страха старуха бросала и ведро, и мешок с голландской картошкой, и ударялась бечь, ни жива ни мертва от страха.
– Ой смотри, – предупреждали Фому осиновские, – смотри, Фома, уж очень ты лют и матерщинник. Сказано: все простится человеку, но хула на Духа святаго не простится – ни в этом мире, ни в будущем.
– Ты мне зубы не заговаривай. Вытряхивай картошку из мешка. Пешь потащишь к хозяину. Ишь, умная… Всю до единой выкладывай, засеку насмерть! – и волок за собой верст пять-шесть, до конторы учетчика, где на вора или воровку накладывали штраф.
– А ты меня не пужай, не боюся, – одергивая подол рваной телогрейки, отвечала старуха, осмелев и отойдя от страха на выходе из конторы, и с упреком добавляла:
– Ба-арину служишь… холуй…
Фома был и впрямь неразборчив. Раз, застав на яблоне в саду возле казенного пруда мальчишку-сироту, так ожег ременным кнутом, что бедняга замер и небо показалось с овчинку. Мальчик Филька так и явился домой, онемевший, мокрый. Залез он, дрожа, на печь и на вопросы не отвечал, только молча плакал. Тетка его, явившись из районной больницы, куда она ходила ежедневно за пятнадцать верст туда и пятнадцать – обратно на заработки санитаркой (другой работы не было в разваленном, со скупленной землей бывшем совхозе), отодвинув шторку над печью и разглядывая спину мальчонки, обомлела:
– Вот хамлйт, а хамлйт фашист… Вот так гад навязался на нашу голову…
– М-ма-ма, – опоясанный несколько раз кнутом с наконечником, только и мог выговорить паренек.
За мальчонку встряли мужики: был сад и пруд, и сотки совхозные акционированы, акции же скупил у совхозных некто, будто бы голландец. В лицо его знал только Фома Кукин, нанятый им и ему же прислуживающий, в понимании же осиновских, и сад, и пруд как были, так и остались ничьи. И картофельное поле, за лещугой, за тальником у оврага – тоже. Мужики собрались, выпили самогону из грелки, что выставила им за Фильку Полина, и попросила:
– Только не убивайте, а то посажают еще за этот дерьма кусок…
Мужики выпили для куражу, стащили Фому с коня, били без зла, но долго. Таскали по базу, по телячьему навозу, в камень усохшему, раздирающему живот и бедра, волочили по битому, огранистому, как алмаз, лизуну – крупным камням соли. Потом объявили:
– Ну все, барский прислужник, теперь леворюцию тебе сделаем: сказним начисто.
– Это как?
– Как? Ты газеты читаешь? Радио слушаешь? – всем действом взялся заправлять Колька Пряхин, из деревенских, самый отчаянный. – Уже объявлено от правительства: прихватизацию прекратить, всем незаконным владельцам все народу вертать, а кто добром имушество не сдает – того исказнить… По древнему и проверенному способу: посадить на кол. Как жука навозного…
– Мы тут посоветовались… Есть такое мнение… Словом, хана тебе, рыжий. А потому мы сейчас еще выпьем и… того, акт проведем. Акт полноценного вандализьму и торжества законности: на дрючок тебя того, задрючим. А ты не бойся, не ты первый, не ты последний, по длинной жердине съезжаешь вниз оттак от, задом на вострую, хлоп, и готово, и всего делов, потому как есть ты незаконный объездчик, давно уже лютый и самовольный… Лицо, не выбранное нами и нами не одобренное, к тому же как это… званием-то, ну как его, как?
– Как есть: самовольный собственник. И нацмен еще – тоже. Пусть так своему хозяину и передаст, если жив останется.
– Передаст!? Я? – взвился Фома. – Сами вы тут все передасты!
– Нет. Не то… А, во! Экспроприация экспроприаторов, то бишь приватизация прихватизаторов… За большой хапок – всем буржуям хлопок!
Мужики принесли осиновый кол здоровенный и тяжелый, и в цвет холодного свинца… Старательно и долго затесывали его на колоде, из которой на другом ее конце пили быки, пуская долгую хрустальную слюну, ничуть не боясь отмашек топорищем, а глядя на Фому долгим и печальным взглядом, пили воду… Фома тоже смотрел.
Потом разлили из грелки воняющий резиной самогон, сказали поминальный по объездчику тост:
– Ну, братцы, за Фому, земля ему пухом…
Но этого тоста Фома уже не слышал. Перегрызши украдкой кожаные подносившиеся уже путы, он был таков. И не видел, как хохотали ему вослед мужики.
На другой день явился милиционер, собрал всех участников самосуда, «учиненного давеча над доверенным лицом», в хате и заставлял подписать протокол. Мужики были с похмелья, но категоричны, они так и не поняли, что протокол составлен на них, заявили:
– За него, за рыжего педераста, ничего подписывать не станем. Пусть его сажают, товарищ сержант. Хоть убей.… Этот прыщ – убийца и мучитель.
– Да постойте, да погодите, дураки вы, ведь вам того, вам же лучше, если это самое… если добровольное признание… и так дальше. Явку с повинной вам оформим. Подпишите, и так дальше, это все. А то владелец посадит вас за издевательства над подчиненным и совершенный самосуд с непосредственным покушением на жизнь потерпевшего, и так дальше. Может, еще на административное правонарушение, на мирового напишем… И это самое… Выйдете чистыми. Ну там пятнадцать суток или штраф, и так дальше…
– Он мальчишку чуть не укокошил, фашист…
– А где побои, кто докажет теперь? – не унимался милиционер. – Вы их зафиксировали? То, что немой стал, это еще не факт, немым и притвориться возможно….
– Да ты чё, Иваныч (перешли на «ты» мужики), против нас, что ли, бумагу-то оперу пишешь? – догадались наконец они. – Ты что, не русский, не наш?
– Про вас, архаровцы, про вас… Опера про… сколько вас? Раз, два, пятеро – вот про пятерых белых лебедей… И срок, наверно, вам на пятерку намотает хозяин, и так дальше…Вы хоть знаете, кому паи-то продали, архаровцы? Я вам по секрету скажу, когда я сюда собирался, он мне так и сказал: денег не пожалею, порву на части эти грязные вонючие онучи…
Тут у милиционера зажужжал мобильник, он вытянулся в струну:
– Да, есть, так точно… Все понял. Отказались. Все пятеро, доставим… это самое… Все, мужики, – он щелкнул замком портфеля и молча ушел.
Вечером того же дня приехал, качаясь на рессорах, воронок с решетками в окне задней двери и мужиков, всех пятерых, увезли.
Фоме и вовсе словно руки развязали. Объездчик не унимался. Неутомимо гонялся он за бабами, сгоняя их с бахчей и огородов. Наезжал и на мужиков… Пускал жеребца давить.
– Что?! – орал он тогда, правя коня на человека, словно норовя затоптать. – Что, взяли Фому Кукина? Поняли, чья правда теперь? У, стопчу!.. В пока, в духа…
– Ишь, вольный казак, руки назад. Теперь ему и вовсе нечего бояться…
– Казак палестинский!
– Погоди, – отвечали ему, – Колян Пряхин выйдет или сбежит, он отчаянный, все припомнит… Не сдобровать тогда тебе, иуде…
– Оттель не сбежишь… Набось очухались, поняли, с кем связались, да поздно. Близок локоть, да не укусишь… Вона! Колькой пугать, сгниет на руднике. Нынче новая власть, не про вас, голодранцев, вона!
Говорили вполслуха, из уст в уста, что фермер платил ему «баксами», или «гринами», – а это не наши деньги, не русские, навроде сребреников, только гораздо еще дороже и грязней. Давал и фураж на лошадь. Солярку в центральной усадьбе сливал Фома и тоже продавал сам. Он норовил поиметь и с этого: загонял соляру частникам, скупившим совхозные трактора. Но «натуру» нужно было еще суметь продать. А продавать он не умел и не любил, горячился, дерзил покупателю.
– Жаден, – говорили о нем. – Набаловал его хозяин…
– Хвалился вчера. Показывал доллары, эти самые…
– Ну шо? Лучше наших рублев?
– Кой там лучше, ничего хорошего, голенькие какие-то денежки… Морды на них президентов ихних. За горло шарфами перетянуты, удавленники. Удавлены, а улыбаются. В руки взять срам.
– Ну?!
– А на другой стороне пирамида и глаз…
– И шо, прямо это… висят, удавленники-то? На пирамиде, без глаз?
– Зачем висят? Сидят. Смотрят. Живые ешшо… И глаз… в каком-то сиянии, все видит…
Смеялись:
– Да ты хорошо смотрела у него, у Фомы-то? Может, это хрен, а не глаз, на той пирамиде-то? Хрен у Хеопса? У нас деньги – вот это деньги. Три кобылы на сотенной – и понесли… Не остановишь… А то – глаз… Нашел чем удивить. А был и вовсе Ленин…
– Ох, бабы. Зачем мы только паи свои дали оттяпать… Теперь на нашем на русском поле командиром какой-то Херр голландский через подставное лицо, веревки с нас вьет – а может быть, и вот через того же Фому, сживет нас со свету совсем. Не зря же он так лют… Не просто же так. Капитал нажить ему пожелалось.
– Да мы и не продавали свои паи, и не сдавали. Ай не помнишь? Вызвали в собес: подпиши вот здесь бумагу, вторую пенсию получать будешь. Ну и подписали. Выдали еще раз одну пенсию, и хана.
– А Фома-то так и говорит: «Жив не буду, а капитал сколочу, все мне в ноги упадете… Поклонитесь…» А уж лют-то рыжий, ну фриц, как есть фриц.
– Почему же не бьемся за паи-то? Чтоб назад вернуть.
– А налог-то какой за них платить, налог двадцать тыш за гектар, откуда деньжищи такие, кормиться как? Не всем же пенсии дают. Хоть крохи, но деньги. А то ведь, было, и хлеба не купишь…
– А Фома лют! На то и хозяин. Не мы, дураки. Сразу нашел, ирод, кому продаться. Таких-то ретивых днем с огнем не сыскать.
– Плохо кончит…
– Плохо. Родную мать продаст. Не пощадил и племянника, кнутовищем огрел. Прикажут, так за деньги и до смерти запорет, как отца своего родного заморил.
Погубленного отца ему, Фоме Кукину, часто вспоминали: таковы сельские. Отца он выгнал и вовсе незаконно из дома. Фома, казалось, и вообще жил по каким-то своим законам, внезапно откуда-то ставшим известными ему, козырял этим якобы знанием: «А ты знаешь закон Конституции, статья семнадцатая?.. Не знаешь!» или «А ты знаешь, что такое закон? Закон – это воля народа!» А договорившись о чем-то, кричал, ударив по рукам: «Ну все, закон, закон!»
Отца своего Фома поставил наемным сторожем на картофельном поле. И тот жил в шалаше из ивовых прутьев и лапника, во всякую погоду, и весной и летом – до поздней осени, до заморозков. Однажды он так простыл под осенними дождями, что у него при его больном сердце сделался припадок и отекли ноги. Он стонал от этих болей, едва-едва передвигаясь, добрел до дому и повалился в сенях. Приехал Фома и с самым злым матом, увидев его, валяющегося на соломенном тюфячке (со страха и с сырости отец побоялся сразу забраться на печь, обсохнуть), толкая отца в сапог кнутовищем, сказал:
– Ты что же, так и бросил поле, спать будешь? А что как разворуют, чем отдавать? Или мне там сидеть, все бросить… Как бы не так, – от молчания отца он ярился все более. – Сейчас же на место, в шалаш. И чтобы больше такого не было.
Увезли старика назад, а через день проезжие рыбаки-охотники на верховую и водную птицу опять привезли его с жалости: помирает старик. Фомы дома не было. Они натопили печь, выпили, что было, поднесли и старику для сугрева. На дворе все больше разыгрывалась непогода.
– Как чайку хотца, – едва молвил старик.
Рыбаки напоили его и чаем, натерли водкой, дивясь на то, как отекли ноги старика, и на жестокость сына, бросившего старика в чистом поле. Словно дождавшись, пока уедут чужие, опять появился Фома. С порога он приказал идти отцу в сени, словно озверев, но старик не мог встать. Тогда он вытащил его волоком. Молча пил чай с сахаром, со вкусом, кричал что-то в сени отцу, точно приказчик.
– Да как тебе в душу-то идет, чай-то, – осмелев от отчаяния, заговорила мать, – ведь помрет отец-то.
Она хотела помочь и перевести мужа на постель в горнице. Старик, кряхтя от боли, еле передвигал ногами, просил помочь ему встать, хотел пройти лечь рядом в свою комнату, как вдруг Фома, словно очнувшись от оцепенения, заорал:
– Ишь чего еще не придумала, в горницу! В сени его, назад, да чтоб завтра и на поле!
Ничего не сказал отец, свели его опять в сени на промозглый и отсыревший камышовый тюфяк, на деревянную древнюю койку, на сквозняки. Часов в пять Фома пошел уже будить его на поле, старик был мертв. В доме, принадлежавшем отцу, выстроенном отцом, Фома остался вполне хозяином.
Под стать Фоме была и его супружница, тоже низкорослая, остроязыкая, как змея, жадно курящая сигарету за сигаретой, проворная, как ощенившаяся волчица, торговавшая в сельмаге разведенным спиртом из-под полы. И часто, купив у нее бутылку разведенного, «буреного» спирта, в шутку дразнили ее: «Ну как спирт? «Закон»?» И передразнивали с гонором Фомы: «Закон, закон… Смотри, потравишь – посодют, не посмотрят, что муж на миллиардера спину гнет. Законно! Закон – это воля народа! Воля народа!»
– Сделаю капитал! – имел в виду эти подначки сельцовских Фома Кукин. – Сделаю капитал, они мне все тогда… облокотились… Сделаю – и укачу из этих мест.
Не принимала всерьез, близко к сердцу подначек и жена Фомы, она еще бойчей приторговывала левым бесланским спиртом, который покупала в достатке и вовсе за бесценок с далекого кавказского электролизного завода через воровавших этот вонючий яд – обходчиков, железнодорожников. Она разводила спирт один к трем. Спирт поднимался к горлышку, нагревал бутылку, растворяясь в воде, мутнел на короткое время. Она ждала конца реакции и, стараясь не тряхнуть, зная, что весь градус теперь вверху, осторожно ставила на полку под прилавком. Бутылка получалась втрое дешевле заводской «Касимовской» или «Шацкой». Попробовав же «водки от Шурки», глотнув сверху первака, почти живого спирта, мужики восторженно и удовлетворенно замирали, пережидали, когда потухнет в гортани душный пламень электролизной отравы, чтобы вдохнуть воздуха и поблагодарить Шурку. Приложившись единожды, но неоднократно, они не понимали и не знали, что на дне бутылки была едва ли не простая вода, их растаскивало и валило от табака и первача.
Под конец торгового дня продавец и вовсе запирала двери магазина, расставляла и наливала в пластиковые стаканы, превращая тем самым сельцовский магазин в кружбло, в кабак. Навар от таких крутых поворотов в торговле был немал и вполне надежен: продукты из центра возили коммерсанты неохотно, а зимой на санях трактором так и вовсе, водку – и того реже. А то и так бывало, что привезут, а на посевную председатель прикроет продажу. Да еще и налог, и лицензию, да еще взятки чиновникам в центре заплати. И отступилась торговая нечисть. Шурка же тут как тут. Церемония же с бражкой, при выгоне самогона, сельцовским сильно поднадоела, утратила корни за двадцать лет «нового нэпа». От самогоноварения отвыкли. К тому же не у многих хватало выдержки дождаться, когда бражка поспеет, постоит и осядет. Ее «выпивали так» – еще до полной готовки к самогоноварению. «Кой гнать, она вся уже», – говорили. Проще было украсть и продать чего ни попадя: снять кабель, выкрасть в домах, брошенных на зимовку, какой-нибудь скарб, алюминиевые тазы, ложки – все шло в дело… Ценой риска и удачи выручить какую-то мелочь, а Шурка уже ждала, наливала…
Слава объездчика и его супружницы стала со временем так велика, что однажды Шурка попала под «рубоп», наведенный по зависти ли, по обиде ли измученных жен, из мести за вечно пьяных мужей. Но и тут Шурка вышла сухой из воды, хвоста не замочив. Деревенские с тех пор и вовсе разуверились найти правду.
– Шурупчик! – раззявив большой рот с гнилыми зубами и красными деснами, раздувая не в меру широкие ноздри и выпучивая глаза, кричал, слезая с кобылы, объездчик во хмелю. – Шурупчик, а ты мне, похоже, седьмую девку швырнешь? Ишь, живот-то какой вона – вострый?..
А Шурка обрывала Фому, дерзко и зло отчеканивая, вполне резонно, впрочем:
– Что стругал, то и настругал. Какой ложился, такой и родился.
Дерзкий ответ жены приводил Фому в веселое состояние духа, он обнимал ее за талию и шептал горячо в ухо, возможно милее, продолжая кураж. Шепелявя и приникая к жене, словно от этих его разговоров и впрямь что-то зависело:
– Неужели впрямь седьмую девку родишь?
– Да говорю же тебе: не знаю!
– То я знаю!.. Сходи на аборт, – отчаянно и как бы раздумывая настаивал Фома.
– Ходила, да поздно хватилась, – отвечала Шура, прижав руки к большому, тыквой, животу. – И за доллары не берутся, срок вышел.
– П-почему?
– Можно в кровях утонуть.
– Думаешь. Тебя жалеют? Суда боятся!
– Или Бога.
– Пога? Какого такого Пога? – взвился Фома. – А где он, П-пог? Это теперь моду завели: куда ни плюнь – все погомольцы, плюнь – в погомольца попадешь! Все за свечки схватились, – ворочая белесыми зрачками, шипел Фома. – Может, и ты его поисся?
– Кого?
– Пога, Пога!
И он попадал этим вопросом в самую точку, доставал до сердца, как ножом. И всю ночь Шурупчик при храпящем Фоме ворочалась с боку на бок, чутко прислушивалась к вспуганному голубиному какому-то шевелению в своем чреве, думала: «Вот, говорят, ребенок во чреве все слышит. Тоже слышит, как и его судьба решается, ишь, ишь, закрутился, прямо веретено…» И она затаила глубокую думу о нем, замолчала…
– Сами сделаем то, что надо, – вдруг заявил Фома.
Шура после бессонной ночи так и обомлела:
– Не дам, поздно!
– Ты с ума сошла, в пога! В веру! – орал Фома, но Шура была непоколебима и непреклонна и осадила его с такой силой и яростью, на которую способна была только затравленная волчица за своего щенка-волчонка:
– Только тронь!
Фома зашипел:
– Я знаю как, меня научили. Знахарке отслюнявил полста зелени. Трава крушина, баня. Взвар – и вона – выгоним за милую душу. Надо только потом помять чуток, закопать послед и все, за милую душу! Все! Закон!
– Ну, если так, – вдруг ослабла и присмирела жена… – Делай. Я помогать стану…
Шура и впрямь терпела отчаянно, через пьяный полуобморок, как сквозь сон (чем опоил он ее, уж не мухомором ли?), подсказывала, как надо мять, куда ушел ребенок, да скрипела зубами от нестерпимой боли. Фома работал, «делал», как заправский массажист или как если бы все это действо приносило ему удовольствие. Лишить же жизни человека, даже и такого крохотного, оказалось вовсе не таким простым делом, как предполагали они. С первой парилки ничего не вышло. И они готовы были через два дня ко второй, как вдруг узнали о капитале. Материнском капитале, от самого Президента!
– Триста с …ем тыщ! Триста тыщ, Шурупчик, чуть с тобой не выкинули. Чуть в землю не закопали. Вот дураки-то, – он крутил газетой у ее носа. – На-ка вот, читай! В райцентре дали…
Но все оказалось куда сложнее. Капитал нельзя было ни взять, ни пустить в дело. И вообще пощупать было нельзя. Только переносить с книжки на книжку, из банка в банк. Нельзя было даже и построиться или достроить раньше начатое. «А вот разве только на учебу, когда ребенок взрослый будет, – сказали Фоме в банке, когда он пытал кассира. – Или только на воспитание, да и то не ранее чем через три года».
– …Вот суки, – искренне изумлялся Фома, – надо же, что придумали. Вроде и есть, а на, возьми… Ан, нет не возьмешь. И нет, никак… Вот суки!
Но попытки вытравить ребенка решено было оставить. Второй попытки не случилось, и ребенок родился. Родился он все-таки недоношенным, выскочил прямо на ходу в «полотьё», «словно выронила», – как говорила Шурка. Она полола свеклу и родила прямо в огороде. Мальчик – со скрюченными руками, да и ноги не сгибались. Ходить он не мог и впоследствии без костылей, ползал. Сестренки возили брата в самодельной коляске, норовя провезти глухими улочками, вдоль оврага или огородами: ребятишки, увидев издалека колясочников, разбегались по сторонам, кидали в сестер комьями сухой земли, дразнили. Взрослые же порой останавливались в оцепенении, крестились и шептали молитвы, глядя вослед жалким детям Фомы, провожая взглядом урода…
Был он и впрямь страшен, Павлик: перекошенное лицо его с большой оскаленной волчьей пастью и заячьей двойной губой, всегда открытой и мокрой, – лицо выражало то ли недоумение, то ли озлобленность, а несоразмерная с телом большая голова качалась на тонкой шее, угрожая свалить мальчонку с коляски.
Сестры не любили возить братца: тот мочился на прогулке, и особенно почему-то в знойные летние дни, когда Павлушу катали в распашонке и коротких штанишках, которые он нарочно подворачивал еще выше, вытягивал ноги, ворошась и показывая прохожим уродливые, в струпьях щиколотки и запястья, поросшие редкими рыжими волосами.
На время прогулки Павлуши прохожие исчезали. Зрелище и впрямь было трудное: мальчишка, почти нагой, в обносках, к тому же нахватавшийся от родителей бранных слов – сыпал ими как орехами. Он был как бы физическим воплощением души своего отца Фомы. Орал на прохожих и проезжих с коляски, убогий и жалкий:
– Ну, что смотрите, в Пока, в веру! Ну! Глаза поломаете!
И было во всем облике этого уродца, в его брани что-то сверхъестественное, непонятное. Почти мистическое, ведь убогие, – они какие? «У Бога», где-то рядышком, под крылом, Его милостью… А этот ревет как звереныш… Страшно…
Доказывали Фоме, предупреждали его о сыне:
– Это тебе, Фома, наказание, убогий – то за неверие твое и слова паршивые, хульные. И еще за то, что ты, Фома, палец в ребро Спасителю вложить пожелал, а без того и не веровал, и не веришь…
– Палец? Какой такой палец? – не понимал никогда не читавший Нового Завета Фома. – И куда? В ребра… Та-а… я бы их выдрал! Во сколько горя испытал…
– От зависти угораешь, – упрекали. – Ты и не Фома вовсе…
– А кто? Кто я?
– Каин!
И когда ему посоветовали прочесть это место в Святом Писании – место, где явлена была воля вознесшегося Бога, он, отец урода, Фома Кукин, и впрямь затаил неожиданную и глубочайшую злобу. Злобу и зависть нешуточную. В самом деле, если есть он, Пок, то почему одним всё, полными пригоршнями, другому – ничего, кроме горечи слез… И, наконец, уже вовсе нешуточный вопрос: рождался-то парень, Павлуша… Не седьмая девка. Почему же он, великий и всемогущий Пок, не подсказал, не поддержал в трудную минуту? Значит, Он и виновен, Он сам, а вовсе не Фома… Он, Пок Всячески подзадоривал он сына, с затаенной, глубинной обидой на уродство мстить Поку: рычать по-волчьи, ворчать на иконостас, занавешенный сборчатой занавеской с узором, доставшийся от родителей. Шурка же, в отсутствие которой проходили все эти «церемонии», и не подозревала ни о чем, хотя какое-то настороженное, особое отношение домашних к иконостасу втайне отмечала. Иногда под предлогом уборки к большим праздникам и вовсе порой снимала иконы, заворачивала в чистые простыни и прятала от Фомы – в особенности те из икон, которые тот в пьяном кураже грозился сжечь и даже подпаливал напоказ занавеску в красном углу. «Дом спалишь… Это тебе не шутка…»
– Оставь, язва, курва, межедворка! – орал уродец с тачки матери. – Не твое это, значит, и не трогай!
– А чье же? – Шура цепенела от неожиданности.
– Наше! – был ответ.
– Уберу в чулан от вас от греха, антихристы.
– Не трог, пусть висят: Бог не Ивашка, видит, кому тяжко.
– Молодец, Павлуша! За словом в карман не лезешь. Авось, и себя в обиду не дашь, и меня на старость защитишь. Ничего не бойся! Гляди на меня, делай как я, закон! Ты первый, первей всех. Помни мое! Крой всех и вся. А уж я за тебя горло порву любому! Жми на страх: кого боятся, того уважают. Вот он, арапник-то, всегда при мне! – и сунул тайком сыну нож с выкидным лезвием под кнопкой с наборной ручкой.
Тот ощерился, ощутив отглянцованную до телесной мягкости ручку финки, сделанную в недалеких мордовских лагерях, – нож с наборной ручкой из цветного плексигласа…
Повзрослев и узнав, что уродство его – от Пока, что Пок наказал его, невинным еще младенцем, матерился Павлуша самыми непроизносимыми скверными словами, брызжа слюной с такой отчаянностью и остервенелостью, что и отец, и мать тотчас затаивались, чувствовали себя душегубами.
– …А Бог не микишка, зрит, на ком шишка, – говорили в деревне. – Это ведь Он наказал, через отца с матерью… «До седьмого колена поражу» – сказано…
Но подлинное наказание было еще впереди. И вот как случилось: Шура, торговавшая дешевым спиртом, исподволь пристрастилась и сама к зелью – травила с горя и ради прибыли и себя, и посетителей. И однажды в канун праздников мучеников Севастийских хватила стакан, легла на ночь, да и не встала. Умерла.
– Шурупчик! – кричал объездчик в каком-то невиданном остервенении. – Шурупчик! Встань, встань. Поднимись, родная! Да ты что молчишь-то, ай оглохла?.. Ой, встань-подымись, нет силушки на тебя смотреть мне, горемыке…
– Ну, будь орать-то… – просто и буднично оборвал его Павлик. – Что ты блажишь как баба. Померла и померла, мол, закопаем…
Пришли деревенские плакиды. Волоча Нюраху за ноги, стали обмывать, болтали:
– Сгорела и впрямь как порох. Видно, и в самом деле, спирт-то – яд.
– Да ведь ты видишь еще какое дело: баба. А бабы – они завсегда в это дело легче мужика вружаются… И мрут чаще, не для бабьего организму спирт-то.
Объездчик слушал и не понимал, на земле он или на небе… или уже в аду, так горько и больно на душе было впервые.
– И ты своей смертью не помрешь, – мрачно и трагично пригрозил отцу Пашка-Бутуз из темного угла прохладной комнаты, – теперь и ты собирайся следом. Издохнешь в одночасье. Туда тебе и дорога, живодеру. Очумел ты давно, и черт тебя ждет, лапы потирает.
– Куда собирайся? Это ты отцу? Ах ты босявка…
– Не вращай глазами-то, не вращай… Сестры тебя боятся, а я не боюсь: вот они, костыли-то… И нож со мной… Или крысиного яда всыплю, или того, запорю: не обижай никого зря. Злодей….
– Я добро стерегу от воров, – пытался оправдаться Фома, струхнув, – меня все боятся. Не тебе чета… Ты что, сынка, ай приснилось чего?
– Приснилось! Мертвым ты приснился, вот что, аспид, изувер, – все больше заводился Павлик. – Ты стеречь – стереги. А людей не забижай, не трогай… Она и мать-то не без твоей помощи ушла… Знаю… Ты за что Вадика Новикова чуть до смерти не засек? За три мешка картошки голландской, да еще с того года? А Стеню Копейку, старую женщину испугал до полусмерти за огурец с бахчей? А меня уродом сделал, ирод, зачем? Пог, Пог… На Бога сослался, смотри… Поди-ка, кабы не детские деньги, что «капиталом» называешь, так и вовсе бы мне не жить, в животе сгноили? Ай не так?.. Ты да мамаша – одного поля ягоды…
Тут у Кукина возникла странная и страшная мысль, догадка по смерти жены. Но он столь же торопливо и не давая ей разрастись, как облаку, тихо и, стараясь быть сдержаннее, спросил:
– Это кто тебе такое наврал? Откуда ты взял-то, Павлуша?
– Никто, сам знаю!
– Ты дерьмо мое и не можешь мне угрожать! – едва не плакал от постигших несчастий и упреков Фома. – Виноваты ли мы ай нет с твоей матерью – не тебе судить. Яйца курицу не учат… А ты не можешь мне такие слова, поскольку…
– А деньги мои где? Куда вы их дели? – не унимался Павел.
– Какие деньги? Были, да быльем унесло…
– Десять тысяч баксов – быльем?.. Врешь, не возьмешь…
Перепалка впервые чуть не кончилась дракой, Пашка скрюченными руками схватил костыль и, прыгая на больных ногах, кидался на отца. Девчонки орали в голос.
– Ты? На отца? – оскалясь, кричал Фома и всех пятерых девчонок и Павла драл кнутом, покрикивая. – Цыц! Мокрохвостые! Ишь, на отца коситесь!
Старуха, мать Фомы, не выдержала, и, все помня смерть мужа, отца Фомы, посоветовала:
– Фома, сходи. Сходи в церкву-то… Сходи, не будь дураком-то, не будь. Покайся! Да лбом-то к паперти. К паперти да к иконам. Это тебе все за отца отмщение и за Бога поругание. А Бог поругаем не бывает, вот и мучаешься, эвон трясет-то тебя как! Вот и сын супротив тебя. А ведь сказано: «Хула на Духа святого не простится ни в этом мире, ни в следующем!»
Фома с легкостью, как игру, воспринял этот совет и однажды пришел к заутрени. Священник в начале исповеди, обильно потея, в благостном состоянии принимая Фому, то и дело вытирая платочком пот, долго слушал его и чем дольше слушал, тем реже кивал и менялся в лице. Потом и вовсе кивать перестал. Сказал только грустно и отрешенно: «Целуй Евангелие и крест». Фома поцеловал.
После исповеди священник сел на лавочку и долго сидел так, не шелохнувшись, обхватив голову руками, как если бы голова стала невыносимо тяжела…
До причастия он не допустил Фому: тот не знал, что нельзя ни пить, ни есть до Чаши, и плотно позавтракал до церкви.
Какая-то прихожанка зашипела на Фому, что он протоптал по дорожке к аналою, тот огрызнулся, и священник видел, как, не выстояв после «Отче наш» и пяти минут, объездчик вышел из храма вон, жадно закурил на крыльце.
Бабьим летом, в середине сентября, освободившись от дел, Фома Кукин каждый год уходил в отпуск. Так и в том году, когда опустели поля, сады и огороды, по первой поземке и получив задаток вперед на лето от фермера (да и окрестные «частники» скинулись ему за подмогу – заплатили полностью долги, и долларами, и рублями).
– Голландец, – подначивали Фому сельцовские, – ты теперь богатый, свое дело открывай. Мечтал же, все баял…
Шутили, смеясь, Фома поскрипывал зубами, но, радуясь, считал и пересчитывал крупную сумму… Говорил себе: «Держись, Фома! Небось, теперь прижмешь хвост голодрани…»
И когда шагал он деревенской улицей гоголем, тайком пощупывая и потрагивая пачку денег в кармане: мечтал он купить жеребца или молодую кобылку, – решил открыть конезавод породистых лошадей, чистых и дорогих пород. Он давно мечту берег и нежил, вынашивал и обмусоливал – овладеть этакой красавицей или красавцем, для начала… в свое владение… и под себя – престижнее и скорее, и похваляться будет чем.
Он даже зажмурился от предощущения большого счастья, медленно, облаком, но явно и зримо наплывающего, наваливающегося на него: вот он конезаводчик, вот он выводит племя. Редчайшее, как сегодня – русские борзые, и вот все конезаводчики едут к нему. Пишут ему. Кланяются и несут деньги… Деньги за жеребят… Вот он и капитал. И закрывая глаза, он уже видел себя верхом (или, как говаривают по деревням, «верхами»), проезжающим по Осиновке этаким аллюром, по-цирковому, когда лошадь идет медленно, выкидывая коленца, и этак прелестно, из стороны в сторону, из стороны в сторону. Чтобы все рты разинули. «Сенами» он запасся заблаговременно, прикупил у фермеров и овсеца. До мечты осталось рукой подать.
На ярмарках шли торги за торгами. Фома не пропускал ни одного. Присматривал хорошего жеребчика, ходил он и по заводам, и к частникам, с посошком, прикидываясь бедняком-любителем. Больше на любовь к лошадям упирал… Частники, из тех, что владели хорошей породой, – те как-то понимали его, сочувствовали. Но цены гнули громадные, объясняя жадность свою вовсе не корыстолюбием, а так, мол, лошадей – единицы, да еще таких… «Ну подумай, кто же на торгу отдаст задешево, когда торгуешь единственным. Просто из любви к породе даже…»
И вот попалась ему молодая буланая, еще не объезженная кобылка… Потянула как баба на себя, повела и повела, потерял Фома голову. Ходит Фома возле нее кругами. Вроде и не на нее смотрит, вид делает, что не на нее, а сердце не на месте. Не колдунья и не ворожея – кобыла, а окольцевала Фому.
Осиротела она по чистой случайности: прогорел и разорился немолодой, в годах уже фермер: болячки достали его, инвалида, а детей то ли нет, то ли не едут, бросили, деревенскими грязями брезгуют. Пораспродал он все нажитое не то что с молотка, а и впрямь – за безделицу и сгоряча, кобылку же берег до последнего. Сидел косматый. Больной. Дурно и тяжело предсмертно пахнущий на подушках. И громко и трагически спрашивал входящих:
– А тебе чего, поди прочь!
– Гнедая. За сколь отдашь?
– Гнедая? – сразу же ожил косматый и погрустнел. – Не отдам!
Но Фома был стреляный воробей, испытанный покупщик. Вынул четверть спирту и начал разговор. И хозяин, даже и сидящий среди подушек, больной, но все еще высокий, ожил. Заросший, как древний иудейский пророк, медленно и истово положил длинные кресты страшными искалеченными подагрой пальцами, молвил: «Се, остается дом твой пуст…»
Слова эти были и вовсе непонятны Фоме, но настолько страшны и величественны, что он пал на колени перед хозяином. Но уже за околицей, вводя в телегу непослушную гнедую, радовался за себя, за свою ловкость и артистизм притворства. И пошло-поехало: там вятки или орловки – запил, спустил все после больших неудач помещик из «новых» (курского и владимирского тяжеловоза Фома нашел у него) – он тут как тут. Фома подливал ему, всклокоченному, немытому, но все еще пытавшемуся держать фасон – оно так у военных…
Рассказывал тревожно:
– Так вот, Фома… Пришли назад паи свои просить. Сельские-то, наши. Стали толпой под крыльцом, как встарь нам показывали в фильмах. Вышел и я: «Чего вам?» – «Верни паи…» «А вот, видали?»… Молчат. Хлопнул я дверью, ушел, и вдруг так за душу схватило: это кому же я дулю показал? Этим больным старикам, что всю жизнь навоз по этой земле, по этим паям ворочали, им, у которых поколения здесь лежат. В этой земле, навеки… И вот, видишь, запил… Запил вглухую, хоть святых выноси.
Фома слушал да подливал, кивал и все же свел со двора и тяжеловоза без жалости.
Впоследствии, в минуты уединения, хвалил себя: «Молодец…» Но больше всего радовала кобылка, высокая, тонконогая, с узлами коленок, огнеглазая, с густой гривой волной и длинными ногами. Осиновские мужики зачастили на смотрины необъезженной красавицы. Фома допускал не всех: только нужных, весомых, с которыми стоило и вообще дружбу водить… Пытались тронуть под пьяный гогот жесткую непослушную гриву, пышную, желтую, как пена после катера у берега на Оке… Пригнал он ее в недоуздке, парой со своей гнедой, запряженной в телегу. Непокорная кобылка бежала легко, играя.
Волна гривы лежала набок, высокая холка… Жмурились, цокали языками.
Буланая красавица зло косилась на зевак, норовила укусить, вставала свечой на задние ноги.
– Ишь, с норовом!
– О-огонь! – заикаясь, подтверждал Фома. – Что не по ней, разобьет на… Задними бьет. Жерди с база напрочь выбивает, навылет. А в них гвоздь – двухсотка… Орловка, одно слово. Огонь! Ишь, вся бела, аки снег. А жеребенком-то была – черна да с очками на глазах.
– Да разве так бывает? Чтобы из масти в масть?
– Это у них бывает, у орловских…
Фома называл ее Милкой. Узду надевал как фату… Долго он выбирал эту узду, чтоб была достойна, из наборных ремней крепкой мягкой кожи, надежную, как портупея генерала, да с бляшками, с кольцами, как для цыганки. Натягивал под челку, на лоб, заправлял силком мундштук в зубы, который Милка никак не хотела брать. Не желала покоряться… Заправил, чуть зубы не выворотил.
– Ишь, целка… – с ласковой злостью говорил Фома. – А побрякушки, колокольцы-то любишь, как звенят… Что, любишь? Подарки, сладенькое… Вот жеребца тебе подведу, жди. На муки твои полюбуюсь…
Колокольцы и впрямь звенели волшебно-тонко при малейшем движении.
На покорение Милки под седло собралась вся деревня, как на представление. Собрались за селом на выгоне. Мужики, бабы, ребятишки…. Впрочем, полагалось запрячь в повозку, да нагрузить потяжелее, да дать кнута. Но Фома давно придумал держать Милку исключительно как верховую… Да и была какая-то тайная надежда, что и она, Милка, тайно уже приняла его за кормильца, хозяина. Примет и за седока.
Фома сначала все гонял кобылу, щелкая кнутом, крутил по базу на длинной веревке, постреливал кнутом, сыпал прибаутками. Рыжие, копной, волосы его горели огнем на ярком солнце разогревшего землю бабьего лета. Войдя в раж, оседлав Милку, верхом он нетерпеливо дергал на себя узду, яро хлестал по бокам хлыстом острой узды. Милка-Колдунья заржала – словно захохотала, с эхом в гулких обосененных полях, да так, что мороз пошел по коже.
– Ты с ей поласковей, – советовали мужики, – она хоть и кобыла, а тоже того, женского полу, ихнего, а оне подход любят…
– Эва, черемониться! Фома, поддай ей, курве! Ишь, ишь. Заплясала, руку почувствовала, эдак, эдак…Тверже ее держи, бабы – они силу любят!
– И седло полегше надень. А то бока-то намнешь ей. Дорогой такой….
– И по мне что баба, что кобыла, одного роду-племени. Не таких объезживал…
– Мотри, Фомка, знать, понесет сейчас… Не зевай, Фома, на то ярмарка…
Кобыла рванула и грациозно вдруг пошла по кругу, заставляя людей отступать в страхе и в восхищении, словно все еще была она на длинной веревке, стелила хвостом, стригла ушами.
– О-о, пока-мать, закоо-онно… Закон! – только и успел крикнуть Фома, Милка вдруг встала свечой, пугливо кинулась в сторону, рысью прошлась вдоль загорожки, заведенная от ударов хлыстом, и вдруг с легкостью, как на крыльях, перелетела через жерди база – взяла высокий барьер. Фома точно куль с овсом – вывалился из седла, повис на узде, да и ту бросил. А кобыла так пошла и пошла крупной рысью, заметно припадая на правую заднюю ногу.
Ее отловили только к вечеру, и то с хитростью, с уловкой: кузнец Терентий умело ржал наподобие жеребца, пролез по кустам всю округу, ждал и слушал, где отзовется.
Сашка Пряхин – малый оторви и брось – подошел к ней. Резко схватил под уздцы, с опаской, но не боясь на вид, вел на баз, повторяя от волнения и страха одно и то же: «Узда набороная, лошадь задорная…»
– Чего-то хромает она, Фома, ты не дрейфь, я только гляну. На-ка, на. Подержи, что, сильно? Зашибся? Дайте клещи, что-то подкова стучит.
– Дайте клещи… Клещи… – зашумели в толпе, – без гвоздя. Бьет подкова…
– Э-э, я сам, я сам, – заорал, осмелев и оправившись, Фома, – дай-ка, я имею в этом деле… Смекаю… С-стой, стер-рва… – и, зажав копыто между колен, стал отдирать с усилием подкову.
Вдруг Милка-Колдунья всхрапнула, заржала, да так ударила Фому, что тот ковырнулся оземь замертво. Семен отскочить не успел, как кобыла шарахнулась и потащила резво мертвое тело. Его пытались отбить, а она тащила его, топча, вцепившегося в узду, все дальше и дальше, в сторону ферм бывшего хозяина, поднимая пыль по сухому логу, по навозу, по выгону, по тому самому месту, где тащили его когда-то мужики «сажать на кол».
Народ сголчился с испугу, потом рассыпался и вытянулся в беге вслед за Милкой, но она шла и шла. Далеко и легко, освободившись уже от мертвого свислого тела Фомы. Так и подняли его с обрывком в мертвых руках зажатой узды….
Только один «обрубок» остался на выгоне, это был сын Фомы Кукина – уродец Пашка-Полчеловека, он сидел на коляске ощеряясь, как бы против солнца и ветра, вглядывался…
– Пашка, убило отца-то, Фому-то!..
– Гы-ы… – и вдруг задергал раздвоенной губой, захохотал, забил в ладоши и, отталкиваясь на коляске, поехал вслед за толпой и все кричал, хлопал в ладоши. Да так отчаянно, что Сашка вернулся к нему:
– Ты чего? Чего орешь, обрубок?
– О-о, – и Пашка выплюнул из-за щеки гвоздь от конской подковы…
– Так это ты чего же вытащил? Или нашел?
Пашка еще яростней затрепыхался, задергался на коляске, крича: «Пока! Пока! Пока!»… Потом достал нож, бережно завернутый в тряпочку, – это был тот самый нож, который ему подарил когда-то Фома, – и захохотал с таким победным видом, что неверующий Сашка закрестился часто и мелко и кинулся бежать напролом сквозь кусты. Он бежал, продираясь сквозь лещину и сухой репейник, крестясь и оглядываясь, шепча единственную молитву, которую знал: «Богородица Дева, радуйся…» – которую слышал с самого раннего детства от прабабки Стеши. А сзади все слышались визги и вскрики радостного Пашки.
Он бежал впервые в другую сторону от толпы, ошарашенный какой-то явной догадкой, смысл которой был ему неясен еще, но так страшен сам по себе, как страшится запоздало малый ребенок, впервые проходя по грани добра и зла, и с гибельным восторгом выбирая зло, и обомлев от выбранного, понятого…
А в это время к селу подходил уже Николай Пряхин. Ему скостили срок за Фому. Бледный и худой, он откинулся с больнички, купив на зоне туберкулезную мокроту – так велико было его желание выбраться из-за решеток и заборов и отомстить. Списанный по актировке, он едва шел. От былой силы и куража не осталось и следа, только прежняя сутулость стала еще заметнее и острее торчали костлявые плечи.
Неугомонный
Степанида, подавай на стол!
– Поспеешь, не помрешь, – отрезала Степанида. – Поросенок визжит, прежде его покормлю.
За дверью, в сенцах, месячный поросенок-молочник заходился визгом.
Грубо навалившись локтями на стол, старик задумался о работе, о кузнице. Времена пришли поганые, такие поганые, что на излете жизни пришлось вспомнить забытое ремесло, на исходе жизни и сил открыть кустарную кузню, вспоминать навык работы с отцом-покойником… Отыскал он в бане, наверху за навесом, закинутый и забытый мех, отыскал молотки. Вот помощника бы еще, какой она, баба, помощник… Он покосился на жену: «Вона, пожрать и то не дождешься…»
Глаза его, мутно-серые, слезятся. Руки страшны иссиня-черными буграми вен с припухшими ревматическими суставами.
– Скоро? – вновь спросил Данила.
Привычно работая ухватом в печи, бабка Степанида, потная, суровая, с подтыками длинной юбки у пояса, не удержалась, завелась:
– Ай горит? Да провались она в тартарары твоя кузня. Она нам не кормилица.
Каких только слов не наслушался Данила от жены за долгую совместную жизнь, но то, что он услышал в эту минуту, резануло по сердцу бритвой:
– Не кор-ми-ли-ца? Ишь что сбрехала, чертова баба!
Степанида и бровью не повела: выпрямилась, одернула подол синей ситцевой юбки, зло и раздельно выпалила:
– Истинно так. Работаем от зари до зари, а куска хлеба в доме нет!
– Кругом сыр-бор, всю Русь-матушку растащили, а ей только чрево набить. Хлеб-то нам не довезли из Центральной с элеватора, да, может быть, он, хлеб-то, прямо в войско, в Чечню и пошел, нашим детишкам увезли. Их ведь там, небось, трое. Надо обуть-одеть. Прокормить. А?
– На! – Степанида стукнула на стол большую разлатую глиняную тарелку «толчка», мятой картошки – Ешь, пока посинешь! Ты бы не пускал детей на войну, ай им там место? Робили бы во дворе, косили цветошник бы да сенца насушили, сажали бы картошку… Прожили бы.
«Бессолая, как трава», – мысленно говорил себе Данила, перекосив губы и обжигаясь. Не обращая внимания на еду, он невольно стал думать о Чечне, о сыновьях – Ваньке и Петьке, ушедших по контракту. Голодно, поди, им там. Но больше всего терзался кузнец воспоминаниями о дочке Маше. Помнилось ему: работает он в слесарке, в хорошие времена, на станке. Станок токарно-винторезный визжит резцом, гонит стружку, которая из серебристой становится черной на глазах, остывая. Вдруг крикнут ему, тронут за плечо. Он снимет очки – и вот она, Машутка, тут и есть – пришла с обедом. Суп в горшке, каша с маслом в большой железной миске, как и сам он носил отцу в далекие прифронтовые времена. Подойдет, бывало, поцелует в небритое лицо и пропоет… Ишь, то-то уж и сорока-девка, ласковая, а стрекотала: сядет и все щебечет, все щебечет. Все расскажет, век слушал бы ее. Вспомнил, и душа обмякла, лицо расплылось в улыбке.
– Почто ощерился-то? Или деревянный рубь увидал под столом? – сострила Степанида.
Данила пропустил эти слова мимо ушей: он в этот миг слышал голосок любимой дочери.
Степанида, открыв дверь в сени, остановилась у корыта рядом с чавкающим поросенком. Розовый луч дневного солнца из-под об-решетника крыши вытянулся во все сенцы, дальше в избу, лег пятном на худые ребра поросенка. Запустив морду до глаз в долбленое корыто, молочник цедил жижу сквозь зубы, ловил картошку на дне. Вдруг приподнял рыло, посмотрел прямо перед собой и ковырнул пятаком корыто. Помои выплеснулись на босые ноги Степаниды.
Данила зло посмотрел в сени, бросил ложку на стол:
– Глупая скотина. Опрокинул корыто и собирает с пола. Ца, зараза, ца!
Старуха поддала ухватом поросенка. Тот, взвизгнув, отскочил как мяч.
– Наелся ай нет? – спросила она мужа.
– Наисся тут с вами, – буркнул Данила. – Свинья да баба, дурей, видно, ничего бог и придумать не мог.
– Сам-то хорош, – обиделась Степанида. – Ишь, брови-то понавесил, ровно кот на сметану.
Данила, тяжко вздохнув, вылез из-за стола, снял с полатей картуз и, глухо хлопнув им по привычке о ладонь, надел козырьком назад, окликнул:
– Пошли, в кузню пора.
Сложив багровые губы, с тяжкой думой, шмыгает Степанида. Ноги, мосластые, кривые, с синими вздутыми венами на икрах, с подагрическими шишками. Насквозь прорезанные и обрезанные чуни. Тяжелый ход то в горку, то под гору.
– Ить вот, лаисся ты на меня, а помру – небось выть будешь? – хитро прищурившись, спрашивает Данила.
Старуха отмахивается:
– По ком плакать-то, кожа да кости. На чем душа держится, хоть сейчас ополосни, да и в гроб. В могилу и то краше кладут, одна неугомонность осталась.
Иногда она и впрямь силилась представить себе жизнь без супруга, но так ничего и не видела. Данила казался вечным, и если кому и уходить, то ей, и это было ясно как божий день.
Новая «Нива» председателя пропылила между палисадником и ремонтными мастерскими, от которых остались одни развалины. Старуха решительно направилась к нему.
– Ты старика-то моего в гроб, что ли, загнать хочешь, нехристь! Он еле ноги таскает, видишь ты, а ты с кузней затеял – и в сторону. У него работы прорва, а деньги-то кой-какие положил, да и тех не видим.
– Дадим, дадим, бабка, не деньгами – так вот, отсеемся, пшеницей, натурой отдам. Время – сами знаете, хуже войны, загнали село, запарили: бензин, корма, электричество – все в гору. Хлеб – по закупке все дешевле, а спекулянты, гля… Нарочно валят, под корень секут. Нынче в договор вошел: никак не меньше, чем семь тысяч за тонну. Не сдержим слово – конец нам…
– В газетах-то что печатают, скоро кончится бардак-то? А Чечня… Угомонились там они или нет?
– Нескоро еще, отец, угомонятся, – отвечал председатель, перемежая слова с одышкой, со вздохами крупного своего тела и уводя разговор в сторону от насущных проблем. – Кавказ, дед, Кавказ. Так вот и эти бандиты, там, в Ичкерии, взрывают фугасы, горло режут солдатикам…
– И нужна нам она, эта самая Ичкерия? Пропади там все пропадом, выйти оттуда и забыть. Ай своей земли мало. Своей-то не обиходим, бросили совсем. Поля березками заросли, даже и змея, даже и уж не проползет. А и та, что осталась у них, на Кавказе – гориста, хлебушек не родит.
– Там нефть, батя. Черное золото. Джихад. Он весь мир завоевать хочет, – кратко и просто пояснил председатель.
– Ну-у? – удивился Данила. – Такая козявочка – весь мир?
– У них – вера, батя, а у нас?
И Даниле представилось большое поле, ровное и сплошь в хлебах. Бородатый наемник в образе и подобии плакатного врага времен Второй мировой войны: руки засучены по локоть, сам с автоматом и фугасом через плечо, на лбу зеленый платок-повязка, как, бывало, видел он в новостях по телевизору.
Тракторист-частник промчался напрямую по колеям, спьяну заснув за рулем и мотая от тряской дороги головой, как мертвый. Председатель кинулся ему наперерез, стал кричать и махать руками. Данила двинулся вперед. Степанида не отстает. Село вытянулось в два порядка. Молодая зелень блестит на солнце, но не радует глаз. По селу разруха, как от бомбежки. Молодые уехали на заработки в города или по вербовке, детей кинули на родителей, на бабок.
– Что с них выйдет, а, старуха?
– Из кого?
– Да вот, из детишек-то… Сироты при живых родителях…
Увидев кузнеца, ребятишки бежали издалека, позабавиться. Один кинулся вприсядку, выпевал, весь чумазый:
- Ой, Данила, дед Данила,
- Тебя бабка заморила!
– Брысь, безотцовщина, зауглы́ окаянные, ай он вам ровесник? – вскинулась Степанида.
Данила со смехом понужал:
– Этак, этак, вот молодец, а дальше? Заморила, заморила, ее грех…
- Ку-знец, молодец,
- Вся моя отрада!
От дороги вдоль выгона, чуть влево и вперед, и вот она, тут и есть, «кузня-кормилица», присела у глубокого оврага. Серо-седая, как старая и добрая мать. С покосившимся одним-единственным окном. А вокруг старые розвальни, ломаные плуги, рессоры, динамо от трактора – все ржавое, гнилое, в земле и зеленью заросшее, с бурьяном вперемежку.
– …Ждут, – говорит Данила, подходя к кузне, – все ждет хозяина…
На крыльце кузни сидели-распивали трое мужиков, один другого угрюмей, все в обносках. Воняло кислым, давно немытым.
– Посмотрю я на вас, мужики, ровно через молотилку пропущены: излом да вывих. В город на заработки и то не годитесь, сеете плохо, с плугов да телег все гайки порастеряли. Ребятишек-то, поди, и тех не могёте, а? Или недосуг, не до ребятишек? Бабы-то ваши всё телевизор смотрят?
– Не выключают. Им не до нас, а нам не до них.
– А нам еще и лучше… Нам – пускай смотрят. А работать – какая работа с похмелья. С утра выпил – день свободен…
– Работа, она не кой-там чего, постоять может.
Данила щелкает выключателем, отворяет настежь дверь кузницы, командует с озорством:
– Стешка, дуй!
Степанида, набросав лучинок, зажигает охотничьим серником груду древесного угля, налегая на ручку, на меха, раздувая фиолетовое пламя, тоже балагурит в тон мужу:
– Данила, куй!
Пыль кипит-волнуется в узких лучах солнца. Застоявшийся запах пара, гари, древесного угля возбуждал в душе кузнеца необъяснимое чувство радости, гордости: что надо быть человеком, оставаться человеком до конца. И пока Степанида раздувает пламя горна, греет, он укладывает заготовки. Данила готовил инструмент основательно: осматривал молоток, наковальню.
Все заботило Данилу в кузнице: и покосившееся окно, и подносившаяся наковальня, и худая крыша. Берет клещи – думает: «Ивановы». Смотрит на зубило: «Петька подарил». Приедут сыновья – можно и на покой уходить.
Бывало, возьмутся сыновья за заготовку и так горячо, рьяно жарят по ней кувалдой. Данила, сдерживая гнев, учил:
– Бей тонко, с оттяжкой, пяточкой. Чувствуй силу удара – от этого и прочность поковки.
А если закурят, так загремит:
– Два дела делаешь? Или курить, или работать! Только запори мне изделие!
– Чё ты, батя, кипятишься. На твой век железок хватит. Ну испортим, так и что ж?
– Хватит? Сколько людей потело над рудой, железо из нее выводили! Эх, Петра, Петра… – сокрушался Данила.
Теперь Петр награжден медалью «За отвагу», вырезку присылал из газеты. И фотография в разворот. «Награжден»! Кузнец стоял у наковальни, вспоминал о детях, мысленно ругал себя за грубость. «Может, уж нет в живых Петра-то, – с горечью думалось. – Иван и Машутка пишут, а Петр как в воду канул…»
Кузнец засуетился, схватил клещами заготовку, налитую соломенным блеском, стук да звон. Золотая окалина порхает, жжет фартук. Изредка остановится, шоркнет рукавом по потному лбу и снова за работу.
– Не спеши. Отдохни чуток, – говорит ему Степанида, – пошто торопишься, успеешь…
Проковав все заготовки, Данила кладет на наковальню клещи и садится рядышком с женой. Степанида, раскинув юбки, сидит, широко расставив ноги в рваных калошах, смотрит на разбитые сапоги Данилы и думает: «Чем кормить старика в обед? Пшенка да мука. Да вот еще картошка. Утром картошку не ел…»
К обеду Степанида выпросила-таки у соседки маслица, разбила пяток яиц. Замесила пирог-стародум, без дрожжей, на ужин. Налила щей из молодой крапивы.
Ели молча зеленые щи, и бабка все вздыхала, поглядывала жалостливо на Данилу. Тот ел плохо, все откладывал ложку в сторону.
– Вздремни часок-другой, – уговаривала, убирая посуду со стола. – Весенний день долог, успеем.
– Идти надо, – отвечал Данила, хотя полежать ему хотелось: ломило поясницу, ныло сердце. – Обещал к вечеру отковать две ости.
– Успеешь. У них все срочно… – ворчала старуха.
– Да ведь не для них ости-то, для России!
Старуха фыркнула в уголок платка.
– Нужны ей твои ости-то, России, ржавые твои железки. Совсем ты, старик, одурел от телевизора.
– Глупая ты старуха, – обиделся Данила. – Без железок ни плуга, ни бороны не изладишь. А не изладишь – насидишься без хлеба. Помнишь, еще по молодости-то плакат висел в конторе: «Не только штык, но и колос врага колет».
– И-и, вспомнил. От нонешних-то врагов ни колос, ни штык не спасет, не-ет… Их ныне не видно. В атаку на них не пойдешь, круговую занимай оборону!
Жарко, душно в избе. От горячих щей, от слабости кузнеца бросало то в холодный пот, то в жар. Он с трудом открыл окно. Ветерок потянул прохладой, освежил грудь и лицо. Еще больше захотелось прилечь, завести глаза.
– Пора, – пересиливая боль в пояснице, торопил Данила.
И опять потянулись они вдоль развалившейся череды домов к кормилице кузне.
Вечером село окутал мутно-серый рыхлый туман, в кузнице стемнело. Степанида вылила остатки грязного керосина в допотопную лампу с треснувшим пузырем: вот уж с зимы – потемки, с заговенья бродяги поснимали на металлолом алюминиевые провода. Трансформатор не гудит теперь, как бывало раньше, издалека слышно. Насиделись без света…
– Ну, я пойду. Приготовлю ужин. И ты не задерживайся тут.
– Иди. Уберусь и приду.
– Посуду, поди-ка, опять чинить будешь бабам деревенским?
– Нынче не придут. Поздно уже.
– Ты бы хоть керосином с них брал. Или хлебом.
– Еще чем взять посоветуешь? – сурово переспрашивал Данила. – Они вон откуда едут, из соседних сел. Новое купить не на что, оттого и несут в починку. Барахло. Барахло же несут, какая за барахло плата?
– А то что же даром-то? Даром и чирей не садится. Сказано: сухая ложка рот дерет.
– Не раздерет!
– Ну околачивай руки-то задарма, околачивай. Они и так у тебя ровно у лешего.
Часто вечерами приходили женщины из окрестных сел: кто чайник принесет – отлетела ручка, кто кастрюлю – дно запаять, кто подойник – долой ушко. «В сельмаге не укупишь», «пенсию из района не дождешься». Вот и ходили в кузницу. Данила отказать не мог, не умел. Вот и сейчас, только что ушла Степанида, словно ожидавшая ее ухода – тотчас нагрянула Пелагея со сковородником. Данила уже собирался закрывать, смахивал окалину с наковальни, складывал инструмент.
– Митрофаныч, сустрой, милай, – запела вдова. – Как без рук осталась. Горячую сковородку руками-то не возьмешь из печи.
– Знамо, не возьмешь. Что бы ты пораньше-то?
– Как?
– Завтра приходи…
– На работе пласталась, бороновали.
– Придется покупать новый. Этот шабаш, зев выгорел…
– Мила-ай…
И Данила греет заготовку, Пелагея помогает, подкладывает уголек. Украдкой выставляет бутылку самогона. Данила не видит бутылки. Упрямо не видит.
Истолковывая это по-своему, вдова опять поет:
– Я тебе, Митрофаныч, утром хлебца принесу, свежего, свойского, без подмесу, за твою работу…
– Не надо, у меня есть. Ты племяшей своих корми. Тюрю с молоком совастожь им – сытно. Они у тебя вон какие частушки складывают, ровно артисты.
Поздним вечером Данила закрыл кузницу, часто и нелегко дыша. Самогон хоть и замолаживал, разгонял кровь – словно возвращал юность, да припекало что-то в груди. И стакан вонючего первача натощак сшибал дыхание, торопил сердце, томил одышкой. Теплый майский ветер дул порывами. Где-то брехали собаки, квакали лягушки в овраге за кузней. И в этом кваканье старику чудилась отчаянная жизнь, как у людей, беспощадная нынче, война:
– Ур-род, ур-род, – дразнила жаба одна другую.
– А ты какова, – отзывалась другая, – ква, ква…
В середине села, на бревнах, играл кто-то на баяне. Тосковал в любовной истоме, терзал клавиши. Одиноко играл. И не подпевали ему девки, как это было прежде, как встарь, все об одном, все о том же.
Кузнец любил музыку, гармонь волновала сердце воспоминаниями о былом, об ушедшем. Подошел к гармонисту, приложил к уху ладонь, гармонист кивнул. Данила глухо топнул сапогом и, снимая под лихой заигрыш с себя пиджак, скидывая его, раскрылился, сделал выход и прошелся с притопом. Потом смело кинулся в пляску, как в омут:
- Тятька кузницу сустроил,
- Я кую, кую, кую…
- Шестьдесят четыре пуда
- Поднимаю…
Пел он, работая ногами, и, теряя последние силы, задыхаясь, закончил:
- Ах ты, милочка моя,
- Сорока белобокая,
- Раньше я к тебе ходил,
- Теперь – гора высокая…
…Степанида отстряпалась, в поиски пустилась. Она искала «неугомонного» долго. Ходила в кузницу, заглядывала и в ветхий сарай на задворках, за кузницей. Даже на скотный ходила, «на баз», не выдержала одиночества:
– Как провалился!
И вдруг услыхала его голос и глухой крепкий топот, заголосила, завыла, подходя к зевакам, хохотавшим, глядя на деда, – завыла как по покойнику:
– Окаянный, неугомонный!
Видно было, что Данила пьян, и пьян крепко. Натощак хватило ему и полбутылки.
– Данила, Данила! – рванула она за рубаху.
Более притворяясь пьяным, чем на самом деле, спьяневший дед нарочно потешно-комически отбивался от жены, под общий смех соседей, – никак он не поддавался на ее уговоры. Потом шли под руку, Данилу гнуло и клонило.
– …До ста лет жить хотца, Стеша, – говорил он. – И вот думал я, что хоть не молод, а повеселю еще народ, ан нет, задвохаться стал. Приходит всему предел, знать, прошло и мое времечко.
И всю ночь тяжко спал старик, с полуоткрытыми глазами, как мертвый. Степанида тяжко вставала в ночи, не зажигая свет, в светлую весеннюю ночь, спрашивала, заглядывая в бледно-синее лицо мужа:
– Сердце болит, Данилушка?
…Утром два выстрела, один за другим, взбодрили тишину деревни – ударили, эхом отозвались, догнали друг друга, встретились и сплелись. Кольцом сошлось эхо и умерло вдали четырежды.
– Эка штука, – сказал, привставая и вслушиваясь, наваливаясь на подоконник грудью, Данила, – глянь-ка, стреляют, никак охота.
– На кого? – насторожилась старуха.
– Вот бог знает, кто и есть: для уток поздно, май уже. Да и на тетерева поздно. Уж не городские ли?
– Городские и есть, наши давно не палят, не на что баловаться, на хлеб не хватает.
На горизонте повис столб: густо и плотно шел-поднимался шлейф пыли, словно гарь за подбитым самолетом, вздымалась пыль вверх, обозначая путь горбатой иномарки, – шлейф пыли заволакивал дали, медленно полз под угор. Грозный клаксон причудливым звуком оглашал окрестность. Клаксону вторила визгливая музыка. Упруго била она, эта заморская музыка в динамики «лендровера», вытряхивалась на улицу. Глухо и непривычно трещало в сплетении звуков, рег-свинг, граунд-свинг… – кто-то бренчал глухо на банджо, перемежая аккорды с чехардой перестуков непонятного инструмента, то ли бубна, то ли барабана – словно палкой по забору частил опытный джазмен, тер как бы палкой по стиральной доске.
– Ух, открой, Валера, открой окно! Душа воли просит! «Вот моя деревня, вот мой дом родной…»
– Деревня – это да, деревня твоя – красавица: «Утонула деревня в ухабинах…» А в курицу ты даже и с двух раз не попал! Шефу скажу, пусть в тираж тебя спишет: слепой ты, нет, не стрелок, не личный ты охранник.
– В тираж? Да где он такого найдет… Я боец! Слышишь, ты… Как там тебя, водила!
Мелко семеня, удирали из-под колес куры, спешили в сады, пролезали сквозь колья частокола – и метались в стороны растерянно, едва умея отыскать прогал. Чья-то собака бросилась сдуру под колеса, да вовремя отскочила.
– Эх, гляди, чудо-то!
Теленок на длинной веревке долго и неподвижно смотрел на машину, пережевывая траву, и так же внезапно, потеряв интерес, отбежав на длину веревки, дернул всю ее так, что едва не вырвал вбитый в землю кол.
По-своему поняв намек, пьяно ткнув локтем в бок водителю, и опять захохотал, замахал в окно пистолетом личный охранник.
– Кончай шмалять, всю деревню поднял, – окоротил шофер друга, – лучше подсказывай, как и куда.
– Рули вперед, все время вперед! Давай, давай, ямки, дави на газ, Валера!
Коротко стриженный и губастый охранник – «телок», с крупной грудью, сдавленной узкими бретельками черной стильной майки, с мотающейся поверх кобурой, – свистал, хохотал, подстукивал от нетерпения и топал в такт музыке. В открытое окно гнало дым сигары шофера.
Машину в засохшей глине по колее валяло то в одну, то в другую сторону. Но колея держала каменно.
– Против колодца сверни. Пятистенок рубленый, рули под тополь. Туда, туда. Приехали.
Грудастый охранник, предвкушая радость встречи, выдавил в рот душистую конфету из цветной коробки. Рыжий водитель затормозил, выдохнул ароматическим дымом. Выщелкнул мокрый окурок сигары из окна подальше.
Подъехали бойко, качнуло от тормозов. Посидели, прикрыв окна автоматическими кнопками, пока уходила-плыла прочь пыль и опадала, обгоняя машину. И все долбила и долбила в динамики, не переставая, сумасшедшая музыка, мягко и громко ударяя в акустические колонки, словно музыканты, примеряясь к обстоятельствам, искали свои ноты, тонкие и причудливые, чтобы удивить, изумить, ошарашить деревенских аборигенов.
Приехавшие едва слышали друг друга, общались знаками, как немые: все трещало, жило, плыло, играло и разговаривало. Мягкие сиденья из кожи не могли погасить тройного напора звуков. Саксофон вел партию самыми причудливыми тропами, а банджо вторило саксофону, то догоняя, то отставая, чеканил и частил упрямый ударник.
– Ну и дичь тут у тебя, страна Муравия. Вот она где была бы – настоящая-то охота. А шеф платит бешеные бабки за стояние на номерах, ты сюда его вези, покажи заштатное житье родной деревни. Как можно было родиться в такой глуши и не быть охотником, скажи мне, Оцеола? А ты? Не попал в курицу с двух раз, вплотную!
– Это ж тебе не ПМ, а «Ижак», а проще – «ишак», дерьмо, а не пистолет. Менты выдумали и вооружили ЧОПы. Четверть прицельной мощности и поражающей силы… Нарочно разработали и внедрили барахло, понимаешь?
– Понимаю! Плохому танцору всегда паркет скользкий.
Говорить было трудно: так шумно, скоро и гнусно менялся репертуар.
Дед Данила, привалясь грудью к подоконнику, пристально и близоруко долгим взором вперился в окно на подъехавшую иномарку: чудней и шикарней автомобиля он в жизни своей не видывал. Степанида испуганно растолкала створки окна и, тут же заохав, мелко и часто крестясь, села на табурет.
– Ты что, бабка? – Данила все никак не мог понять, что же случилось. – Чего ты, старая?
– Выдь-ка, выдь да глянь, старик. Гляди, ведь это он сам и есть…
– Кто?
– Да ведь это Петя?! Это… или это Петро к нам?
И всплеснув руками, старуха бросилась на улицу.
Старик, сдвинув брови, стал пробираться вдоль печи, отыскивая опору. В полутьме через сенцы, все путаясь, проваливаясь руками в темные углы и прислушиваясь к стуку собственного сердца, сразу упавшего, затаившегося и вновь ударившего в грудь сильней и тверже. Данила выбрался на крыльцо, удивляясь своей шаткости и предательски ушедшему из-под руки дверному косяку. Тотчас и подвернувшийся молочник завизжал от пинка вбок.
– Кто это? Петя? Ты как здесь? – выкрикнул он и сам поразился слабости и осиплому своему голосу. Так и стоял на крыльце, беззвучно разевая рот. Старуха кинулась на грудь вышедшему из машины. Сын Петро – косая сажень в плечах, черная майка на узких лопающихся бретельках, а по ней рисунок: белая обезьяна над штангой с изогнувшимся грифом и надпись не по-русски – Воss…
Петя чуть прихрамывал от долгого сидения, растирал затекшие ноги.
– Не признаешь никак, батя? А постарел… – и не поясняя, кто постарел, добавил. – Ты прямо это… Как капитан дальнего плавания на мостике, ага…
– Мать, – сипло позвал Данила жалостливым голосом, – а мать, это Петя? Он?
Взмахнув платком, стянутым с плеч, шагнула старуха со ступень крыльца и чуть не подвернула ногу.
– Ты чего, мать, чего воешь-то, как по мертвому? – Петро обнял ее. – Дорогие мои старики…
– Пожалей ее, пожалей, Петя, – узко и торопливо шагая-сходя по ступеням с крыльца, сипло попросил Данила. – Плохая она, плохая совсем здоровьем. Еле-еле живая…
– А ты?
– Ну-у, я еще нормально, я в силах.
– А болезнь-то твоя, вечная…
– Какая?
– Птичья, «перепил» называется. Похмелиться-то не хочешь?
– Теперь другая болезнь, называется «дай поесть». Жрать нечего, голодуха у нас по селам. У кого пенсии – еще купят хлеб, если дети не пропьют их деньги, не отнимут. А молодые все безработные. Заработать негде, швах.
– Угощаю! – вскрывая бутылку шампанского, стреляя пробкой и пачкаясь белой пеной, весело кричал Валера-шофер, натерпевшийся по веселому питью за рулем. – Угощаю! Пою и кормлю! Все оплачиваю сам!
Петька обнял плачущую мать, правой рукой ухватил бутылку:
– Валера, разбирай, разбирай багаж. Провиант в горницу, скарб в сени, так, батя? А вот это, Валера, он, это и есть мой батя. Силач, кузнец, характер! Отец, а это Валера Вихров, собственной персоной. И шофер, и помощник, и друг. Один в трех лицах. Что? Ну, значит, в одном лице. Верный слуга своего шефа. Лучший шофер Москвы и окрестностей. Всех времен и народов, да! Валера, неси все в дом. А виски осталось у нас там? Ночуем в хате на пуховике. Можно и выпить от души. Заслужили. Три дня гудим как флюгера на ветру: у-у-у…
– Там, в багажнике.
– Ты стакан тащи, свой большой, «семиглотошный». В маленький-то у него, Валера, нос не лезет, он из маленького не пьет. Только из большого. Да чтоб с горкой. «Всклень» называется. Чего стоишь да головой трясешь, отец, счастью своему не веришь?
Желтый, как утренняя моча, виски плеснули в два стакана, отец и сын.
– Валера, а ты?
– Я не бу-у.
– А мы будем. Будем, отец?!
– Будем. А закусить?
– Вот, батя, пахлава, бери. Коржик сладенький с толченым орешком. Восточная сладость.
– Ну и выпить ты нашел, Петро, хуже самогона. Под него бы… грибки соленые.
– А есть? В погребе.
– Мать, дай фонарь, фонарь мой где-то немецкий, я в погребок нырну за грибочками, я мигом. И сметанки наберу… Стой, стой, Валера. Вот гляди. Какие дела. Ты городской. Тебе не понять, а я давно изумляюсь: вот гляди, видишь, церковь шатровая, золотые купола. Каменная. Русский крестьянин в лаптях ходил, а купола позолотил. И люди жили, те крестьяне, что строили ее из камня самородного, – у этих людей крыши изб камышом были крыты. Слышишь, Валера, не жестью и не ондулином – камышом. Не веришь? Я еще застал… Мам, как так нет фонаря, а где же он?
– А она его, Петя, на печи оставила зимой. А печь протопили как следует, он и расплавился, батарейки поплыли, щелок из них замылился.
– Мам, зачем же ты его на печь-то? Хоть на паличку или на шесток бы поставила.
Яма амбара – холодное чрево сруба с бегающими мокрицами – встретила Петра недружелюбно. Подгнивший рубленный в лапу сруб слоился гнутыми от старости и тяжести земли рваными бревнами, угрожал падением. Заговорившие под его ногами ступени лестницы, запах мокрого смородинного и вишенного листа из кадки вмиг окунули его в детство. Петька с закружившейся головой присел. С удовольствием дышал он и вглядывался в полутьму. Промытая алкоголем душа с обострившимися чувствами ностальгировала. Было глухо, темно и беспокойно. Тайная веселость трогала сердце. Лечь бы прямо вот здесь. Свернуться клубком по-собачьи, все оставить-забыть. И шефа-охотника-коммерсанта, что, напившись пьян, отпустил в деревню погостить, и недостроенный дом из пеноблоков с неудачным фундаментом в Подмосковье, и все-все… Пришло на память, как сестра в детстве боялась лягушек, а он нарочно бросил лягушку в крынку здесь, в амбаре. Да и послал сестру за сливками. Лягушка плавала, не давала сливкам согреться. Машка, спустившись в амбар, вдруг завизжала как резаная. Братья хохотали. Подтрунивали: «Машка, где сливки? Перевернула?»…
– Мать, а где же сливки к грибам? – вылезая наверх по певучим ступеням, крикнул Петр, поднимая в ковше оранжевые соленые черныши в смородинной листве. – Или все съели?
– Какие сливки, сынок, коровы-то нет давно. Я косить не гожусь, отец – тоже. Вон они, руки-то, не разгибаются. И у отца артрит. Не руки, а крюки.
– Ставь багаж на крыльце, малый, – сипел Данила.
– Валер, ставь тут, не суетись. На-ка, на пистолет-то, спрячь его в багажник. А то гости соберутся, перепугаем еще, чего доброго…
Данила как выпил, так тут и сел с пустым стаканом в руке. Сидел, двигал бровями, тяжело сопел от удовольствия.
– Прошла голова? Добавить, батя?
– Подожди, не гони коней… Пусть пожжет. Петро, а я о тебе вчера сон сбредил. Зуб у меня будто бы выпал, коренной. С кровью. Вот она и впрямь – кровь своя родная: ты приехал.
– Ты бы раньше сбредил, старый. Хоть на годок один, – упрекнула Степанида с навернувшейся слезой.
Валера принес опять. Разлили.
– Мать, а тебе?
– Ну ее к лешему.
– Поехали… Гадость какая… Фу…
– Между первой и второй промежуток небольшой.
– Три тысячи рябчиков бутылка, батя. А ты говоришь «гадость». «Блек Джабел». Во, читай…
– Что ты? – испугался Данила, даже жевать престал. – Три тысячи? Это ж полкоровы!
– Ну, за шесть тысяч никто коровы не продаст, хотя в вашей «очумеловке» шут его знает. Нищета тут такая, что, пожалуй, и продадут, а?
Валера поперхнулся, закусывая ветчиной, засмеялся, закашлялся. Ему услужливо застучали по спине, чтобы не подавился.
– Чертово тырло! Дожди пойдут, гляди-ка, и на «джипе» не вылезешь. Вот откуда я родом, Валера. Как вспомнишь, так вздрогнешь, со стыда сгораешь: из дикарей сиволапых. Уж ладно бы Германия или Дания, ну хотя бы Рига, а то село Мукасеево на речке Вобля.
– Речка хорошая, да. Щука опять пошла. А ты был там, в Германиях-то, сынок?
– «Был». Не был, а жил. Недавно опять оттуда. Вот житуха, шик. И одежда, и люди умные – словом, другое измерение.
– Петя, а ты на сколько к нам? Поживешь?
– Дня на два шеф отпустил. Как позвонит, надо отчаливать тем же часом. Он в охотохозяйстве, верст сто отсюда. Пока доедешь…
– Отпустил, значит?
– Он пьяный – добрый. Батина болезнь у него, «птичья», вот боюсь, не заразная ли. Ты что, мать, плачешь, что ли?
– Столько годочков не был – и на два дня?
Через полчаса вышли на крыльцо, заметно повеселевшие, сытые. С дымящимися сигаретами – черными тонкими и белыми.
– А хорошо тут у вас, батя, и что главное – тишина. И такая свежесть, даже сила откуда-то, как в детстве: кажется, воздуху наберу – и сейчас – облака раздую, честное слово.
Вдали растянуло-растащило тучи. Солнце осветило прямо и просто – отверзло лазурную высокую чистоту, отразилось в черном бокастом, жуково-округлом «джипе», в луже у крыльца с утонувшей травой и куриным пометом.
– Зови гостей, мать!
Сдвинутые столы накрыли, как на свадьбу, на улице.
– Во, мать, расставляй: пиво «Специальное», а это дыни, режь, конфеты «Третьяковка», колбаса, сыр «Барбарин»…
Гости собирались на новость: «Приехал Петро, да – богатый… Объявился».
Выпили, скромно накладывали в тарелки картошки, потянули странную колбасу на вилках, сыр с крупными ноздрями. Тарелки у всех были важно полупусты, но только до третьей рюмки. Данила пытался шутить, веселить гостей, загадывал старые забытые и оттого без решения загадки:
– А вот угадайте-ка, кто над нами вверх ногами.
Смотрели вверх, на телесно-выпуклые, величественные нависшие над столами сучья тополя, на сквозившее синью небо в них, не могли догадаться – все обычно, ничего такого загадочного.
– А… что сырое не едят, а вареное выбрасывают?
И опять нависало легкое гостеприимное молчание.
– Лук, – подал голос кто-то.
– Тост… Тост…
– Это у нас директор Силкин, когда еще косили в лугах и столовка там была, у парома. Ему щи принесли, официантка принесла, а он ей: «У тебя пальцы-то во щах». А она: «Ничего, они не горячие…»
– А-а, побрезговал. Небось, теперь не побрезговал бы, когда развалили все, да поздно…
– Это что же за машина, Петь?
Петр, весело и грустно глядевший на собравшихся, насмешливо закинул голову.
– Которая, эта? Рабочая наша. Поди, и не видал такой. На охоту ездим. Еще три разные, в офисе.
– А ты что же делаешь в этой машине? В офисе?
И Петр сбивчиво и с явной насмешкой над глупостью деревенских стал объяснять, что он – инспектор по безопасности, а проще – личный охранник…
– Телок?! – воскликнул кто-то, и все засмеялись.
– Это ты «телок», понял, а я – личный…
– Кто же на него нападает, на твоего «шефа», от кого ты его охраняешь? – близоруко щурясь от солнца и похватывая корявыми перстами лысеющую голову, всерьез ничего не понимая, спросил Данила. Матери не понравилось, как сын перемигнулся с водителем, оба засмеялись:
– От людей, батя, от народа лихого. Может, ты не слышал, в Москве на Рублево-Успенском уже противотанковые рвы роют.
– Что ты? Кто же вступил-то в Москву? Не чеченец?
За столом засмеялись, но уже как-то сдержанней, невесело.
– А медаль-то за что же у тебя, тоже за охрану?
– Какая медаль?
– Вот, – оглядывая с гордостью гостей, мило улыбнулся Данила, – ай ты забыл? Та, что ты прислал, с фотографии.
– А-а, эта? У меня их много, медалей-то, там дома, в городе.
Данила с гордостью обвел всех глазами, Степанида поджала губки.
– Ну, сынок, расскажи, как там было, на войне?
– На войне плохо, батя. Что тут расскажешь, – насыпая в рот соленые фисташки и запивая их пивом, рассказывал Петр. – Жрать нечего. Даже тому, кто с медалями. Дело дрянь… Плесни еще виски. Эй, эта бутылка пустая, «покойника» под стол! На столе пустой посуде не место, примета такая. Чтобы жизнь полней.
Шофер, спохватившись, спустил порожнюю бутылку, поставил ее на землю под ножку стола.
– Бать, а где же Витька Ступа, Володька Лихой?
Отец опустил голову:
– Нет никого.
По наступившей тишине застолья стало понятно: кто спился, кто потерялся в жизни. Нет детства и нет юности. Все проходит, особенно в нынешнее время…
– А все-таки, кого ты охраняешь, если не секрет? Генерала? Чего отшучиваешься, или в разведке? В госбезопасности?
– Круче бери. Генерального директора ЗАО «Термокор».
– Что же это за фамилия, или должность такая? Кто же он, какой нации?
– Нашей, батя. Наверное, нашей. Не уточнял. Это как если бы ты предколхоза своего Силкина охранял, – несколько тушуясь за явную глупость отца, «нетолерантность» его, попробовал перевести все в шутку Петр. – Какая разница, какой он нации, твой Силкин, лишь бы платил хорошо, приплачивал, а? Или нет?
– Та-ак…
– Ты чего погрустнел, батя?
– От кого же мне его охранять, председателя моего?
– Так говорю: от злых людей. А больше того – от бедноты нынешней.
– От бедноты? А я кто, а мать твоя? А ты сам? Или разбогател ты? Где ж твое богачество…
– Нет, но скоро разбогатею.
За столом приняли шутку, засмеялись, но как-то не весело, принужденно.
– А чего ж его охранять, Зао? Или он вор, или растратчик?
Петро с шофером опять переглянулись, засмеялись:
– А то нет?! Ты ж посмотри, как вы живете, посмотри сам, батя. И это жизнь? Денег нет, деревни нет, поля не засажены. Мы вон откуда, от Бастаново ехали – все пусто, шаром покати. На полях одни березки. Только ты один: «кузня да кузня», ходишь как заведенный, мать и та жалуется. После войны, поди-ка, так не было, а?
– После войны. После войны так и было. Только лучше: вера была. Каждую весну цены снижали. Да ведь и теперь война? Война, похоже, и не кончалась. Ты же вот воюешь, герой?!
– Воюю, батя. С дураками и патриотами, – пьяно и шумно вдыхая, раздувая ноздри с удовольствием, подтвердил Петр. – Воюю… То у хаты сижу всю ночь как собака, пока он с телками занимается. То у ресторана или казино, жду его, «папу». Если выиграет, то по тыщенке накинет, а проиграет – станет нервы трепать: курить одну за другой, орать не по делу. Я уже издалека знаю: руки в карманах, орлом глядит – выиграл. Если запнулся по дороге или на лестнице, то хайся, добра не жди. Так, что ль, Валера?
– А нам что, нас гребут, а мы крепчаем!
– Знаешь, батя, вот ты все намекаешь, что мне сладко. Оно так и кажется, конечно. А я так тебе скажу: и он, и все, кто с ним, – другой породы. Это раса кровососов. И я не только охранять, а сам задавил бы его, веришь, нет? Надоел. Это есть вампир. Сам суди. День у меня начинается в пять утра. Квартиру снимаю в Подмосковье, в Москве самой – дороже раза в три. Вот и езжу: на работу два с половиной, с работы – столько же. Или живу в офисе его, неделями. Он выкупил этот «офис», казенный. А знаешь, что это прежде было? Детский сад. У детей отнял, взятку дал, евроремонт сделал. Считает за свое. Пальцем, заметь, о палец – ни-ни, не ударил. А работа, знаешь, его в чем? Подряды московские перекупает на строительство – и перепродает. И еще в «Газпром» мотается. Все. А нефть, газ – они его, что ли? Вот она, работа: в семь ноль-ноль получаю оружие, тут все по-серьезному. Три «подснежника» – рации-малышки такие. К девяти подача машины. Часа два-три я жду его, когда он выйти соблаговолит. Звонить нельзя: разбудишь, что ты… Везем в «офис» – детский сад. Там ежедневно широкий стол. И вот наезжают. То из одной партии, то из другой. Конкретные люди. Только успевай вино подвозить. Потом до четырех-пяти дня мотаемся по охотничьим магазинам Москвы, по друзьям его или по медицинским центрам. А впереди еще ночь без сна и казино, рестораны. Один закроют – он в другой, в ночной. Однажды нищая подошла, «подай», а он – «бей ее»…
– И что, ты бил?..
– Другой раз напился он с дружком пьяным в ресторане и давай черной икрой с чайной ложки стрелять. Да и попал не тому. Опять я за него впрягайся…
– Нанялси – продалси…
– Ему ничего, а меня – в обезьянник. С бомжами сидел сутки. Вонь, чуть живой. А он пришел: «Что, не рад меня видеть?»
Шофер Валера, глядя во все глаза на Петра, вдруг захохотал.
– А ты не знал? Пришел – и хоть ручки ему целуй.
– Поп он, что ли? – Данила незаметно плюнул в ладонь колбасу сырокопченую, сбросил под стол. – И ты что, на его деньги этот харч купил? Неужто ручку целовал?
– Ты что, батя. Да я бы в горло ему вцепился, деньги нужны. И так выпустили, говорю же, шутка, ты что?
– А мы вот что, ни вашим ни нашим, давайте Машутке письмо напишем, ото всех нас, прямо сейчас, – вдруг предложила мать. – Я знаю адрес, сейчас принесу.
За столом оживились. Начали писать, говорить вслух, предлагать: «Нет, а давайте так»… Да все без толку: звонил и звонил мобильный телефон у Петра, не давал сосредоточиться, спорили. В наступивший в очередной раз тишине, повисшей после звонка, вдруг грозно и зло прозвучали слова Данилы:
– Так в чем же твоя работа, Петро?
Тут уже и мать не выдержала:
– Отстань, в кои веки приехал сын на побывку, достал, донял.
– Вот так, как теперь, звонки и звонки. Вот она и работа. Проблемы решаю, то в офис пошлет, то за телками… Сам ходит вот так, в золотых очках… Вот так ходит. Руки за спину, как по зоне. Или так, полы пальто распустит, не идет, а летит, как петух карманный. То за французским вином пошлет, то за билетами на самолет. Но вот если с утра с бокалом уселся за виски, то все, пошло-поехало. «Царская охота», «Медок», рестораны-казино. Но бабы все разные, понимает толк. Он забавляется, а мы с Валерой в машине – сидим-спим. Раньше выгонял на улицу, даже зимой, а потом ничего, привык… Она, телка-то, только вот так вот, откроет дверь машины, когда все сделает, сплюнет – и все. Как говорится, если хочешь поработать – ляг, поспи, и все пройдет. Верно, Валера? Врать не буду, работа не бей лежачего. На-ка, батя, я и вам с матерью деньжат привез. Ты что так смотришь, глаза выпучил? На-ка, мать, он не в себе от радости.
– Это кто же такие на них, – с интересом разглядывая голенькие, как лубок с весенней берестой, бумажки, спросила мать, – никак они повешены, гляди, горла-то как затянуты.
– Не повешены, мать. Это американцы. Президенты их.
– Ну-у, чаво есть-то… Мериканцы… Только у нас ведь, Петя, эти деньги в сельмаге не возьмут, нет.
– С руками оторвут!
– Ты на кого ж работаешь, если тебе американскими плотят? Он что, тоже из них, их человек, твой Зао Термокор, или он наш генерал, русский?
– Наш, наш, успокойся, батя, с шалавами он все играет, а я под дверями сижу, охраняю, такая работа. Не работа, лафа.
– А девки-то все, поди, молодые? – подал угодливый голос кто-то из гостей.
– Молодые… Детей любит. Нимфеток. Так и называет, люблю, говорит, их, сладенькие…
– Ладно, Петро, за тебя. За то, чтобы ты бросил свою работу, своего генерала и вернулся к нам. А то вот мать-то твоя задыхаться стала, еле ноги таскает, мехи-то качать…
– Купишь коровенку. Сенов наваляешь…
– К нам! Только к нам! – вдруг рявкнул отец. – К черту генералов иностранных и сенаторов! Где сокровища ваши, там и сердце ваше! – сдвинув брови, он так ударил в столешницу, что посыпались рюмки и плеснуло красным компотом из кувшина.
– Куда? В твою кузню, что ли? Да и какого генерала бросить, я и на войне-то и не был.
– Как не был, а медаль?
– Медаль? Фотошоп. Сейчас объясню. Программа такая есть на компьютере, «фотошоп». Да не ж…, а фотошоп, из Интернета. Любую фотку за бабки. Хоть с президентом, только плати. И работа, объясняю, не пыльная. Не навоз вилами бросать. Дипломатик, телефон, рация, пистолетик. Ну билетик купить прокатишься. В «Люфтганзу», в Европу, Америку или на Кипр билетик купить, и всё…
– Петро! Прокляну!
– Брось ты, батя. Век высоких технологий, наносистем, а у тебя свинья по сеням ходит, а дом-то – это не дом. Халупа. Поди-ка, по весне течет – живого места нет? Нет, я этот тост пить не буду. А лучше вот: предлагаю выпить за то, чтобы эту вашу деревню похоронили скорее, смели бульдозерами, а стариков дети в города повывезли. Пусть хоть под конец жизни поцарствуют.
В наступившем молчании соседка Нюра встала и, всхлипнув в ладони, вышла из-за стола. За ней поднялись еще двое.
– Валера, дай-ка там нашу, песни молодости, а то несут тут какое-то ретро, тоска!
Валера покрутил ручку, и из машины уверенно и мелодично затянул «Битлз».
– Приглашаю на танец, Надежда, – протянул руку Петр подруге детства. – Надеюсь, ты-то не как эти, отсталость, мхом поросшая.
– На лето приезжаю. А теперь останусь. Не смотри удивленно: кризис. В городе три завода – все встали.
– Корову заведешь, как мне советовали? Или все-таки козу, с ней полегче? На кол привязал, и того, отдыхай, любуйся видами.
– Не хохми, Петька, каким был, таким и остался…
– А я нет, я, Надюха, чтобы сюда жить? Ни за что. На три дня, шеф отпустил, и… только меня тут и видели. Чего смеешься?
– Молодежь танцует! Вся молодежь танцует! – Валерка выскочил, уронив табурет.
Петр так увлекся Надеждой, что, когда оглянулся, увидел пустой стол с недоеденной снедью, Валерку, справлявшего малую нужду тут же, под тополем, да старуху-мать, которая помогала отцу взойти по крутым ступеням в дом.
– И чтобы сегодня, сейчас же, – яростно неслось с крыльца… – Чтоб духу их тут не было, тьфу! Вояка! Я голод пережил, войну, но чтобы в холуи, в лакеи – никогда… Сенаторы! Президенты! Генералы! В услужении… всю Россию, а как же мы?..
– Уймись, уймись, неугомонный, ведь люди кругом, позор-то.
– Ну, батя, надрался… Хочешь верь, хочешь не верь, а я его таким вижу впервые. Староват стал, рюмки и той пить нельзя. Так ты тут одна, Надежда, а муж?
– Объелся груш, – слабо отбиваясь от ухажера, Надежда жалко скривила губы. – Давно уж одна. Оставайся и ты. Тост за это подняли, оставайся. Вместе козу заведем. Вместе и пасти станем. На кол привяжем, и за любовь, а?
– Так я к тебе приду на ночлег, а то видишь, батя-то выгнал меня. Молчишь?
Ветер шумно налетел, заиграл-запутался в тополе, посыпались-закружились сверху мелкие пахучие почки.
– Так что, остаешься со мной, или что, опять шеф, к шефу? Ну чего задумался, гадаешь: одобрит ли он твой выбор, шеф, или не одобрит? – подмигнула насмешливо, в глазах заиграли искорки.
– Шеф-то, он одобрит, ты в его вкусе, – вызывающе окинул взглядом Петро всю ее с головы до ног. – Шеф – он в женщинах толк знает. А все-таки насчет козы… вот тут есть сомнения.
Заботливая рука матери появилась из окна, торопливо поискала створку, стала затворять, а старик все буянил в доме.
– …И чтоб не ноги его, слышишь, мать! Перед всем народом! Так отца обмануть! Так подвести! – опять горячился Данила.
Упал с грохотом табурет, покатилось что-то со звоном, загремело. Кастрюля, что ли. Отец выглянул, отмахиваясь от Степаниды, едко заметил:
– А-а, вы еще здесь, работнички, Христа-про-да… – Степанида, одолев, утянула его в комнату. «Христа-про-дав-цы вы…» – неслось оттуда.
– Он с какого года, отец-то твой? – спросил Валера задумчиво.
– С тридцать шестого.
– Понятно. Военное поколение. Матросов, Мересьев, Гастелло. Родина, честь, слава… «Жила бы страна родная, и нету других забот…»
– Вот-вот. Вот он, истинный свет. Задурили голову им. Все сто лет так народ дурили: сутками, без сна, паши, как трактор, и все за вымпел или за почетную грамоту, вот у них мозги и свихнулись. А помнишь, Надька, как нам учительница декламировала: «…И, чтоб умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому дорогому, борьбе за освобождение человечества!»
– Ничего вам непонятно. И не поймете никогда. Островский, Корчагин. «Как закалялась сталь»… Надо было, Петя, и книжки читать тоже. А то ты все только в трясучку, на мелочь, да в пристенок… Наиграешь, бывало, полные карманы. Сердится отец-то, значит, есть причина.
Петя, прикуривая, прищурился:
– Вот ты училась, отличница, и что толку? Посмотри на меня и посмотри на себя. Ну что, примешь на ночлег или в машине ночевать нам?
– Иди ты… в машину!
Надя повернулась и бойко и гордо двинулась улицей.
– Иди, иди, да смотри не передумай… Тоже мне, цаца. Знаешь, Валера, сколько она мне крови попортила…
– Смотри, Петя. Какая, а… Не идет, а пишет.
– Не пишет, а рисует.
– А знаешь, Петя, что сказал мне ее взгляд? Он сказал мне: не учите меня жить, лучше помогите материально.
Степанида, усталая, простоволосая, с неубранными седыми волосами и с косынкой в руке, медленно сошла вниз по ступеням крыльца.
– Ну чего он там, отец-то? Не угомонился?
– Под иконой стоит на коленях и крестится. Ой, Петя, до чего страшно крестится-то. Медленно, широкие кресты кладет, а сам как каменный будто. Я знаете что, ребятки, я вам в баньке постелю, на воздухе, от греха. Ночи уже теплые. Я вам хорошо постелю, уютно, подушки у меня – пух в атласе. Вы вот только пистолет-то свой спрячьте подале. Спрячьте. Не обессудьте меня, старуху: уж больно зло крестится-то, истово…
Стегней и Варька
Он ходил от села к селу с дерюжной котомкой. Мастерок, молоток, паяльник, стамеска… – все это за плечами в сумке, а в руках кленовая палка с набалдашником.
Фамилию этого мастера на все руки никто в Рожнове не запомнил; имя, кажется Стегней, а все звали его: По Шее Пирогом. Прозвище пристало к нему с малолетства. Мальчишкой брал его отец с собой в отхожий промысел, – рыли новые и чистили старые колодцы, а зимой чинили посуду деревенского обихода, часы, клали печи, настраивали гармоники. Идут, бывало, по Рожнову, голосят:
– Колодцы чистить, рыть!.. – сипит горбатый Тихон, отец Стегнея.
А мальчонка семенит по правую руку и тонюсеньким голосом вопит:
– Ба-абы! Кастрюли-ведра паять-лудить!.. Де-евки, титьки золотить!
– Так, так, правильно… – одобрял Тихон, ухмыляясь в бороду. – Правильно! Ори пуще, громче, небось услышат – мигом примчатся!
Окна растворялись настежь, хозяйки несли в ремонт то, что по нынешним временам не годилось бы и в утиль. Тащили кастрюли, умывальники, часы с кукушкой… Тихон снимал с себя дерюжную сумку, Стегней раскладывал инструмент, и работали, да все с подначками, с подковырками над девками и молодыми бабами.
У горбатого Тихона в Рожнове была зазноба, как говаривал он порой. И если зазноба работала в поле или на поскотине, Тихон спрашивал: «Чтой-то я своей зазнобушки не вижу? Время обедать, а ее нет». Рожновские знали эту странную его любовь, посмеивались и, перемигиваясь, отвечали: «Ай соскучился? Придет, счас прилетит… Она знает, что ты явился, не задержится…» Тихон искоса посматривал на мужиков и баб, притворно хмурился и совестливо отворачивался.
– Малый, – говорил он Стегнею, – сходи-ка сам, позови мою зазнобу.
Стегней недолюбливал Дуню Лукину, не одобрял отца за дружбу с ней. Он вставал со скамеечки и нехотя шел, понуря голову.
– Живо! – торопил Тихон сына, и малый пускался со всех ног под грубый окрик отца. – Живо, ай аршин проглотил?!
Через считаные минуты с папироской в зубах прибегала Дуня, маленькая, никогда не рожавшая, почти квадратная бабенка с широким сонным лицом и красными рабочими руками. Она подходила к мастеру и, расставив ноги, загоняя цигарку в правый угол рта, говорила:
– Что же ты давненько не являлся? По слухам, другую нашел?!
Тихон молчал как убитый; он знал, что сейчас ревнивая Дуня, не стыдясь ни сына, ни рожновских, станет придираться. Начинался концерт: Дуню и Тихона обступали со всех сторон.
– Чево приперся-то? – срывалась на крик дерзкая Дуня, размахивая руками и выпуская сильные струи дыма через широкие ноздри. – Жрать, небось, захотел?
Не отрываясь от работы, как можно ласковее Тихон просил:
– Дуняша, юбкой потряси, пообедать принеси… – и лукаво поглядывал на сударушку.
– Вона! Принеси! – сплевывая окурок под ноги, разгоралась Дуня. – Небось, Фекла тебе шанек напекла! Слыхала я от людей, как ты в Лесном куролесил…
Между тем вокруг Тихона и Дуни сгущалась толпа. Раздавался хохот, подвертывались словечки, Дуня кипела огнем ревности.
– Тебе чево! – широко раздувая ноздри, упираясь руками в бедра, кричала она. – Чево на стол подавать, спрашиваю?! Щи? Кашу али пирог?!
– Давай пирог… – робея, отвечал Тихон, бросая работу и собирая инструмент.
– Ишь ты, пирог ему?! – обращаясь к народу, кричала Дуня. – Он тута! – и под общий хохот мужиков и баб она шлепала себя ниже живота. – Вот тебе пирог!..
Взрыв хохота оглашал Рожново. Приходили древние старики, старухи, качали головами, в толчею затесывались собаки…
– Чертовка! – ругался Тихон, пряча глаза. – Почто зазря ругаешься? Хоть бы малого постеснялась… Несешь и с моря, и с Дона…
– Вона! Малого! Малый у него, пятки назад! – отсекала Дуня. – Малый твой сам не промах, за словом в карман не лезет… Однова такую прибаутку мне спел под гармонь – печенка зачесалась…
Перепалка шла недолго. Тихон, чувствуя вину перед зазнобой, терпеливо выжидал, когда Дуня наорется вдосталь. Все, как правило, кончалось миром. Помогая возлюбленному собрать инструмент, бабенка лаялась все тише. Народ расходился по домам. И, взвалив на могучие плечи сумку Тихона, Дуня вела мастеровых домой.
Вечерами Дуня пекла и жарила, ставила на стол четверть самогона, а приготовив все, растворяла настежь окна и двери. Осадив четверть до дна, Тихон садился отлаживать старую хриплую гармонь русского строя, а Дуня, прикрыв стол от мух рушником, подсаживалась к нему, прислушивалась.
Развернув гармонь по локоть, мастеровой играл, а Дуня, обняв его, пела забористые песни. Изба наполнялась народом, в окна заглядывали, проезжие останавливали лошадей…
- …И-и-их!
- Пить будем! И гулять будем!
- А смерть придет —
- Помирать будем! —
и разводя мехб, притаптывая сапогами, распрямляя горбатую спину, Тихон тотчас подхватывал:
- Когда смерть пришла,
- Меня дома не нашла
- А нашла в кабаке,
- с полубутылкою в руке…
– Эх-а!.. – восклицали рожновские бабы. – Загудели голыши! Тут и богатый – не дыши… Осенью блинцы да сочны, а зимой – живи да сохни! Эх, Дуня, Дуня… Распутная бабенка… И не совестно перед людьми! Ишь, как наяривает, ишь, орет-то, стерва!
– А и Тихон ей под стать… – втурили мужики. – Профукает денежки – и зубы на полку… Эха-а… Малого жалко, ишь, сидит, сиротка…
– Тятька, уймись, будя… – слезно уговаривал Стегней отца. – Люди смеются, будя, помрешь…
Но Тихона уже трудно было унять. Он до хрипоты орал под гармонь, глаза его наливались кровью, гневом, а Дуня льнула к нему, липла, обнимала руками за шею и целовала, как мертвого, в лоб.
Утром, с тяжкой головой Тихон шел к колодцу, ставил ведерко на скамейку возле сруба и пил тут же, через край.
Проходившие мужики смеялись:
– Живой?
– Живой, – зло, сквозь зубы отвечал Тихон. – Это все она, не баба – яд! Сколь разов зарок давал, божился, клялся, а как к вам в Рожновку явлюсь, разговорюсь и с Дунькой непременно нарежусь…
– Любит она тебя, Тихон, – убеждали мужики, – ей-богу, любит… Дело бабье, вдовье… Ты бы не шатался по селам, а жил бы в примаках.
– Ну нет, – возражал Тихон. – Уж больно баба горяча. Сожжет она меня, дотла сожжет…
Принимаясь за работу, Тихон плохо соображал, стыдливо отводил глаза от сына. Стегней помогал отцу, просил:
– Не ходи к тете Дуне, тятенька! Попросимся к дяде Науму на ночлег…
– А и рад бы не ходить, а не могу, – отвечал Тихон сыну. – Мал ты еще встревать в мои сердечные дела, голуба душа. Ну, работай знай.
А потом, в полдень, он уже трезвый, весь в поту, тяжело спал под телогрейкой, уткнувшись в вонючий рукав.
Там, где больше платили, Стегней и с отцом клали печи быстро, под песню. Если платили мало, они мычали что-то грустное, и с их молчаливого согласия работа продвигалась в час по ложке…
В те далекие времена работы с металлом было много. Идет Стег-ней с точильным деревянным станком через плечо, звонко кричит:
– Ножницы точу и ножи-и!
Постоит, нехотя озирая дома, и плетется дальше…
Тихон брал за работу и сырым, и вареным – кто чем может. Водились у него и деньжата. Мастерство рождается с трудом, Стегней работал с охотой, обрел навык и мало-помалу овладел ремеслом редким и нужным.
Летом колодцы мелели, вычерпывались, забивались упущенными ведрами, обрывками веревок, обломками багров… Тихона искали по окрестным весям. И когда находили, везли его, высокомерного, чинного, как попа. В селе тотчас собирали сходку: посреди улицы ставили стол под сукном и скамейку; рядились, сколько платить мастеру и его подручному, чем он возьмет – натурой ли, деньгами ли…
Тихон – средних лет, с сердитым одутловатым лицом запойного пьяницы, – тяжко, с достоинством поднимался со скамейки и, в землю глядючи (он был горбат с рождения), глухо бубнил:
– Знычт так… Колодец глубок, вода – далече… На пятом метре плавун, на осьмом глина и прочее… Потому и положу… Знычт эдак… Сто целковых мне, четвертную мальцу моему, подручному. Харчишки ваши, магарыч тоже…
Временами из толчеи вырывался голос какой-нибудь старушки:
– Ой-ой, обдерет аки липку…
И Тихон, услыхав такие речи, вдруг поднимал голову и, залупив глаза, отсекал:
– Тише, бабка, не кукуй! Дай немому выговорить! – И тут – уговаривай Тихона, проси не проси – он помалкивал, клещами слова не вытащишь. Только глянет искоса, щурко поведет глазами по народу и опустит клокастую голову на клюку…
И все же мужики и бабы не расходились, ладились, таков был заведен обычай. Старухи ахали, поталкивали в бок неразговорчивых стариков: слыханое ли дело, сто двадцать пять целковых за какие-то два-три дня работы, да таких и цен-то нет, да на мирских харчах, да еще магарыч!
К концу сходки, когда уже речь шла про магарыч, из толчеи, работая локтями, пробивался к столу маленький юркий старичок, рожновский краснобай Наум Копейкин, прижимистый, сметливый и на халявинку выпить не дурак. Сверкая плутовскими глазами, он порывисто снимал с себя, с голого черепа, засаленный картуз и начинал издалека.
– Мужики! – потрясая картузом, выкрикивал он хриплым голосом. – Мужики!.. Слушайте сюда, мужики!.. Как, согласны нанимать Тихона за такую цену, ай нет?! Счас свои прынцыпы доказывайте, чтоб опосля кривотолков не было! А то я ладился, речь промеж вас держал, и меня же бабы ваши отлаяли, чуть с потрохами не сожрали… На меня одного бочку покатили, мол, Наум виноватый, он, дескать, рядился, а сам в кусты… Вот…
Бабы вспомнили тот случай, подняли гвалт, ор…
– Как же, тебя сожрешь! – выкрикивала Дунька Лукина. – Тобой, чертом, враз подавишься! Ишь как размазывает, слухайте его…
– Тише, Дуня, не ерепенься… – Наум боялся ее как огня. – Чево рот-то раззявила? Дело говори, не ори! Мужики, уведите-ка ее отсель. Гля-ко, залила зенки и орет! Уведите…
Мужики советовались со стариками, вспоминали, какие деньги в каком году платили за чистку колодцев, ладились и сбрасывались на магарыч.
– Дак как, мужики? Чево шушукаетесь там? Чего молчите-то? Ай языки коровы отжевали? – торопил Наум, а сам краем уха ловил шепот. – Согласны, ай нет?
– А сам-то как думаешь, Наум Сидорыч? И тебе, любезный, придется раскошелиться…
– Правда, говори-ка, а то все на ширмока да «на так» норовишь…
И тут надо было видеть Наума! Он враз прикидывался глухим, складывал заскорузлую ладонь подковкой к уху…
– Чевой-то не разберу… – и низко пригибаясь к Тихону, шептал: «Не сдавайся, форс держи…» Вслух же спрашивал мастерового, чтоб все услышали:
– А дешевле как, Тихон? Народ спрашивает.
– Дешевле?.. А спроси их, знают они, что колодец стоит столько, сколько влезает в него сторублевок?
– Ну-у!
– Вот и «ну». Гну! Мое слово – олово! – громко отрезал Тихон. – Не навяливаюсь. Не желаете энту цену – как знаете! Я вот сейчас посижу малость, покурю, шапку в охапку – и в другое село зальюсь. Там народ сговорчивее…
– Эдак, эдак… – шептал Наум Тихону. – Жми, дави… – и громко сипел, подняв голову на мужиков: – Видали, а он, мол, не хотите – как хотите! На своем стоит… Вот!
Со стороны можно было подумать, что Тихон не знает русский язык и говорит с рожновцами через переводчика Наума Копейкина.
Наум свое дело знал туго.
– Тут толкуй не толкуй, мужики, а сто двадцать пять целковых придется выложить из гасника, не иначе! Да харчишки, да магарыч… Мой сгад – согласиться. Многовато, конечно, но… – и тут Наум беспомощно разводил руками, украдкой подмигивая Тихону, как бы говоря, что дело состряпано, пора и кончать этот базар.
Бесстыжий, прожженный сукин сын, Наум Копейкин прикидывался простачком, рубахой, сам же гроша ломаного не платил мастерам, отделывался тухлой капустой, ржавым салом, самогоном. «Дешево и сердито… – говорил он своей строптивой и жадной старухе. – Пускай дураки деньгами сорят, а мы смердогончиком да закусью отмажемся… И мастер доволен, и сам возле него: сыт, пьян и носик в табачке… Так, матушка? – и постукивая указательным пальцем в свой висок, добавлял. – Тут, мать, не навоз и не мякина, а самый что ни на есть сельсовет…» Старуха смеялась в тон мужу, звала Наума отцом и одобряла его словами: «Вали, твори, супостат, делай, окаянный…»
На сходке жена Наума стояла в сторонке, сложив губы куриной гузкой, жадно ловила каждое слово мужа, глаз с него не спускала. И когда мужики собирали деньги на магарыч, облегченно вздохнула и помчалась домой готовить закуску.
Сходка еще не расходилась, в спор ввязывались бабы. И когда мужики уже ушли к Науму, все еще говорили о деньгах, считали, по сколько платить каждой хозяйке…
Между тем в пятистенном доме Копейкина уже пропустили «скупую», первую, потом – чтоб вода не портилась, а была бы «аки бабья слеза»… Много. Наум норовил, чтобы мужики меньше закусывали, все наполнял стаканы… По домам расходились с песнями.
Тихон уже не мог идти к своей зазнобе, куражился, сипя Науму в лицо:
– Я, брат ты мой, фартовый! У меня денег куры не клюют! – и, зная жадного до денег Наума и его хозяйку, вынимал из порток пятирублевку, сыпал в нее табак и закручивал в самокрутку.
– Што ты, што ты, опомнись! – притворяясь пьяным, сипел Наум. – Мать, возьми-ка у него пятерик, дай газетку… Не ведает, что творит. Готов, как есть готов, и лапотцы в сторону…
Стегней заливался слезами. День-деньской ходил он за отцом, уставал от шумной суматохи, сходки, споров… И так хотелось похлебать горячих щей, попить чайку вприкуску. А хозяйка, как нарочно, наливала пустые щи, наваливала чашку тухлой капусты, нарезала кирпичиками прогорклое сало, пропахшее кадкой и горелым ольховым листом. Приторно-ласковым голосом пела: «Кушайте, гости дорогие, чем богаты, тем и рады…»
В полночь стучала в окна Дуня и орала сиплой октавой:
– Ну, Тихон, только сунься ко мне! Ах ты, изменщик коварный! Ты мне что на ухо пел?! Приди теперь, я тебя угощу, чем ворота запирают!
– Ложись спать, тятенька! – уговаривал Стегней отца. Не открывай тете Дуне, драться будет… Ложись, голова бедовая…
Дуня Лукина стучала щеколдой, хрипло бранилась и уходила. И уж как мальчишка легко вздыхал, когда кончался ужин! Лез на печку, зарывался в одеяла и телогрейки и засыпал как убитый.
Так и жили отец и сын отхожим промыслом. Нынче здесь – завтра там, никто, верно, не знал их пути-дороги. Кормились сытно, а скитались по чужим углам. Одежонка по тем временам на Тихоне и Стегнее была хоть и не ахти какая богатая, но всегда чистая, крепкая. На ногах – сапоги с подковками, на плечах – ситцевые рубахи; портки они носили тоже синие, рубчиковые, – Тихон заказывал обнову и себе, и сыну на один манер.
В свежий погожий день на престольные праздники к Троице Тихона позвал Наум Копейкин угостить на славу, а заодно и расплатиться за ремонт самовара «чем Бог послал». Тихон и Стегней притащились обыденкой из соседнего села, смозолили ноги в кровь. И все же рады были столу с разложенными перьями молодого лука, крупитчатой каше с маслом, блинам, пирогам с вязигой. Хозяйка не поскупилась на этот раз, сдобрила и кашу, и блины коровьим маслом. Праздник был большой. Ужинать сели аж в сумерках, при керосиновой лампе, висевшей высоко под потолком и чадившей беспощадно. Тихон принял стакан, другой, пожевал хлеб с луком, но, уже наевшись, выплюнул. Глаза его замутились, моргал он медленно, сонно. А Стегней поталкивал отца в бок, подергивал за подол синей ситцевой рубахи, шептал горячо:
– Тятенька, не пей, сердешный. Не пей, завтра работать не сможешь. Не осилю я один-то весь скарб починить…
Тихон с помутившимся взглядом, ощеряя гнилые зубы, обнял сына и залился смехом. И, выдыхая из груди самогонный дух, вскидывая голову на Наума, выкрикнул слабо и трудно:
– Вот, Наум, друг ты мой ситный! Погляди на моего малого! Каков? А!? Кормилец-поилец мне, горбатому дураку, на старость… Дальше меня пойдет в колодезьном деле…
– О-о, хват…
– Хват! Ей-богу, хват! Самовар-то он тебе лудил, я не прикасался.
– Что и говорить, – в тон Тихону отвечал Наум, беспрестанно подливая в стаканы, норовя скорее споить гостя, чтоб тот не объел, – что и говорить. Мал золотник, а дорог! Вали, пей-ка, пей, Тихон – с того света спихан. Что ж задаром-то керосин будем жечь. Не ровен час и Дунька припрется, окна расколотит. Утром о тебе вспрашивала. Ни свет ни заря, а она, халява, уже на ногах. Ходит по селу: ляля тут – ляля там. Дура-баба, я тебе скажу, сердечно скажу: стерва…
– Не пойду к ней ноне, тяжел… Ай сходить?
– Не ходи, тятенька… – загудел Стегней.
– Сиди, коли пришел, – строго сказал Наум. – Пришел в гости – сиди…
Стегней ел кашу с молоком, устало заводил глаза, слушая пьяную болтовню Наума. Хозяйка сидела на лавке, скрестив руки на груди, думала что-то, временами исподтишка поглядывая на Тихона. К полуночи между Тихоном и Наумом завязался крупный разговор, и Стегней решил, что пора укладываться спать.
– Не пей-ка, не пей, по шее тебя пирогом! – со слезами на глазах упрашивал Стегней отца. – Душа должна знать меру… Глянь-ка, дядя Наум – тверезый, а ты – через губу не переплюнешь, налился… Ну, что ты, тятя, право? Как праздник, так чистое наказание с тобою!
– Ну, будя, малый, будя ворчать-то, – косно, еле ворочая языком и икая, отвечал Тихон, крепко навалясь всем корпусом на столешницу. Цигарка мастерового нещадно дымила… – Счас лягу… Бай-бай-бай…
Сердечко малого перепуганно билось, точно чуяло беду: Тихон встал со скамейки тяжко, не открывая глаз, закачался и тут же свалился под стол. Наум и Стегней хотели было перетащить Тихона в горницу. Не сумели. А хозяйка искоса поглядела под стол, злобно плюнула и ушла спать.
Рано утром, когда едва начало выкраиваться из мрака окно, хозяйка поднялась по нужде и глянула на Тихона. Тот лежал лицом вверх, раскинув руки на полу. Свернутая комом телогрейка под головой была в блевотине. Согнувшись вдвое, Дарья различила на ней кровь. Остекленевшими глазами Тихон смотрел куда-то в потолок. «Блевотиной захлебнулся», – мелькнуло у нее в голове, и лодыжки затряслись от испуга. Подбежав к Науму, она заорала дурным голосом:
– Наум, проснись! Пришла беда – отворяй ворота!..
– Что орешь, дура… – сонным голосом хрипло отвечал Наум и крутнулся на правый бок.
Срывая с мужа лоскутное одеяло, Дарья резко вскрикнула:
– Восстань, супостат! Тихона кондрашка хватила! Восстань, анчихрист! Ты его поил, тебе и ответ держать перед Богом и людьми…
Наум вскочил с кровати в исподнем, подбежал к Тихону, опустившись на колени, приложился ухом к груди мастерового. И с трудом вставая с пола, мелко крестясь на темный угол горницы, озираясь на окна, шикнул на Дарью: «Чево орешь как резаная, стерва! Ай я его неволил? Ай я ему в горловик заливал?! Чего рот-то раскрыла, народ собираешь… Я тут не виноватый…»
Стегней спал в чуланчике. Услыхав голос хозяйки, он открыл глаза и выбрался из-под накидки. То и дело хлопали двери, приходили шумливые хмельные мужики и бабы. Почуяв неладное, Стег-ней надел портки и рубаху, вошел в горницу, щурясь после темноты и напирая на толпу, и обомлел.
Люди, жадные до зрелищ, стояли тесным жарким кольцом. В примолкшем человеческом кругу, кидаясь на грудь отца, он отчаянно завопил: «Тятя, тятя! На кого ты меня оставил… Ой, головушка моя горькая, бедовая!» Бабы и старухи плакали, оттаскивали сироту от отца, но он рвался, лез, захлебывался слезами…
И остался Стегней не то нищим, не то изгоем…
Его приютила учительница. Отвела сироте уголок для книжек, столик и местечко, где держал он жалкие пожитки свои. Спал же на стареньком диванчике, продавленном до пружин. К осени Наталья Ивановна купила Стегнею кремовую рубашку и синие посконные шаровары – все это на свои сбережения, а перед тем, как идти в школу, расчесала ему волосы на прямой пробор – словом, все чин чином, только бы и учись. Да не тут-то было. Хоть и был Стегней переростком, старше одноклассников на два-три года, учился он из рук вон плохо. Билась, билась с ним учительница, тайком плакала, силой принуждала к грамоте – все напрасно.
С грехом пополам, через пень-колоду одолел Стегней два класса, просидев в них по два года. Перевела его Наталья Ивановна в третий класс. Ни читать бегло, ни писать толком Стегней так и не выучился. «Я эти книжки не осилю… – твердил он учительнице, совестливо опуская глаза и краснея. – Мне чево-нито попроще: паяльник, отвертка, клещи… Что толку сиднем-то сидеть? Весь зад я тут просидел, на заду сидючи. Пора свой хлеб зарабатывать, я уж большой…»
И Наталья Ивановна, добрая, радушная старушка, часами вела с ним беседу, читала про Ваньку Жукова, норовя привить вкус – ни в какую! Хоть кол на голове теши. На уроках Стегней – тише воды ниже травы. Тих, смиренен – воды не замутит – был он и на переменах. Ребятишки, бывало, толкнут его в бок, он очнется, как от сна, встанет и хлопает глазами на учительницу. Озорники подымут смех, а Наталья Ивановна горестно поведет глазами на приемыша – слезой обольется. Стегней и сам понимал, что смешон сверстникам, учительнице приносит одни огорчения. Кумекая своим детским умом, Стегней ничего не мог придумать, кроме того, как идти зарабатывать хлеб в поте лица. И вспоминая безграмотного отца своего, он, сидя за партой, вздыхал горестно и прерывисто. Лицо бледное, в глазах тоска смертная. От взгляда Стегнея у Натальи Ивановны сжималось сердце, невольно приходило в голову: «Уж не болен ли?»
И повела учительница Стегнея в райбольницу. Малого обстукивали, обслушивали, вертели за плечи и так, и этак… «Мальчик вполне здоров, может учиться», – сказали ей. «Что делать? – думала учительница, припоминая самых бестолковых учеников и работу с ними… – А может, и впрямь отпустить на все четыре стороны? Авось жизнь заставит ума-разума набраться».
– Что же нам делать, Стегнеюшко? – спрашивала Наталья Ивановна приемыша с отчаянием. – Как быть?..
– Чево?
– Работать хочется, скитаться по чужим углам?
– Ну да, по работе руки свербят… – гнусил Стегней. – Эх, бывало, с тятенькой – зальемся по селам, по деревням. Спасибо этому дому, айда к другому, и… только пыль столбом. Особенно весной и летом: идешь, бывало, полем, а жаворонки поют… так поют… и небо синее. Сядем где-нибудь, раскинем попону и часами смотрим в небо… Ни тебе арихметика, ни грамматика, а так – усякая усячина… Эх, вольная волюшка…
– «Усякая усячина», – вздыхая, повторяла учительница. – Говоришь как покойный отец… Что же, видно, собирать тебя надо в путь-дорогу. Ты хоть изредка заходи. Зайдешь ли? Рада буду. А коли надоест и захочется учиться, милости просим… Так не забудь же!
Взвалив ветхую дерюжную сумку на плечи, с батогом – от собак, ударился Стегней дорогами отца…
– Эха-а! Ищу клады старые, ношу портки рваные! – приговаривал он.
Все так же бродил проселками, все так же ночевал то здесь, то там, слушал ссоры, жил чужими жизнями… Одежонка на Стегнее была чистая, крепкая; стирал и латал он ее сам – выучился у отца малолеткой. И когда шли в Рожново, охотно ехал, останавливался у Натальи Ивановны, и тогда к дому ее сносили завернутые, в ворохах отрепьев – от ржавчины: ведра с промятыми боками, кастрюли и чаплашки для чистки.
Сам заходил в горницу одинокой старушки всегда бодрый, притомившийся и загоревший в дорогах. И прежде чем снять сапоги, раздевался, вынимал из сумки подарок: цветастый платок ли, шарф ли – без подарка ни разу не был.
Наталья Ивановна жила при школе, в казенной квартирке. Тотчас собирала учителей пить чай. Показывая обнову, старушка говорила со Стегнеем без умолку, очки сползали на кончик мясистого носа, и без конца набегала на глаза слеза, которую она то и дело смахивала уголком ситцевого платочка. «Ну зачем ты носишь мне это? Купил бы себе что-нибудь… Ты молодой, тебе надо нарядному ходить…» – «Успеется, – отвечал Стегней, – авось не жених… Вот зачну колодцы рыть – обнову справлю к зиме, будь здоров!»
Когда все расходились, учительница расспрашивала Стегнея о его работе, о жизни, уговаривала осесть в Рожнове насовсем, и, чувствуя теплый прием старушки, ее заботу, слыша ласковый голос, Стегней уже подумывал было последовать ее совету остаться в Рожнове, но нежданно-негаданно захворала учительница крупозным воспалением легких, и ее увезли в город. Потужил он и вновь пустился в дорогу.
– Ба-абы! Кастрюли, ведра чинить! – уже окрепшим, молодческим, неожиданно свежим голосом, покрикивал он, чинно, манерно откачиваясь на ходу. И стреляя глазами на девок, мило улыбался:
– Девки, титьки золотить…
Из года в год росла слава мастера.
Медная и оловянная посуда, лапти; кочедык, долота и струги – всем мог он работать, но главное – колодцы. Войдя в лета, Стегней вытянулся, окреп телом и духом. В плечах сух, в кости широк, глаза с прозеленью и блеском. Каштановые волосы струились из-под козырька, из-под картузика, ладно сидевшего на большой голове. И только шея была тонка в распахнутом вороте, совсем несоразмерна пышно вздыбленной прическе, – тонкая, зимой и летом загоревшая до черноты. Покрикивая и поглядывая зорко по сторонам, шел он твердой походкой, молодой, крепконогий, цепко держа обтертый посошок, подначивал девок. Выбегали стаи ребятишек-воробьят с криком: «Стегней идет! По Шее Пирогом пришел!» Вынимая конфеты, пряники, баранки, Стегней раздаривал все это ребятишкам, вспоминая свое детство, неумолчно болтал с ними…
Мужики и парни приносили часы-ходики, полные пыли и сухих мух; расстроенные гармоники мастер отлаживал с особым удовольствием. Бывало, настроит голоса, заменит басы, планки… И вдруг как-то неожиданно для всех собравшихся топнет сапогом, тронет на хромке и начнет отжаривать на все село.
Девок так и подмывало в пляс. Были в селах свои гармонисты, потомственные. Но куда им до Стегнея – в золотых руках мастерового гармонь не играла – выговаривала! Порой, отдыхая от работы, он пел частушки «зазывные, озорные и страдательные».
- Девки в озере купались,
- Я на камушке сидел.
- Девки юбки поскидали,
- Я зубами заскрипел…
В Рожнове Стегней бывал теперь только по срочным заказам: какие-то грустные думы накатывали при виде кладбища с покосившимися крестами и сытой листвой деревьев, когда он проходил мимо. И все же чем-то ближе были ему рожновские парни и девки. Может быть, потому, что учился с ними и знал всех наперечет.
Стегнея зазывали на вечорку в клуб, на посиделки, просили играть; он играл на хромке, пел и смеялся. А как-то раз проводил Варвару до дому. С тех пор присохло сердце Стегнея к девке, тянуло в Рожново пуще прежнего. Путешествуя далеко от Варьки, он с чувством радости, тайком от посторонних глаз, вынимал из бокового кармана пиджака носовой платок, читал – сердце радостно работало и сладко ныло от счастья. По углам платка Варвара вышила: «Дарю тому, кого люблю». И сразу вспоминал ее, все, что она говорила, стыдливая и гордая красавица. Заново переживал первый поцелуй… «Ах, останусь, останусь в Рожнове…» – приятно думалось Стегнею. И вот как-то ранней весной, когда снег сошел, а травка только-только проглядывала – свежая, молодая, ярко-зеленая, пришел Стегней в Рожново копать колодец. И пристрял к нему Наум Копейкин с просьбой: «пожаловать перекусить». И хотя Стегней не любил Наума, за его краснобайство, скупость и лесть, все же согласился. За ужином разговорились…
– Ты бы, голубчик, крышу мне подлатал, – говорил Наум малому, плеснув ему горькую. Стегней отодвинул стакан, замотал головой.
– Ай не пьешь? Жаль, жаль… А то бы хряпнули по черепушке. Отца бы помянули, земля ему пухом… Хороший был мастер… Ну толкуй, как живешь-можешь?
– Хорошо… живу, а что мне… Обут-одет.
– Н-да, с тобой, видно, не разговоришься, не в батьку пошел. Ну деньжонок-то, деньжонок-то скопил? Сколь, ежели не секрет?
– Зачем они мне?
– Как это зачем? – Наум залупил глаза от удивления, уставился на малого. – Деньги всюду нужны, чудак-человек. Даже в песне, я даве слыхал, парни пели: «Деньги есть – и девки любят, и с собой спать кладут… А денег нету – хрен отрубят и собакам отдадут…»
– Гы-ы-ы… – Стегней засмеялся, покраснел и совестливо отвернулся. – Гы-ы…
– Чево гыкаешь-то? – Наум сам ощерился щербатым ртом, показывая гнилые корешки передних зубов. – Чево смеешься? – не спуская с лица улыбку, продолжал он. – Эх, голова еловая твоя. Да разве так-то живут? Аки цыган кочуешь, все имушшество при себе, а проще сказать – одне портки… За работу не просишь, а берешь, что дадут. Так, друг ты мой ситцевый, не сколотишь деньгу про черный день. Не-ет! Вижу, учить тебя надо уму-разуму. Сколь годков-то стукнуло?
– Кажись, семнадцатый пошел… Не знаю точно, тятька метрики потерял, да и что они мне. Мое дело – работай, вкалывай, к примеру…
– Метрики, оне метрики и есть, не про них толк, – перебил Наум. – Я вот чего: годы-то идут и едут, дело молодое, женихаться пора, семьей обзаводиться, свой угол занимать, то да се… А на какие шиши, спрашивается? Слыхал я, что краля у тебя завелась, Фросина девка… Так, что ли? Она?
– Она…
Вопрос стушевал мысли Стегнея, он отвел взгляд и сгорал со стыда.
– Ну вот, видишь? И девка есть! Да какая девка! Кровь с молоком! Только вот что: Фрося не отдаст ее за тебя, потому как хозяйства не имеешь, а только шастаешь от села к селу, ровно сатана, ровно черт лапотный, согрешил я грешный. Оседло жить надо, помни! Не мотай башкой-то, не мотай. Подумай!
Минуту-другую Стегней думал, только с другой стороны: «А что? За десятки верст ходить к Варьке в Рожново – тяжко… Вольная жизнь, неволя ли – чем хрен слаще редьки… А-а, уж все одно…»
– Где осесть-то? – спросил наконец Стегней Наума.
– Да хоть бы и у меня. Места хватит – вон они, хоромы-то какие! Денег – копейки не возьму. Ну, само собой, что починить, пособить уж не откажешь, надеюсь…
– Да теперь и шататься-то не время, – вздохнув, сказал Стег-ней. – Отходит промысел. В колхозах свои мастера, у них инструмент – куда моему.
– Во! А я про что? А колодцы рыть позовут! – Наум даже потер ладони от радости, так он умно расставил сети: годы – к старости, детей нет, а в хозяйстве такой работник – ничей клад. – Дошло до тебя, Стегнеюшко! Слышь-ка, мать! – крикнул он жене, чутко ловившей каждое слово.
– Слышу, слышу, – как бы нехотя ответила Дарья. – Места хватит, за сына будет…
Стегней крепко задумался. Так круто ломать жизнь, все привычки, променять вольную волюшку нелегко. Знал он и то, что за здорово живешь Наум угол не отдаст… Вспомнилась Варька-краса: русоволосая, краснощекая, ядреная… Петь, плясать – хлебом не корми, первая на селе…
– Да как, мил человек? Согласен? Остаешься у меня?
– За сына будешь, как родной… – опять притворно радушно сказала из-за занавески хозяйка.
– Ладно, согласен, – проговорил Стегней. – Видно, чему быть, тому не миновать…
И осел квартирантом у Наума Стегней. Жизнь же пошла своим чередом. Бывал он на вечорках, игрывал на хромке и ничем не отличался от иных-прочих деревенских парней. И пошли по деревне разговоры: «Засушила Варька Стегнея, ремесло бросил, стал рожновским, коренным, тутошним…»
Засушила ли, нет ли, а с давних пор в левом кармане пиджака, как тайну, все носил Стегней платок, подаренный Варькой, с красной каймой и надписью, вышитой по четырем углам: «Дарю тому, кого люблю. Люблю сердечно, дарю платок навечно».
Каждый вечер, перед тем как идти в клуб, Стегней капал на платок духами, свертывал вчетверо и клал к сердцу, в боковой карман. «Я хочу жениться на Вас, Варвара Петровна…» – говорил он сам себе, а провожая Варю, краснел и молчал.
Как-то ранним утром Стегней провожал Варвару до дому. Расставались долго, целовались горячо. Фрося, мать Вари, увидела их, притулившихся на крылечке. Дерзкая, норовистая Фрося тотчас крикнула: «Варька, домой!» Варька шмыгнула в дверь. Стегней понуря голову пошел прочь, вдруг до слуха донеслось: «Ты, малый, за моей девкой не гоняйся, она тебе не пара!»
У Стегнея пот выступил от стыда. Надо было что-то сказать, ответить, поговорить с Фросей Трофимовной, может быть, тайком попросить, а он пробормотал пришедшее на ум: «Любовь не картошка, не кинешь в окошко…»
– Вона, любовь! – со свистом открывая певучие двери, бросила Фрося дерзко и зло. – Какая такая еще «любовь»? Портки прежде залатай да угол какой-нито подбери, а тогда про любовь потолкуем!
Стегней со всех ног пустился на квартиру. Наум отворил ему дверь. «Что случилось, малый, что случилось?» – бормотал он, шатаясь со сна. Стегней, не отвечая, лег спать и до восхода солнца глаз не сомкнул, все вздыхал, охал. Слова Фроси резали слух, сердце колотилось, лицо горело от обиды.
Год от года росла и крепла любовь Стегнея к Варваре-красе. И вот уже Стегней и дня не мог прожить без Вари. Купил новую гармонь русского строя, суконные портки, которые он носил теперь с припуском на сапоги, крепкие, несокрушимые, жарко насандаленные ваксой. На голубую ситцевую рубаху повесил галстук, хотя носить его не любил и называл «собачей радостью». На посиделки ходил он каждый вечер, в колхозный клуб заявлялся с гармошкой. Бывало, осенними вечерами накинет пиджак, надвинет новый картуз и с гармонью вышагивает к клубу, наигрывая и подпевая:
- Не садись на энту ветку,
- Голосистый соловей!
- Эта ветка припасена
- Для погибели моей…
Грустно было слушать такие песни, грустно становилось и Варе. Зато в колхозном клубе Стегней преображался, оживал, лихо отжаривал на гармони, а девки так и липли к нему, как мухи на мед. Если молодежь собиралась возле клуба, мимо проходящие мужики и бабы и те порой пускались в пляс.
Рожновцы по-своему любили Стегнея, ценили его тяжкий труд, а прозвище По Шее Пирогом пристало к нему не по злому умыслу.
Кроткого нрава, смиренен, непристрастный ни к табаку, ни к спиртному и – что пуще того поражало мужиков – не матерился. В горячке работы, случалось, дернет молотком по руке, да так, что небо с овчинку покажется. Иной на его месте не утерпел бы, заругался с солью, помянул бы и мать, и святителя… А он только скрипнет зубами от боли, поплюет на саднившее место, проговорит: «Ах, по шее пирогом! Как же это я так?!»
Рожновские мужики, меткие на прозвища, так и прозвали Стегнея – По Шее Пирогом – это была единственная зацепка позубоскалить над ним.
– Тебя как звать-величать? По документам ты кто? – спрашивали парни. Кто кличет тебя Стегнеем, кто – Степаном, а кто – По Шее Пирогом…
– Зовут-то? Правильно-то? – озаряя милой улыбкой кроткое простое лицо, отвечал Стегней. – А и сам не ведаю! Я не письменный, не хрещеный, а читаю по слогам. Мать-то родить родила, а назвать не успела – померла… Батька с горя запил, братцы мои, и чертил долго, потерял паспорт и мои метрики. С тех пор сам не знаю, кто я: Стегней, Степан или кто другой… – говорил он, не спуская улыбки с лица; зубы у него были ровные, белые, как кипень, при бледно-розовых деснах.
– Дак а кто же прозвище-то тебе присупонил? – приставали парни. – Уж больно нехорошо так-то обозвали…
– Пошто нехорошо? Пирогом-то? – пошучивал Стегней. – Нет, ничаво, сойдет… Это я, верно, сам себе накликал, уж такое у меня присловье, любовь к пирогам… Да что за беда? Прозвали и прозвали, нехай зовут. Пускай хоть горшком, або в печь не засунули…
– Да ведь тебе, небось, обидно, когда так-то назовут, особливо при девках?
– Ни капельки, ни вот столько…
– Ну-у? – не верили ему…
– Крест на пузе, не брешу, – отвечал запальчиво Стегней. – Оскорбляет не то, что слышишь, а то, что болтаешь. Если, скажем, лаешься как кобель или пыль людям в глаза пускаешь… пьешь, опять же… А так… что же тут плохого…
– Да так-то оно так, верно… – соглашались.
– То-то оно и есть! – с неотразимой логикой заканчивал Стегней.
Еще потому прилипло прозвище к Стегнею – любил он пироги с начинкой, а всего лучше – с маком. «Самая что ни на есть вкусная и пользительная пишша, – твердил он всюду, – самая сытная! Пироги со смаком, а к пирогу – какое-нито хлёбово: квас, щи, брагу медовую…»
А бродя по селам, работал он только за харчи. Не собирал сходок, не любил рядиться, многодетным и вдовам чинил посуду бесплатно. Да и чем им было платить? И чтобы хоть как-нибудь отблагодарить мастера, собирали вскладчину муку, масло, затевали пироги. И – так всегда бывало – вечером соберутся за столом, разложат пироги, ведут беседы о житье-бытье, вспоминают учительницу, Тихона… Стегней, не привыкший к большим сборищам, сначала совестился, ел скромно, отводя глаза в сторону, а через минуту-другую набивал полный рот, раздувал и без того широкие ноздри… «Люблю пироги! От них кровь густеет и шея толстеет…» Бабы смеялись, подкладывали куски пирога мастеровому, приносили квас медовый ковшами…
Ел Стегней за троих. И когда усердно жевал, у него шевелились уши. Молодые вдовы, озорства ради, подливали в квас настойку. И тогда в голове шумело, «густая» кровь Стегнея закипала бурным весельем; он тотчас бежал за гармошкой, широко садился на лавку под стать Тихону и, пристукивая коваными сапогами, наяривал забубенные мелодии.
Потеряв надежду на «руку и сердце» Варвары, затаил он тихую обиду на Фросю, стал нелюдим и уже ждал повестку в армию. Но беда пришла нежданно-негаданно: сверлил он в колхозной мастерской стальную плиту, торопился на свидание. Очков не надел. Вокруг сверла змейкой завертелась стружка, развилась, распрямилась пружиной и угодила в правый глаз. Выхлестнула.
Мужики, работавшие рядом, услыхали: «Ах, по шее тебя пирогом!..» Подбежали, разорвали исподнюю рубаху, перевязали глаз, висевший на одной страшной кровавой нитке, и так как больница была в соседнем селе – повезли в Озерное. Там добрых пять часов терзали его, но глаз вытек, и Стегней наловчился закрывать его хромовой шкуркой. И всякий раз прилаживая клочок шкурки к глазу, Стегней вздыхал: «Вот бяда так бяда… Жениться не женился и в армию не попал. Теперь к Фросе и вовсе не подступись. Эх, Варюша моя милая, глаза-незабудки, руки-лебедушки!» И отчаялся Стегней. А чтобы хоть как-нибудь сбыть горе, искал он сочувствия и дружбы у рожновских парней тех, которые тоже не годились для солдатских сапог: хромых, близоруких – словом, несчастных по судьбе и с рождения. Они как-то лучше понимали Стегнея с его горем, сопереживали его помыслам и потугам.
В селе знают друг о друге все: и хорошее, и дурное. Летними вечерами, когда сядет солнышко, собирались парни возле окон Наума погуторить со Стегнеем. Для трепу сходился весь излом и вывих.
Сначала советовались со Стегнеем:
– Помоги-ка, брат, По Шее Пирогом, завострить железку к рубанку. У тебя сельсовет-то вон какой большой и руки под брусок заточены…
– Чердак-то? – отшучивался Стегней.
Подпилок тоскливо оттачивал железо.
– Чердак неплохой. Шея для такого чердака слабовата.
И как-то сам собой разговор переходил на девок. Тогда калеки начинали язвить друг дружку с подковырочками; порой безобидная болтовня доходила до драки.
– Дела-делишки… – время от времени вырывалось у Стегнея, он хмурился и погружался в думы…
– Чтой-то ты, брат, По Шее Пирогом, все вздыхаешь, охаешь… – и, подмигивая друг дружке, добавляли. – Верно, Фросю никак не уговоришь, а?
– Фросю теперь ни один дьявол не уговорит. Не отдам Варьку – и конец!
– Не по себе колодец роешь, – говорил Лука. – Девка хороша, не нам чета… Что спереди, что сзади, а с лица и вовсе королевна. По совести сказать, и я сватался, все знают, да только без толку… От ворот поворот. Хороша Маша, да не наша…
Стегней хотя и знал, что Лука сватался к Варваре, но это признание Луки покоробило его, задело за больное. Он с трудом молчал, хмуро двигал бровями, хотел уйти, но тут в разговор встрял Акимка.
– Ну-у, начинается игра, значит, прятаться пора… Все та же песня: королева спереди, королева сзади. А по мне – девка как девка. Господи, расхвалили-то! Раскрасили! Вон Настя Козлова, чем не жена любому из нас? И не так уж вихляется, как эта Варька.
– Не спорь, Акимка, – перебил Лука. – Что зазря языком трепать? Любой скажет: у девки всё при себе! Верно, Стегней? Ты скажи, скажи…
– У Варьки верно, всё при себе, – отвечал Стегней. – Да вот у нас не всё при нас: я без глаза, у Луки обе ноги правые, Акимка видит только полсвета, да и то по-черному… Дела-делишки! – сахар на раны был ему больнее соленого.
И беседа принимала интимный оттенок. Лука, переламываясь в пояснице, опираясь на клюку, подходил к Стегнею вплотную и тихонько выведывал.
– Чево она тебе сказала, Фроська-то?! – густой дым, едкий и злой, валил из ноздрей и рта Луки. – Отказали, или что? Чево толкует-то?
– Толкует-то? А то и толкует, что и тебе: за Варькой, мальчик, не бегай, упования оставь при себе. Да ведь и то сказать: одноглаз, шея тонка, голова велика… Как в добрых людях Варьке со мной показаться? Аки смертный грех. Так-то, Лука. Хоть и соперник ты мне, а все же постой, погоди…
– Ну, тебе-то не откажет Фрося, – говорил Акимка, навострив слух, – баба, она баба и есть. Ныне одно – завтра другое понесет болтать. Волос долог, а ум короток… А ты ее обхаживай, Фросю-то. Не горюй, чудак-человек, – советовал Аким. – Ноне погребок отделай хорошенько, завтра – трубу поправь… Глядишь, и дело к концу, честным пирком да за свадебку… А Варька-то согласная, замуж-то?
Мастеровой ответил тихо, грустно, точно самому себе:
– Согласная, да не идет супротив матери.
– Эх, вишь ты, согласная! – вздохнул Лука. – Мне бы так, как ты, на гармони выучиться, я бы…
– Ну, коли согласная, дак и толковать нечего! Не будь дундуком, жми давай на Фросю. И сватов засылал?
– Ну, какое там, сватов, – отмахиваясь руками, ответил Стегней. – Она меня так отлаяла, мысли теперь не держу…
А в это время к подоконнику приладился Наум, навострил ушки топориком, слушал и мотал на ус… За горячей беседой парни и не заметили голого черепа Наума, да и сумерки нагрянули.
– Так, так… – думал себе Наум. – Время сеять, время жать…
– Сватов зашли, кого-нибудь потолковее, и вся недолга… – советовал Акимка…
И неожиданно заключил просто и кратко:
– Стегнеюшко, дай деньжонок на мерзавчик, у тебя есть, я знаю…
Стегней вытащил из порток деньги, не глядя сунул в руку Акима, но разъяренный Лука не дал тому взять.
– Это ты чему же науськиваешь-то, а? – заорал он, размахивая обтертой палкой. – Ты на какие такие дела направляешь Стегнея, черт слепошарый! А может, я тут для отвода глаз брехал про себя?! Может, она мне согласие дала, а ты мне всю малину обгадил, рыжий пес! – и разъяренный Лука, хромая и ругаясь, пошел прочь.
– Ступай, ступай, не проедайся, – вслед Луке отвечал Аким. – Хитер бобер! Обе ноги правые, а туда же… К Варьке льнет. К Катьке пристает. Лезешь в волки, а хвост собачий. Стегней-то мастер, а ты пустобрех!
Боясь скандала, в окно высунулся Наум, крикнул во всю глотку:
– Эй, малый, ужин простынет!
– Ну прощай, Акимка, зовут.
– Прощай, приходи на вечорку с гармонью.
После ужина Стегней долго собирался на вечерку в клуб. Причесывал волосы гребешком, смазал их подсолнечным маслом, приладил попрямей клочок кожи на глаз и вздохнул. Наум исподтишка поглядел на него.
– Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко. Хоть за курицу, а на свою улицу… Ты, малый, до утра не гуляй. Завтра работенка у нас с тобою. Как придем с колхоза, делов по домашности невпроворот станет…
– Да ну вас, дядя Наум, – огрызнулся Стегней. – Все у вас дела.
«Э-э, милый, – подумал Наум. – Вот и видать, что далеко зашла твоя непостижимая любовь. Видать, с рук тебя сбывать надо».
– Не плюй в колодец, – сказал он вслух, – пригодится воды напиться.
– Красно толкуете, не понять вас.
– Ладно, иди покуда, потом поговорим. Иди, иди.
Стегней взял гармонь, она вздохнула, поправил ремни и вышел на улицу. Темень – глаз коли. Дорогой он заиграл «страдание». И понемногу, одна за другой, клеились к нему девки, парни-подростки. В клуб ввалились весело, шумно.
Простая крестьянская изба-пятистенок была оклеена агитплакатами послевоенного времени. Девки бойко грызли семечки, орехи, сплевывая на пол. Под ногами хрустела шелуха, щелкала скорлупа. Стегней был грустен не в меру. Вспоминались разговоры с парнями и Наумом, злая Фрося не выходила из головы.
Красивая Варька, заметив тоску Стегнея, подсела, все поталкивала исподтишка локтем и что-то нашептывала; она не скрывала свою склонность, а в клубе привыкли видеть их вместе.
Шелуша семечки с удивительной ловкостью, озорная Варька торопила: «Скорее играй, По Шеюшке Пирожком, а то больно плясать хочется, ноги чешутся…» А Стегней нарочно долго смотрел на планки, мерил их пальцами, открывал крышку басов, задерживая взгляд на невесте…
Сидеть с Варькой было одно удовольствие, чувствовалось ее нетерпеливое ерзание по скамейке. Радостно слышался озорной шепот – слушать его хотелось без конца. Две тяжелые косы мотались на высокой груди; в глазах играл отблеск лампы. Когда Варька смеялась, на алых щеках ее, точно подкрашенных пастелью, показывались ямочки. Стегнею всегда чудился запах от Варьки – сложный, вкусный, нечто вроде парного молока. Она, не отрываясь, грызла семечки, шелуха собиралась под нижней губой клубочком. Она то и дело смахивала ее средним пальцем. От сложных чувств у Стегнея оживленно работало сердце. Он пробовал басы и голоса, а Варька с подружками мигом бросалась в пляску, как в холодную воду, пробуя пол на прочность каблуками сапог…
- Гармониста я любила,
- Гармониста тешила!
- Гармонисту на плечо
- Сама гармошку вешала, —
высоко и красиво пела Варька. От быстрой пляски кровь играла в лице, Стегней улыбался, налегал на гармонь всей грудью. И вдруг ни с того ни с сего заводил свою:
- Девки по лесу ходили,
- Любовалися на ель:
- Какая ель, какая ель!
- Какие шишечки на ней!
И в минуту девки и парни разбирались парами, вначале скованно, прикидываясь, что шутят, потом мало-помалу смелея, шли по кругу. Стегней подливал масла в огонь, отжаривал:
- Топится, топится
- В огороде баня,
- Женится, женится
- Мой миленок Ваня!
Парни и девки разом подхватывали:
- Не топись, не топись
- В огороде, баня!
- Не женись, не женись,
- Мой миленок Ваня!
В ту темную, теплую ночь гуляли до утра. Стегней был грустен, говорил мало и, что удивило Варьку, ни разу не поцеловал ее.
– Что ж все молчишь, Стегнеюшко? Ай уж сказать нечего? – обиделась Варя, взяла Стегнея под руку. – В клубе вон как наигрывал, а тут ровно воды в рот набрал… Ай разонравилась?
– Я бы хотел жениться на вас, Варвара Петровна! – выпалил Стегней. – Надоело прятаться. Хочу, чтоб все видели… Руку твою и сердце…
– Ну, наконец-то дождалась! – сквозь смех ответила Варя. – Да разве я против? Я бы хоть сейчас, да вот мать… Уговори ее, а? Ей про Фому, а она про Ерему: «А хозяйство у него отлажено? А корова, а поросенок есть?»
– А давай убежим в район, в жильцы. Я в депо слесарем пойду, а там и казенную квартиру дадут…
– Эх, Стегней! Рассуждаешь как малец какой. Да каким же манером я мать оставлю? На кого? Придумай что-нибудь поумнее. Ну, сватов, что ли, зашли… Наума Копейкина… И сам… Ох, не знаю…
– Выгонит! Сбила она мне охоту. Старое вспоминать – только душу рвать. Прощай, Варя, до завтрева… Не горюй, звезда моя, голубочка.
Дома Варя, не раздеваясь, сняв нога об ногу сапоги, упала ничком на кровать, воткнула голову в подушки и засопела. Фрося почуяла неладное, подошла, спросила:
– Чтой-то с тобою ноне, девка? Ай захворала?
– Не захворала… Мамочка, не желаешь ты дочери счастья, – прошептала Варька, заплакала и накрылась с головой одеялом.
– Ой, ой, – стоном стонала Фрося. – Ой, босяк, ой, Стегней! При-манул девку! Ой, обманом приманул…
– Да-а, мамочка, приманул-ул, – тянула из-под одеяла Варя.
«Я хотел бы жениться на вас, Варвара Петровна!» – чудился ей голос Стегнея, и она все плакала…
Утром Варька прибежала в мастерскую, отыскала Стегнея и, озираясь, поцеловала. Пахло от нее молоком.
Дыша мастеровому в лицо, спросила: «Ну что же ты? Что Наума не шлешь? Я с маманей говорила, она оттаяла!»
– Жить без тебя не могу, ночей не сплю! – с помутившейся головой скороговоркой отвечал Стегней. – Не согласится – уйду, куда глаз мой глядит.
– Дурак, дурашка, что ты, что ты…
– Тише, люди кругом…
И, пожав тайком руку Стегнея, Варя выскочила на улицу и опрометью помчалась домой.
Во второй половине дня Стегней пошел к бригадиру в «брехаловку». Тот писал что-то за грязным столом, жестом пригласил сесть.
– Ну, что скажешь? – не поднимая головы, спросил бригадир. – В отхожий промысел? Не пущу. Ты теперь наш. Понял? Работай!.. Наш!
– Нет, нет, какой там отхожий промысел… – Стегней смутился.
– А что же? Говори скорее!
Стегней глубоко вздохнул, помял фуражку, искоса глянул на бригадира, сидевшего вольно и важно в силу уверенности в себе.
– Сватать иду… Жениться надумал…
– Эх!.. А молчишь! Чья девка-то?
– Варька. Варвара Петровна Мотылькова…
– Это Фросина, что ли? Что ж, знаю, хороша девка. Однако помни себе: женитьба не напасть, да поженившись не пропасть. Ха-ха! Запомнил? Ну, вот так. Ступай сватай на здоровьечко. Да на свадьбу не забудь позвать.
Наум Копейкин ждал Стегнея, поглядывал в окно. На столе стояла бутылка водки под сургучом, а рядом – шмат сала, завернутый в чистую тряпицу. Наум разоделся как именинник: намастил сапоги, надел красную косоворотку, пиджак сивого сукна, а на череп уместил военную фуражку.
– Тошно ждать тебя, малый. Уж ждал-пождал, все жданки поел. Живее, живее! Дома делов куча, а ты резину тянешь. Надевай-ка что-то почище, и айда! Пошуршим-покумекаем…
– Откажет… – влезая в рубаху перед зеркалом, говорил Стегней. – Как пить дать на дверь покажет… Уж я ее знаю, Фросю-то…
– А я, мол, прошуршим это дело, обмозгуем. Штоб я бабу не уговорил – не было такого! Не робей, было ваше – стало наше… Ну, держись, Варька… За мной!
Мать Варвары сажала в печь хлебы и была не в духе: поскупилась, положила картошки в квашню с ржаной мукой, тесто не поднялось.
– День добрый! – с порога крикнул Наум. – Здравствуй, Ефросинья Трофимовна!
– Что это ты меня так величаешь? Чево приперся-то? – удивилась Фрося, вытаскивая из печи сковородник.
– Ну, сразу и брехать… Хорошая, понимаешь, баба, а бреховая…
Наум снял с себя картуз, повесил на гвоздик, погладил и пощупал голый череп. Не ожидая приглашения, прошел он в передний угол и сел на лавку.
– Что-то я Варвары твоей не вижу? Где она?
– А тебе зачем она? Варька-то? Говори скорее, некогда! Вишь, хлебы сажаю… Ты гляди-ка, уселся на лавку и молчит, от делов отводит!
Стегней в душе ругал себя, ведь это он затеял сватовство и попал в неурочный час. И хотел уже повернуть оглобли назад. Наум мигнул ему, сиди, мол, все будет мило.
– Э-хе-хе… Еф-ро-синь-юшка! – глазом не повел сват. Как всегда, хитро щурясь, выжидая, когда отойдет сердцем Фрося, продолжал. – Плохо без мужских-то рук, ой как худо! Ухватишко вот-вот отгорит, скамейка качается, разваливается. Покосилась дверь, висит на одной петле… Худо, худо…
– Отвяжись, пустая жисть…
– Хм, хм-м…
– Да ты об деле толкуй. Чево явился-то? Дело пытать али от дела лытать? – и чувствуя, что Наум пришел по важному делу, поставила ухват в угол, вытерла руки о передник и села на табуретку возле него.
В это время из дверей второй связи выглянула красивая голова Вари, и тотчас дверь затворилась. Наум Копейкин потеребил колено, искоса взглянул на Фросю и кивнул Стегнею:
– Малый, выдь-ка отседа на минутку. Да не в сенцы, а горницу ступай! Потолкуй там с молодухой, поиграй… Потребуешься – позовем. Ну, ступай, ступай, чево мнешься-то?
Стегней ушел к Варьке. У Фроси отвалилась нижняя губа от любопытства. «Что будет говорить этот прохвост?» – думала она, вперив глаза в Наума.
– Что ж, Наумушка, в чужой избе распоряжаешься?
Наум повел издалека.
– Он мне заместо сына, Стегней-то… Сирота. Некому примоловать, только обижать. Не след мне его отпускать, ох не след. А тут вижу: сохнет малый по девке, – он понизил голос до шепота: – Не ровен час, слышь-ка, руки на себя наложит. Ты подумай, какая слава-то о тебе пойдет… Даве толкует: уеду, гырьт, на все четыре стороны… И уедет, а что ты думаешь! Такой мастак, вся деревня загорюет! И загорюешь, ты что!..
– Вот сидит нахваливает, – проворчала Фрося, поджала тонкие синие губы. – Сватать, что ли, приперся?
– Во! А и умная ты баба, Ефросинья Трофимовна! Я всегда говорил: Ефросинья – баба-умница! Золото! Одначе что ж ты, милая, молодым поперек дороги встала, на кривой не объедешь, не обойдешь? Что малый одноглаз?
– Я малого не корю, малый – труженик… А только Варьке рано замуж, осьмнадцати лет, – вставая с табуретки, сказала Фрося.
– Ты сядь-ка, сядь… Молодая, говоришь? Хе! Молодая, а все хоть выжми, в самом что ни на есть соку… А сама-то ты старухой, что ли, замуж выходила, я помню!
Фрося хмыкнула, прикрыла рукой губы: добрая улыбка окрасила ее лицо, иссеченное от горя и тяжкой работы морщинами. Этой сорокалетней женщине можно было дать все пятьдесят.
– Шешнадцать было, когда просватали… – снова хмыкнула она, показывая кривые, гнилые зубы, точно высосанные леденцы.
– То-то вот и есть: шешнадцать! Девке замуж хотца, а ты встала нараскарячку— и баста. Молодые договорились, а ты уперлась. Сама знаешь: бабий товар скоро портится. Пройдет год-два – и крышка. Некому и посватать будет. И будешь с ней куковать, сухари грызть на печи. А не то… – тут Наум засипел шепотом и дико зыркнул на дверь горницы. – А не то притащит тебе в подоле, и корми… А что, не бывает? Вон Нюрка Агахина заугла́ принесла отцу-матери…
– Ну, ну, что ты…
– Оно, конечно, всяко бывает, – продолжал Наум.
– Я и сама стала об этом задумываться… Красота, она хуже воровства… Вчера так и сказала: «Не выдашь миром, так убегу!»
– Хот! Ну а я про что! Битый час толкую. Да ведь малый – золото, алмаз бриллиантовый. Орел!
– Малый хорош, – согласилась Фрося. – Да ведь у него ни кола ни двора, все имущество – одни портки. И у Варьки в сундуке хоть шаром покати… Жить-то как будут?
– Вона! Имущество ей сразу подай! Да у Стегнея руки волшебные. К чему ни притронется, все звенит и в деньги превращается. Колодец выроет – тут тебе и обнова, и корова. А на свадьбу соберем. Соберем, ты не волнуйся. Я с процентом дам…
– Наумушка, а ты что же его от себя отпускаешь? Ай не нужен уж?
– Как на духу скажу тебе, Ефросинья: все одно уйдет. А ин добром вспомянет дядьку Наума, – глаза его вдруг налились слезой. Он занес руку и поискал глазами икону, но не нашел, всхлипнул и продолжал:
– Виноват я перед ним, Бог свят, как виноват… А помощник-то у нас какой с тобой будет, Фрося… На вечные времена…
– Помощник! Руки золотые, а портки худые. Даве шла мимо мастерской, глянула, а у него коленки светятся. Мастерство́ хороша, а в кармане ни шиша!
– Да ведь почему нету? Пойми! Все бабы норовят задаром, за просто так. Ну принесут там яичек парочку, пирогом угостят. А у него нет смелости сорвать с вашего брата, робок, ей-ей, робок, вот грех. Я б на его месте – я б сорвал! Принесла чинить – плати! Поправить что-нито – плати. А как же! За работу платить положено, а вы все на халявинку, абы как… Вот бабы! И сами же обижаются…
– Прямо не знаю, что делать… Смутил ты меня, Наум, ей-бо, смутил, смутитель… Прямо не знаю… Оболтал…
Чувствуя, что Фрося отошла, сдается, Наум пошел в стремительную атаку: он вытащил из порток поллитровку, зубами раскупорил и поставил на стол.
– Поговорили – как меду поели. Слава богу, миром. Неси-ка, Фрося, что-нито зажевать. Промоем сговор, а то недосуг… Делу – время, а и дело-то давно решенное. Неси скорей, а то дома-де работы прорва, море разливанное…
Фрося, все еще раздумывая, утирая слезы краем передника, потащилась в кухню. И подавая на стол хлеб, огурцы, разворачивая тряпицу с салом, говорила тихо, жалостливо:
– Одна-разъединственная… Как отдать? Пойми! Оболтал ты меня, Наум, ей-ей, оболтал…
– Оболтал! Скажешь! Разъяснил просто. Я кому хошь разъясню, потому как чердак на плечах, а не возле поясницы… Полно выть-то, не за меня отдаешь, за малого. Я, может, больше тебя горюю, а виду не подаю. А что? Он мне заместо сына родного. Хлеб-соль едим вместе. Ваше здоровье. Х-ха… Крепка… Он вот к тебе уйдет, а я без него как без рук. Не отпускать бы… Эх, пропадай моя телега…
– Подождал бы с недельку, куда торопиться? Как угорели! – не отставала Фрося от Наума. – Дай подумать…
– Думать да гадать – дела не видать! – окорачивал Наум, жуя хлеб и соля его прямо во рту. – Чево думать, када молодые уже зацелованы. А то правда: принесет тебе в подоле…
– Да типун тебе на язык! Тьфу! В подоле, в подоле… Бога побойся, мошенник. Несешь с ветру, дурень щербатый! – Фрося мелко закрестилась.
– Это так, к слову пришлось… Ты вот вдовой-то живешь, легко ли?
– Не дай бог!
– Во!
– Хоть караул ори. Без хозяина дом – яма!
– То-то и оно-то! Утри слезы-то, утри, голова… Эй, молодежь! Подь сюда!
Из горницы вышли Стегней и Варька, румяные от стыда. Потупившись, смотрели на Фросю. Фрося вынесла из горницы засиженную мухами икону в окладе из фольги, вытерла ее передником и проговорила сдавленным голосом:
– Благословляю… Живите мирно, чтоб люди завидовали…
– Самое главное! Где лад, там и клад, – говорил Наум. – Кланяйтесь матери, кланяйтесь матери да в передний угол, под икону!
Молодые уселись в передний угол. Варвара с опущенными ресницами, расплетенными косами сидела неподвижно, точно окостенела. В избе было тихо, мерно стучали ходики. Стегней уставился в столешницу и был нем.
– А ты бы, мать, щец налила… – невнятно говорил Наум, старательно жуя и звучно сглатывая. – Плесни-ка ковшика два-три, похлебаем…
Фрося, как больная, потерянно побрела к печи…
– А хлебушка теплого, сват, – спросила она… Наум плескал в стаканы, посмеивался, отпускал такие словечки, что молодые рдели и отворачивались, как от злого ветра. Наум послал Стегнея за гармошкой. В избу собрались девки, молодые бабы, парни, падкие до гулянок… И, перекрикивая гомон толпы и гармошку, Фрося нет-нет кричала Науму:
– Вот охмурил, черт щербатый!
И до самой полуночи слышались по селу песни, молодые голоса, да томно вздыхали басы гармошки…
Свадьбу назначили к Казанской.
Чтобы заработать деньжонок к свадьбе, купить новую пиджачную пару, белую рубаху и сапоги, а невесте – подвенечное платье, жених работал за троих, с ног сбился, расхаживая по окрестным селам и деревням: паял, лудил, крыл крыши, правил печи… За неделю до свадьбы подрядился чистить колодец в середине села. Бывало, глянешь в тот колодец – сердце замрет, а крикнешь – эхом отзовется собственный голос и долго-долго гаснет в его черной утробе. Словом, колодец самый глубокий окрест…
Стегней вставал раненько, в ряд с солнцем, приходил домой в сумерках.
Жил он теперь у тещи. К полуночи выбившись из сил, Стегней падал на кровать, спал как мертвый, а то бредил во сне несуразное… Варька слышала его голос, кашель и осторожно целовала сонного.
За три дня до свадьбы, когда осталось вычерпать грязную жижу со дна и поправить нижние венцы дубового сруба, Варька увязалась за Стегнеем: пойду, говорит, помогу тебе. Хоть грязь черпать буду, наверх поднимать.
– Жар у тебя, Стегнеюшко. Вчера ночь криком кричал.
– Нам тесно будет, Варя, не ходи, – начал было уговаривать Стег-ней невесту. – Займись своими делами…
– Чем? – встряла теща. – Дела теперь у вас общие. А и делов-то палата. Нищему собраться – только подпоясаться! Иди, иди, Варя, с мужем, авось не слиняешь, поработаешь. Холодец я сама заварю. Была б коза да курочка, состряпает и дурочка…
Стегней и Варя переглянулись, захохотали. И решили, что надо закончить к вечеру всю работу. День выдался ведреный, жаркий.
Стояли июньские дни как по заказу. Молодая зелень набрала силу, кое-где уж отцветала сирень, ржавела и никла под солнцем. На улице стаями бегали голопятые ребятишки, пересыпались с крыши на крышу воробьи…
У колодца собрались мужики, какие остались от войны, – сцепляли веревки для спуска в колодец, настраивали бадью, тесали новые дубовые венцы…
Когда мужики узнали, что Стегней будет работать с невестой, удивились: ни одна девка еще не чистила колодцы. Спустили сначала Стегнея, стали готовить Варьку.
– Ну, Варька, держись! – шутили мужики. – На дне домовой сидит. Он девок любит…
Варя тоже отшучивалась, смеялась. На ней были старые-престарые штаны, заправленные с напуском в резиновые сапоги, голова повязана линялым ситцевым платочком, а на плечах – кофточка бежевого цвета. Мужики вязали лямки, петли, точно готовили к прыжку с парашютом. Варька, красивая, стройная, стояла не шевелясь. Ни старые портки, ни линялый платок, ни дырявая кофтенка – ничто не стерло девичьего изящества: прямой стан строен, на лице – румянец, высокая, легкая, грудь тугая. Косы она заправила под платок, уложила узлом…
– Стегней! – крикнули мужики вниз. – Держи свою зазнобу крепче! Да поглядывай!
– Слышу, слышу… – глухо откликнулся Стегней.
Колодец был широкий. Варька черпала ковшом грязь, наполняла бадью, кричала мужикам: «Тащи-и!»
Мужики тянули вверх вонючую жижу. Временами попадались обрывки веревок, ржавые цепи, истлевшие тряпки… Часам к двенадцати вода пошла чище. Стегней подгонял нижние венцы в «ласточкин хвост», подтёсывал уголки. Дело подходило к концу, работа пошла веселее. Стегней нет-нет да и облапит Варьку за талию, жарко поцелует в лицо.
– Уйди, нашел время… – ругалась шепотом Варька. – Мужики увидят, на то ночь будет… – А сама так и льнула к нему.
Вода была холодная, такая холодная, что у Варьки деревенели ноги. Она уже не черпала ковшом, а прямо бадьей. Работа продвигалась споро. Тут же говорили и о свадьбе, кого пригласят из родственников и подружек Вари…
– А не сходить ли нам в сельмаг прямо ныне? – спрашивала Варя. – Деньги у нас теперь есть…
– Я у Наума попрошу, – сказал Стегней, – тоже не откажет.
Задрав голову, Стегней увидал замшелый венец, ковырнул его носком топора. И в тот же миг посыпалась труха, обломок венца упал прямо к ногам вместе с кусками глины, рухнул весь сруб…
Мужики испугались, заорали, заметались у колодца. Сбежались бабы, старики, ребятишки. Кто-то глухо бил в ведро, призывая на помощь…
Когда расчистили, растащили колодец, было уже поздно. Варька лежала без дыхания. Черным пятном кровь запеклась на челе.
Грудь Стегнея вздымалась порывисто, с хрипом. Что-то булькало у него в горле, надрывая людям сердца. Изредка можно было разобрать: «Ах… по шее пирогом! Вот так… сыграли… свадьбу…»
Все смешалось в середине села: голоса баб и мужиков, визг ребятишек, плеск жидкой глины и плотный стук бросаемых друг на друга венцов из колодца…
– Прощай, Варя, – как последний вздох выпустил из груди Стег-ней. – Прости меня… Обвенчает нас мать сыра земля…
Смаргивая набегавшие слезы, он еще что-то лепетал. Минуту-другую колыхались его плечи и грудь, но уже судорога пробегала по лицу, стискивались и скрипели зубы.
Подкатили на дрожках везти его в больницу; вечером, перед заходом солнца, он умер…
Такого еще не было в Рожнове: хоронили молодоженов. Из избы Фроси вытащили один за другим два гроба, усыпанные летними полевыми цветами. Все село высыпало на улицу, провожали в последний путь жениха и невесту. А за селом, на кладбище были вырыты две могилы рядом. К двум крестам этих могил мужики прибили доску черного цвета с надписью: «Дай им вечную любовь, Господи!»
Теперь над могилами стоит могучий тополь. Кресты забоченились, эпитафию трудно прочесть… Но как свежа память рожновцев! Стоит только остановиться на минутку, к вам подойдет кто-нибудь из селян и непременно расскажет эту историю, историю жизни и любви мастера колодезных дел, как легенду, которая не умирает.
Балагур
С неба упало три яблока:
Одно – тому, кто сказки сказывал,
Другое – тому, кто сказки написал,
А третье – тому, кто прочитал.
Тимофей Круглов женился рано.
Под стать себе облюбовал он в Рожнове скотницу Наташку – крепкую, разбитную, веселую. Молодожены жили в новом брусковом доме, ходили на праздники под руку, как сказали бы рожновские жители, – «под крендель». Высокий, сухопарый, суетный Круглов от темна до темна стерег стадо, стрелял, как из ружья, конопляным кнутом с повивкой конского волоса.
За лето скотина выбивает выгоны. Осенью в поисках отавы Тимофей уходит далеко от села. Все ложбины, лесные куртинки пролезет, а овец накормит, напоит свежей водой.
Для Наташки осенняя пора – сущее наказание: чтобы отнести обед Тимофею, она долго ищет овечье стадо, бродит по оврагам и мелколесью в любую погоду.
– Тимоша! – кричит она, сложив ладони патрубком. – Ау!..
– Ого-го-о!.. – откликается Тимофей сиплым простуженным голосом.
Чапыжник царапает руки, цепляется за одежду, а Наташка, аукая на ходу, спешит на голос.
Круглов радуется приходу жены, светлеет лицом, веселее покрикивает на овец, собирает их на поляну. Приклонив колени, с трудом разводит костер, чтобы согреться, просушить портянки, пообедать в тепле. А рядом усаживается Наташка, ногами вперед. Вынимает из сумки хлеб, чугунчик наваристых щей и крупитчатую кашу – все это она раскладывает на клеенке, не торопясь, основательно, как дома.
– Пожуй со мной, – просит ее Тимофей, не спуская добрых ласковых глаз. – Ух и хороши щи! Прямо объедение! Со свежей капустой!
– Кушай, ешь вдосталь, а мало будет – еще принесу…
Наташка подкладывает Тимофею хлеб, думает свое…
Сырой осенний ветер дует порывисто, треплет развешенные на рогатине портянки. Овцы, понурив головы, сбились в кучу. Небо грозит проливным дождем.
Наталья обирает листья, падающие с куста на клеенку, окидывает взглядом из-под руки бесприютные дали и прерывисто вздыхает.
– Бросил бы ты пастушить, Тимоша, – говорит она тихим, вкрадчивым голосом, – бросил бы. Ишь как у тебя в коленках скрипит от простуды. И от голоса отстал, на овец орамши. Перебирайся на ферму. Истопником. И тепло, и крыша над головой, и…
Тимофей делает вид, будто не слышит жены. Сороки, качаясь на ветвях, трещат отсыревшими голосами. Круглов черпает из чугуна щи деревянной ложкой. С каким-то особенным наслаждением жует кашу. Наевшись, он увязывает в белую тряпицу посуду, кости и крошки вываливает собакам.
– Никак это не выйдет, чтобы, к примеру, бросить, – нехотя говорит он. – Сердчишко прикипело к полям. Тут мне и воля, и доля. Пахом – я с ним еще подпаском начинал – так говаривал: на свободе-то, хоть сам себе голову откуси, никто тебе слова не скажет.
– Пахом? Тот, что сказкам да байкам тебя выучил?
– Он. Эх, покойник, и мастак был на сказки. Бывало, заведет, заведет – про все на свете забудешь.
– Да и ты горазд, – улыбается Наташка. – Навострился у него, навык.
И затянув потуже платок, Наташа просит сказочку. Круглов докуривает козью ножку. Затягивается глубоко, до дна легких. Начинает издалека: «Жили-были дед да бабка, ели кашу с молоком».
– Раз сидят они на лавочке, рядышком, как голубки, как вот мы с тобой – такие-то. Только старые оба, лет им под сто. Старуха вдруг возьми и запой…
Тут Тимофей меняет голос и поет тонюсенько, как могла бы петь только старуха:
- Была б я легкой пташечкой,
- Умела б я летать…
– А старик был дошлый, сумрачный. Посмотрел на свою супружницу, и тоже запел:
- Беззубая ты, старая…
- Чем стала бы клевать?
Рассказывал Тимофей всегда с самым серьезным лицом, с тоном легкого недоумения в голосе. Ждал, когда Наташка отсмеется. И лицо, и движения его – все было вкус и мера. И может быть, поэтому Наташка пуще прежнего заливалась колокольчиком, запрокидывала голову.
Присказки, байки, пословицы и канавушки как-то скрашивали неуют серого дня с низкими, тяжелыми облаками, с облетевшими, продутыми насквозь кустами и свалявшейся по низинам блеклой травой-отавой. Наговорившись вдосталь, с веселым сердцем и чувством облегчения Тимофей вскидывал кнут, сухо стрелял им, выгоняя овец на свежую поляну.
Наташка спешила на ферму, додумывая на ходу рассказанное мужем…
Так жили они в мире и согласии лет двадцать – двадцать пять. Души друг в друге не чаяли. Но вот как-то пришло из города письмо от дочери: что-то не ладилось у нее там. Прочитали и решили: надо ехать. И уехала Наталья в город. Тимофей остался один как перст – смотреть за скотиной, поберечь дом. Да вот только задержалась что-то в городе Наташка. Все писала Тимофею длинные письма, обещала вот-вот вернуться, а не ехала. Затужил Круглов, загоревал по своей «сударушке». Раз даже собрался вслед за женой. Сложил пожитки, крест-накрест заколотил окна… Да что-то раздумал. А может быть, новое письмо в прах разбило его намерение. Время шло…
Вот в такую-то плохую его пору я и застал пастуха, приехав однажды в Рожново. Было это ранней весной. Повстречались мы на задворках. Шел он тихой походкой усталого, пожившего человека. Одет был домовито, чисто: на ногах крепкие яловые сапоги с ушками, на плечах – дубленый полушубок мехом внутрь, сам простоволос. Но как-то по-особенному смотрели теперь его глаза. Не грустно, нет, а как-то просто, мирно. И горькие морщины углубились у рта.
– На почту ходил? – спросил я.
– А то куда же! – с грустной готовностью ответил он и посмотрел пристально. – Ты чей же? Не угадаю.
Я назвался.
– Без жены-то дом – сирота, – продолжал Тимофей.
Я посоветовал ему вызвать сюда всю семью.
– Куда там, – слабо махнул он рукой, – и слушать не хотят. Сказано: жена – солнце, а дети… Эх-ма, дети – это… звезды. Так и живу, как обсевок какой. А я ведь поболтать люблю, рассказать что-нито.
– Сказки, я слышал, сказываешь?
– Сказки-то? Как же, сказываю мужикам нашим. Они ко мне чуть не каждый вечор валом валят. Приходи и ты, авось не соскучишься.
Освободившись от дневных забот, я дождался сумерек. Совсем стемнело, когда я шел к Тимофею. По улице брехали собаки, а у клуба, на ярко освещенной из окон проталинке, с визгом и гиканьем тасовалась молодежь. Играл баян, звенела, точно бубен, гитара.
Я свернул вправо, к дому Круглова. Лишь отворил дверь – в лицо пахнуло теплом березовых дров, тем приятным, с детства знакомым запахом каленых поленьев. Хозяин сидел на пятках перед грубкой – невысокой маленькой печью для обогрева горницы, сидел и помешивал кочережкой в топке. Низко светила лампочка. От грубки вдоль стены висели мокрые рубахи, носки, порты. Кочережка тихо позванивала об угли, дрова с шипением рассыпа́лись.
Не успели мы перекинуться двумя-тремя словами, как вдруг протяжно взвизгнула и хлопнула дверь, и с крепким топотом добротной обуви в избу ввалились рожновские мужики из тех, что любят послушать байки.
– Вечор добрый! Как живем-можем? – спрашивали они вразнобой. Сами вольно и широко занимали лавки. И по всему: по тому, как садились они, не спрашиваясь, как закуривали, как говорили, – тотчас было видно, что они тут завсегдатаи.
– Живем! – сразу повеселев, отвечал Круглов. – Жи-вем! Хлеб с салом жуем. Приход ваш к счастью…
– Дома сидели-сидели – скука смертная, тоска зеленая. Приперлись вот. Чай, не последние…
– А я у бабы своей просил на поллитровку, – говорил широколицый ноздрястый мужик. – Просил-просил – не дала. Иди, отвечает, к Тимохе сказки послушай, авось поумнеешь.
Общий смех заглушил его последние слова.
– Милое дело! – блеснул глазами Круглов. – А тебе бы, Никодим-ка, все вино да домино. Ну, так. Грубка нагрелась, сейчас и тепло пойдет.
– Давай-давай, начинай, – торопил Башлыков, – за тем и шли.
Это был высокий плотный мужик, широкий и важный, в клетчатой канареечного цвета рубахе. Он сразу уселся прочно, точно на века, подпирая плечами стену. Я исподтишка обвел глазами собравшихся и тотчас понял: он тут за старшего.
– Вали, Тимоха!
– Согрелись!
– Начинай.
– На море-океане, на острове Буяне лежит бык печеный. В одном боку нож точеный, в другом – чеснок толченый. Знай помалкивай, да кушай, да мои побаски слушай…
Голос Тимофея, глуховатый, чуть с сипотцой, все понижался, переходя почти на шепот. И надо было видеть, слышать, а главное – чувствовать Тимофея в ту минуту. Он как бы оживал, весь преображался, исподволь додумывая что-то, щурился на слушателей, словно по лицам и фигурам схватывал их настроение и, согласно с этим настроением, отыскивал в своей памяти нужное словцо.
– В некотором царстве, в ненашем государстве, жил-был лесник, звали его Иваном. Раз пошел лесник в обход поглядеть, нет ли где порубки, порчи или озорства какого. Шел он, шел, а уж смеркаться стало. Крупный дожжик начал щелкать Ивана в лицо. Ветер поднялся сильный-пресильный, лес гудит, аки в бочке, елки ходуном ходят, скрипят, веткой об ветку стучат… Жутко стало Ивану, страшно, а до дому еще далеко-далече. Тут и темень нагрянула. Ну, идет лесник, задумался, об жене соскучился. А жена у него красавица, высокая да черноглазая, словом, пух в атласе. Тут показалось Ивану, будто бы он заблудился. «Что же это я, такой-сякой, собак с собой не взял, авось не скучно бы было!» А молонья так и жгет, так и жгет, озаряет дорогу, как днем. Гром как вдарит, и раскатилось окрест по всему лесу. Еще больше струхнул Иван, чует: сердце дрожит, как овечий хвост…
Мужики нетерпеливо завозились на скамейке. Расстегивали телогрейки, стаскивали куртки, шапки. Круглов нарочно делает паузу, «подпускает». Искоса взглядывает на мужиков. Взглянет и молчит.
– Чтой-то я не пойму, Тимоха, сказку ты сказываешь ай правду? – проговорил Никодим, раздеваясь до рубахи и закуривая верченку. – Похоже, сказку?
– Да ты слушай, не перебивай, – Башлыков строго глянул на Никодима. – Вечно ты поперек дороги, ей-богу.
– Идет Иван опушкой, – снижая голос, продолжал Круглов, – идет поляной и видит метрах в пяти высокую сосну. Та сосна без вершинки. И ни веточки тебе, ни сучочка – все как есть грозой спалило. Лесник смотрит, до-олго смотрел – что такое? Тут не было дерева без вершинки. Глядь, откуда ни возьмись на самом верху показалась большу-ущая змея, кажись, в человеческий рост. Обжала сосну. Сидит помалкивает. Иван так и обмер. Однако снимает с плеча ружье, вскидывает, кричит: «Ах ты, злодейка, а ну, слазь оттэ-да!»
Гаркнул он так-то и сам не рад. Трясется, метится змее в голову, курок пальчиком потрогивает. «Счас, – думает, – я тебя дуплетом смажу, слетишь как милая». И вдруг слышит: «Ш-ш-ш», – змея зашипела, как гусак. Да… Зашипела и говорит бабьим языком, тонюсеньким и острым, как бритва: «Не стреляй мене, Иван Демьяныч, я тебе пригожусь». Собрался с духом Иван, отвечает: «А что ты мне дашь?» Сам все метится в голову, молитвы шепчет: «Запирающи врата спасительной рукой…» Слазь оттэда! Знай наших рожновских да не путай с осиновскими!.. «Печать Христа, печать Божьей Матери…» Слазь! Храбрая, значит?!» Змея видит, что дело сурьезное: укокошит лесник с испугу. Отвечает ласково-преласково, как шшекотливая бабенка: «Коли хочешь злата-серебра, видимо-невидимо дам. Сколько дотащишь». Иван Демьяныч навострил уши топориком и начал умишком раскидывать: на кой ляд ему это серебро? Куда его сплавить? Милиция узнает, пронюхает это дело и отправит в Колым-край. В сельмаге Нюрка-продавщица только медные деньги берет, а их не утащишь много. Задача!
Акулина, жена его, жадная-прежадная была. Ей сколько с получки ни отдай – всё в чулок прячет, а бабий чулок, известно, сроду не наполнишь, потому как вытягивается. Иван умишком был туговат, стоял, скреб в голове, думал…
«А хочешь все знать? – это снова ему, дураку, змея-то шипит. – Все будешь знать, что только ни пожелаешь». Иван опять зачесался – плохо до него доходило, через ноги. Ну, однако, кричит: «Я согласный, чтоб все знать!» – «Да ты опусти, дурень, ружье-то, положи на плечо, – усталым голосом толковала змея. – Убери ружье и ступай себе с богом. Да смотри в оба! О нашем уговоре не разбреши кому-либо. Ни гу-гу! Помни же! Коли тайну раскроешь, тут и помрешь в одночасье. Особенно Акульки своей остерегайся, дюже она любопытная…» – «Ладно-ладно, знаю я свою Акульку. Вот, учит жить».
Тут молонья как жиганет – и ослепила лесника. Поднялся ветер, прямо буря! Иван проморгался, протер глаза, глядь-поглядь, а змеи как и не бывало, след простыл. «Ну, уползла и уползла, ляд с тобою, – думает Иван. – Не больно и нужна была. Как-нибудь дотащусь до дому. Вон и тропа приметная». Пошел он ходко, дай бог ноги, а все оглядывается: нет ли змеи за ним. «А дай-ка я загадаю, – проговорил он вслух, – что такое мне Акулина на ужин сварганила?» И только он это молвил, рванул ветер, вздыбил ветки на деревьях. Молодая осинка склонилась к Ивану и нашептывает: «Акулина заварила тебе похлебку из требухи, да замешкалась и пересолила. А сосед Николай расселся на лавке твоей под иконами, как фон-барон, и хохочет. Акулина тоже смеется. «Муж мой, – говорит, – неотеса, пень дремучий, дурак косоногий, сожрет и пересоленную. Не мил он мне, не люб…» Никола, сосед, вьется вокруг нее вьюном, любовные слова толкует, всё целуются да милуются…» «Хватит, – крикнул Иван, – достаточно». И еще шире зашагал к дому.
Мужики захохотали все враз. Тимофей помолчал строго, затянулся дымом.
– А дальше-то? – добирался до клубнички Никодим, мужик ревнивый и злой на свою прекрасную половину. – Я б ее, стерву, поучил по-русски за такие амуры. Я б ей быстро подол на голове завязал!
Тимофей, пуская струями дым, пряча улыбку, продолжал:
– Пришел Иванушка домой, стучит… Николка услышал – и шасть в окно. Акулина отворила дверь, пустила Ивана, помалкивает. «Ты что, такая-сякая немазаная, похлебку-то пересолила? Что я буду есть? А Николай где? Что тут делал? По какому такому праву он к тебе шляется? Отвечай, кривозубая!» А жена: «Да ты спробуй похлебку-то. Откуда известно, что пересоленная?! И какой Николай? Никакого Николая слыхом не слыхивала, видом не видывала!» Сама руки в боки уперла, бровями двигает. «Брешешь, – наступает на нее Иван, – я твои шашни знаю! И куда сало прячешь, знаю, и сколько денег заначиваешь – про все мне теперь доподлинно известно!» Тут Иван сунул руку под матрац, достал капроновый чулок с облигациями и потряс им над головой.
Акулина, баба грудастая, с горкой нечесаных на макушке волос, трясет подолом, нахально играет скулами: не знаю, мол, про что толкуешь, а деньги на черный день берегу… Ну, однако, поорали, полаялись, угомонились. Акулина ночь не спит, все думает: «Откуда муж про все дела знает?» И захотелось ей пуще всего на свете узнать тот секрет. Стала она приставать к леснику, выведывать да вынюхивать. Правдами и неправдами, лестью и лаской, так и эдак – лесник знай себе помалкивает, рот на крючок. И вот раз Акулина нарядилась, как на праздник, завязала в узел все свои платья-наряды и говорит так грустно-прегрустно: «Ухожу от тебя, миленок, куда глазоньки глядят. Люблю тебя пуще жизни, а придется покинуть. Не веришь ты мне, не говоришь тайны, и сердце твое закрыто для меня навек». Да… Сказала так-то и стоит ждет. «Да пойми ты, дура-баба, не могу, зарок дал!» Лесник был смирный и любил свою Акулину несусветно. «Нет, муженек, прощай!»
Затужил Иван: что, как и впрямь покинет? Плохо ли, хорошо ли, а жили до сих пор. «Нет, – думает, – отпущать из дому бабу не след. Может, еще и смилуется надо мной змея-то…»
Пошел он в сельмаг, попросил у Нюрки четушку водки, хлебнул корец, а зажевать – ничуточки не зажевал, только хлебушка понюхал. Дома и говорит жене: «Знай, Акуля, помру я, коли секрет раскрою». А Акулина страсть какая любопытная была, дерзкая да напористая. Отвечает – уши режет: «Говори, косоногий, в последний раз прошу. Узелок готов, юбки, платья и платки – все тут, все забрала. Пойду искать счастья по белу свету, авось полюбит кто-нибудь и меня, горемычную!» И заплакала, запричитала.
«Эх, головушка моя горькая, судьбина лютая. Делать нечего, надо рассказывать, – прошептал Иван. – Дай мне, жена, хоть в банешку сходить, исподнее сменить да в гроб лечь». А та и рада-радешенька. Приготовила Ивану белые тапочки, исподнее из сундука. Приоделся Иван, приготовился к смерти. Лег в гроб, руки косым крестом сложил.
– Оттак от, – Тимофей показал, как лежал в гробу Иван, – и поглядывает на Акулину, глазами хлоп-хлоп.
Акулька слезы притворные вытерла, села в возглавии, ушки на макушке, харю скосоротила, губки крашеные сердечком сложила…
– От стерва! Надо же! – сжал кулаки Семен Балков, мужик молодой, красивый какой-то цыганской красотой. – Все приготовила?
– Ну да, все как есть. Села и ждет. Все чин чином: и штаны черные, и руки Иван вот так вот сложил…
Тимофей и тут бил не в бровь, а в глаз. Он показал, как у лесника были сложены руки, косая нога в белом тапочке выкинута из гроба, а глаза скорбные-скорбные, – все он примерил, как это было.
– Да… Лежит Иван в гробовой колоде и думает… А помирать-то кому же охота. Как ни горька житуха, а все лучше, чем на том свете. К тому же помирать из-за пустяков, из-за бабьего любопытства – последнее дело. «Ну слушай, – говорит он Акулине, – двум смертям не бывать, а одной не миновать». А дверь вдруг возьми да распахнись от ветра. И ввалились в избу куры. Петух квохчет, не пускает их от порога. Одна наседка, белая такая с подпалинами, шагнула было дальше, петух раз ее в темя, клюнул. Иван поднял голову с подушки, смо-отрит, впристаль так смотрел. И говорит своей бабе: «Глянь-ка, садовая голова! Петух и тот хозяин на птичьем дворе, порядок в курином семействе наводит. А я тут кто? Можешь ты мне отвечать? Чего рот-то раззявила?» – и с этими словами выскочил он из гроба, хвать Акулину в охапку и давай ее вместо себя в колоду тискать. Толкает он в гроб Акульку, а сам нашептывает: «Змея, а змея, все ли я так делаю, все ли ладно?» А она ему шипит в ухо: «Так, Иван Демьяныч, так ее распротак! Жми, дави ее пуще прежнего, лучше любить будет». Акулина орет дурным голосом: «Ой, Ванюша! Отпусти ты мене, за-ради Бога! Открой крышку, дай воздуха глотнуть. Сало на чердаке под вениками, деньги в чуланчике – сам знаешь. Возьми сколько хочешь, хоть все. Ой, помру-задохнусь. А Николку и на дух к себе не подпущу. Ой, пусти! Пусти же, тут тесно!»
Мужики засмеялись:
– Молодец Иван, проучил Акульку.
– Молодец, чего там!
– Хват-парень!
Тимофей продолжал невозмутимо:
– Жалко стало Ивану, хоть и заполошная баба Акулина, а сердцем присох к ней. Открыл он крышку, выходи, говорит, выходи да будь человеком. Акулина полезла к нему на грудь. Целует, милует, прости, мол, муженек, меня неразумную. И стали они жить да поживать и добра наживать. Я разок пришел повидаться, они зачали целоваться, а в другой раз забрел погреться, они начали… Всё…
– Всё? – удивился Никодим. – Ай да ловко! У меня теща такая-то: любопытная – ужас! А язык – это не язык, а нож острый.
Посидели в молчании минуту-другую. Тимофей пошевеливал кочережкой в грубке, собирал в горку жар – рдяные угольки. Чувствовалось, что не всех проняла его сказка.
– А то вот еще, – сказал он и подсунул дымящуюся кочергу в колосник. – Мне Пахом рассказывал, давно это было… В одной жаркой-прежаркой стране жил-был прынц-султан-хан. И был он знатен и богат. Денег – куры не клевали.
– Много, значит, денег-то было? – съязвил Никодим.
– Ну толкую же: куры не клюют. Ты слушай, не перебивай. Ага… Так вот. Прынц этот овдовел рано и жил один, как вот я теперь такой-то. Дочка, правда, с ним была. Они, жены-то, были, конечно, только не настоящие, а так себе, из гарема, мамошки. А что в них толку? С одной день поиграет, с другой ночь… Сорок штук их было! Одна к одной – все красавицы писаные, а все не то. Дело у прынца шло к старости, белый день – к вечеру. А старому человеку, известно, девки не к рукам, хуже, чем варежка на ноге. Дочка же была от жены, хоть и некрасивая, а любил ее прынц, пуще жизни: была она схожа и лицом, и сердцем на покойную свою матушку. Прынц подыскал ей жениха знатного роду, богатого – словом, голубых кровей. Вот. Покалякали они на своем языке, наметили срок свадьбе, тут дочь возьми и заболей. В горле у нее что-то хрипело на разные голоса, а потом и вовсе перестала говорить, онемела, горемычная.
День ото дня хуже и хуже становилось дочери прынца. И ни слова сказать, ни поесть, ни попить – хоть плачь. Прынц согнал всех своих докторов на консилиум, ан не тут-то было: поглядят, обступят, общупают, с места на место поваляют, а в чем дело – никак в толк не возьмут. Одне твердят – рак, другие – чахотка. Осерчал на них прынц, заорал благим матом: «Слуги, всех докторов в тигулёвку, в холодную! Пущай там подумают!» Докторов повязали по рукам-по ногам, в кутузку повалили. А толку что? Дочка-то болеет, вот-вот помрет…
Раз вечером слышит прынц песню не песню, стих не стих, а так, орет какой-то архаровец во всю ивановскую: «Травушкой-муравушкой да полынью-матушкой, хной и хиной все недуги лечу!» Тянет так-то, а сам из наших краев, русский. И жарища ему – страсть! Разомлел, запотел, взмок, сердешный. Услыхал прынц, посылает слуг: «А позвать сюда лекаря! Я с ним сам потолкую!» Притащили мужика силой-неволей, толкнули взашей, поставили перед султан-ханом на колени. Тот и спрашивает: «Ты откуда такой молодец мужичок сюда выискался? Что умеешь? Чего орешь?» – «Я, – отвечает знахарь, – из тридевятого государства. Лечу людей колодезной водой, дурной глаз и болезни снимаю. Да вот дюже жарко тут у вас…» – «А можешь ты, сукин сын, мою дочку от гибели спасти? Коли поправится – оженю тебя на ней, и вся моя власть – твоя власть, и гарем в придачу. А не вылечишь – вот секира, вот мой меч, твоя голова – с плеч. У меня не заржавеет!» Знахарь враз похолодел, точно на него ушат воды вылили, стоит перед прынцем ни жив ни мертв от страху. Стоит и так кумекает себе: «Зачем же я, дубина стоеросовая, орал так громко, надо бы потише. Как я ее вылечу, чем? Ох ты, боже мой». Думает, а сам все поглядывает на прынцеву охрану, на дверь – как бы деру дать…
Тут Круглов примолк, выждал время, снова закурил и скользнул взглядом по лицам мужиков. Те сидели широко, смолили много; дым к потолку – коромыслом. У Башлыкова даже губа отвалилась, ждет, что с лекарем будет. Никодим всем корпусом откинулся к стене: один локоть на подоконнике, другой – подпирает колено.
– Думал он, думал, – продолжал Тимофей, – прышш-то этот, знахарь-то, и решился: «Или грудь в крестах, или голова в кустах… Эх, помирать, так с шумом, с треском!» – и спрашивает прынца, нахально раздувая ноздри: «А можно мне на вашу дочку глаз положить, обсмотреть то есть?» А прынц ему: «Отчего же нельзя! Очень можно. Дочка там, в палатах. А у тебя, знахарь, шея крепкая ли?» – «Прикажите всем удалиться из покоев, а меня в ее апартаменты допустить. Счас я ее вылечу…»
– Это куда же он рвется-то? К принцессе? – удивился Вадим Соколов. – Ну, Тимоха, загну-ул!
– Вот чудак-человек, не верит! – тонким голосом воскликнул Круглов и плутовски подмигнул остальным. – Она же с постели не вставала, отощала. Ни встать ей, ни сесть, ни понагнуться – ровно аршин проглотила. Ты гляди, что дальше-то будет, не перебивай, а то осерчаю.
– Ну-ну, вали, доказывай. Слушать буду.
– Закрыл знахарь дверь за собой, поглядел на прынцессу зверскими глазищами, засучил рукава по локоть и полез к ее лицу. Она смотрит на него, с испугу-то, рот перекосила, глаза запухли – не моргнет, красные, как у селедки в нашем сельмаге… Хотела вскочить – ноги не шевелятся. Лицо желтое, зеленое, зубы большие – словом, мертвое тело и больше ничего. Знахарь как зарычит на нее: «Из-за тебя пропа-даю, стер-рва!» – цап ее за горловик и давай мять-приговаривать. Прынцесса-то с испугу совладать с собой не может, рвется, бьется, наконец, того, как завизжит на своем языке: «Помогите! Караул!» И только она вскрикнула, услыхала свой голос, зарыдала от радости. Шутка ли, вовсе немая была, под себя ходила, а тут заорала. Слуги сбежались с секирами наголо. Явился султан-хан, все рады-радешеньки. Прынцесса руки у знахаря целует, доктором его величает. А какой он доктор, самый что ни на есть плут и обманщик. «Вот какая удача тебе, Иван! – думает знахарь. – Взяла да и вскрикнула. Теперь и голова моя будет цела. Вовсе молчала, а тут залопотала. Вот счастье-то!» – «Эй, слуги! – крикнул прынц. – Повелеваю на стол вино-закуски ставить. Угостить на славу добра молодца. Он устал и хочет вина попить. Ты, лекарь, покушай, отдохни малость, на тебе лица нет». А знахарь, хоть беда и стороной прошла, все еще успокоиться не может, все поджилочки у него говорят от страха. Сел он рядом с прынцем за стол, пьет вино, ест шашлык. А еще жарче стало, страсть какой зной навалился. С него пот кап, кап на скатерть. Выбирает знахарь что покрепче да позабористей. Вина и закуски видимо-невидимо. Он глазами хлоп-хлоп, стаканами чайными дорогое вино дует. Слуги вокруг стола винтом ходят, снуют, тащат то одно, то другое. Пригласили танцовщиц. Девки молодые, босиком, одна к одной, как вишенки, все поют, танцы живота танцуют. Гарем – это по-персидски, а по-русски – бардак… Кхе… Кхе… – Круглов притворно закашлялся, повел глазами на самого придирчивого слушателя, Вадима Соколова.
– Так распротак-то! Меня там не было! – неожиданно для всех пробасил вдруг Башмаков.
Все обернулись к нему. Он что, сдурел, что ли? Это же сказка, а проще говоря – выдумка.
– Меня там не было! Вот бы затесаться! И водка была?
– А то как же! – не моргнув соврал Тимофей, довольный, что пробрало-таки мужиков и «кипишу» не миновать-стать. Засмеялся. – А то как же! И водка, – повторил он, – чистая, как божья слеза. И это еще, вот… шимпанское. Иван им ром запивал.
– И закусь? – спросил Никодим, жадный до еды; без доброй закуски он даже в мастерской не пил.
– И закусь на ять! Шашлык, холодец рыбный со щурьбою – все чин чином!
Тимофей подумал минуту-другую, помолчал, трогая рукой губы, чтобы не рассмеяться: «Это вам не наш брат. Прынц, он прынц и есть».
И мужики закипели кипнем. Стягивали с себя шапки, телогрейки, распахивали воротники рубах. И хотя дома сказали, что идут к Тимофею «погуторить часок», – перекорам не было конца, добрались до истины. Сенька Колышкин не мог понять главного, откуда в жаркой стране взялась русская горькая, шампанское и щурьба…
– Профан! Дуралей! – орал Сеньке в ухо Башмаков. – Бестолочь! Ты газеты читаешь ай нет? Мы же торгуем со всеми странами!..
– Да это когда было-то! Когда! Подумай!
Круглов нарочно подпустил и русскую водку, и щурьбу, которую любил до страсти. Мужикам многое было непонятно. Никодим схватил Башмакова за рукав, их уговаривали расстаться, в конце концов усадили по разным концам скамьи. Между тем Тимофей смаковал, додумывал. Выдумщик, он знал, что ссоре не быть, и терпеливо ждал, когда мужики утихнут, перегорят.
– Водку в этих странах не пьют, – заключил Никодим. – Там жарища – страшное дело! С похмелья морда треснет. Голова треснет, как переспелый арбуз.
– И я про то же! – согласился Ванька, отирая с раскрасневшегося лица пот. – Дураку ясно: там сухое жрут, кислятину эту. Я раз искал-искал водку с получки, и туда и сюда, и у Нюрки клянчил – нету, хоть ложись и помирай. Нюрка говорит: —жри сухое, я и начал лакать прямо из горлышка – вода водой. С полведра выпил, ни в одном глазу. Пришел домой, баба рада-радешенька: с получки, а трезвый. А меня так и мутит, так и крутит с кислятины, кишка на кишку войной пошла.
– Да будет вам, архаровцы, – урезонивал Башлыков, мужик степенный, некурящий, непьющий. – Далась вам эта водка. Дайте досказать человеку. Вали, Тимоха, толкуй. Чем дело-то кончилось? Не сипи, Никодимка, слушай! Сядь, сядь! Ну чего ты окрысился?
– Правда, чего ты, Никодим, взбеленился-то? Пришел слушать – сиди, – мужики свалили все на Никодима и угомонились-таки.
– Сидит знахарь за столом, жует так, что за ушами трешшить и в брюхе пишшить, – продолжал Тимофей байку. – И так нагрузился, напоролся, рассолодел, что чуть не уснул за столом. Растолкали его. Поднял он головушку буйную, глянул прынцу в лицо и говорит со смелостью пьяного: «Пойду я домой! Погудели хорошо, пора и честь знать. Меня дома жинка ждет. Она у меня строгая, сгоряча может сковородником зашибить, очень даже просто». – «Куда? А свадьба? А наш уговор? Завтра же оженю тебя на дочке! В стыд-позор не вводи меня своим отказом». – Это султан-хан-то Ивану толкует. «Не хочу я на ней жениться, не глянулась она мне. Моя Марютка лучше…» Как услыхал те слова султан-хан, озлился, ажник скосоротился и с лица пропал: «Моя дочка – первая красавица! Ее богатый человек сватал. Ты что, дурак?!» – «Никакая она не красавица, – это знахарь с пьяных глаз отвечает. – У ей ни рожи, ни кожи, ни сзади, не спереди – словно доска, подержаться не за что! И лицом черна, чернее сажи, аж с синя малость…» Султан-хана затрясло со злобы: «Я тебя, су-укина сына, в тюряге сгною! Эй, стража, связать лекаря, бросить в яму, пусть там проспится. Вон отсюдова, пьяная харя!» Иван очухался, почуял беду; по коридору бежала свита. Он не раздумывая шмырк в окно, да и был таков, Митькой, как говорят, звали…
– Неужто убежал?
– Ушел?
– За милую душу ушел! – ответил Тимофей кротко. Подошел к окну – было темным-темно.
– Вишь вот, молодец этот знахарь, – говорил Никодим. – Пьян-пьян, а усек, что дело керосином пахнет.
– Что же у ей в горле-то было? – спросил Тихон, высокий, горбоносый, с большим кадыком, сидевший до этого молча и прямо.
– Что было-то? А бог ее знает… Лихоманка какая-то, а может, и рак.
– А кто слушает, тот дурак, – вставил Соколов.
– Да ведь это все неправда, а? Враки? Ну, Тимоха, горазд же ты на байки, ей-ей горазд!
– Сказка ложь, и я тож, – Круглов улыбнулся мило и виновато.
В доме сделалось еще веселей, теплей и уютней. Тимофей все подкидывал березовые поленца в огонь. Сидел он на корточках вполоборота к печи, словно грелся не от нее, а от людского общества, так любимого им. Перевалило за полночь, кое-кто позевывал, но странное дело: ни один даже и не заикнулся о глубокой ночи, о том, что завтра с рассветом на работы.
Пересудам не было конца-краю. И как это всегда бывает в теплой мужской компании, не упустили из виду и женщин. Никодим, вспоминая гарем, допекал Тимофея вопросами… Женька Комов заинтересовался болезнью принцессы.
– А что, всяко бывает, – говорил он. – Я однова так-то ходил-ходил по докторам с шишкой на носу. Посмотрят, пощупают – пройдет, – говорят. Это, мол, жировик. Прописали примочки – и все. Я им: мне срам с шишкой на носу, как у алжирского бея. Пришел домой, ногтями выдавил, водкой прижег – как рукой сняло. Так-то, верно, и знахарь этот: он ей, прынцессе-то, горловик размял, она с испугу-то гаркнула, у ей все гноем и вышло. Так, Тимоха?
– Так, так… А то как же!
– А я раз в райцентр наладился гусей продавать, – рассказывал Соколов. – Села ко мне в телегу девка молодая, горделивая, городская, как видно. Штанцы кофейного цвета, брови наведены черным, знаете, с изломом. То да се, шире-дале, я гляжу на ее одежды, смеюсь. Она мне: «Чего зубы скалишь?» – «Больно уж, отвечаю, штанцы широки… Я в моряках такие на́шивал…»
– Погодите, братцы, – умолял Комков, – дайте еще послушать! Тимох, а Тимох, расскажи на сон грядущий какую-нито быль али событие. А то верится и не верится… Расскажи, а то моя баба придет, по шее накостыляет. Я ведь украдкой к тебе…
– Что ж, быль так быль. Да ведь опять не поверите, черти полосатые.
– Поверим!
– Сказывай.
– Давай!
– Давным-давно это было. В нашей деревне жил-был поп Онуфрий. Жаден до крайности. А братья Гришановы— одного звали Валетом, а другого Победимом – такие были прожженные сукины дети, что все их боялись. Они так и заявляли о себе: «Мы, Валет и Победим, усех людей поедим!» На испуг брали, на пушку – таковские ухорезы. Бывало, работники в отхожий промысел наладятся, топоры под ремень – и айда по чужим местам деньгу заколачивать. Валет и Победим – тоже для видимости берутся за топорики. Пошушукаются промеж себя и пойдут шаркать по церквам, по амбарам да клетям. В избу чужую задуться – это для них плевое дело, самый что ни на есть для них вкус… Рожновские, конечно, догадывались, что Гришановы промышляют не плотницкими делами, а помалкивали, боялись. Пахом раз видел их обоих в лесу, с топориками, с базара кого-то поджидали. «Иду, – Пахом рассказывал, – бреду лесом, а они под кустом устроились косушку распивать. Здорово, мол, Пахом! А сами топориками поигрывают, по сторонам поглядывают. Поскорее, говорят, проходи, мешаешь нам дерево выбрать». А Пахом гол как сокол, что с него взять. Они его и не тронули.
Деньга у Гришановых водилась несметная, черная, нетрудовая. Перепьются, бывало, и промеж себя драку затеют для потехи. Как начнут дубасить друг дружку, мужики разнимать, а Гришановы только того и ждут; оба кинутся на чужаков, смертным боем их бьют, да все с выкриками: «Бей своих, чтоб чужие боялись!» Прощелыги были ужасные, рожновским от них тошно было.
И вот как-то пришли братья с промысла при деньгах, напоили мужиков, а те и рады-радешеньки на дармовщинку… Ну, то да се, разбалакались, разговорились и вспомнили про попа Онуфрия. Кто-то из мужиков возьми да и сболтни, что у попа золотишко в подполе зарыто. Валет подмигнул Победиму, Победим – Валету, и говорят друг другу по фене, чтобы другие не поняли:
– Фи-па, фи-ба, фи-ршим? Что значит: пошебаршим это дело, обстреляем, брат дорогой?
Смикитили. Уши навострили, подливают мужикам, слушают. Посидели, покурили и пошли. По дороге толкуют: «Надо пощекотать духовного отца. Чем на чужой стороне куш ловить, лучше тут все хорошо устроить». Разговаривая так на тарабарском языке, приготовили они вагу, лопату, все чин чином, и ночи дождались. А дело было перед Пасхой, тьма – хоть глаза коли. Подошли они к поповскому дому, зырк, зырк – кругом ни души. Подвели вагу под нижний венец, навалились, домкратик подставили под сруб, приподняли угол. Валет и говорит брату: «Лезь и копай в правой стороне, под печкой». Победим снял с себя поддевку и шмыг в подпол. А Валет наблюдает, караулит за углом…
– На стреме! На шухере!.. Это клюквенники, Тимоха, – те, что духовных отцов грабят или церковь. Среди воров это самое последнее дело. Вот если бы их взяли и посадили, им там свои спасибо не сказали бы, нет, – перебил Тимофея Никодим. На него зашикали: тише, мол, не встревай.
– Караулит-то караулит, а в потемках и не заметил, что гнилое бревно вдавилось в домкрат, угол осел, и от лаза только щелочка осталась. Видит Валет свет из подпола, только хотел глянуть на братца, нагнулся и обомлел: как вылезет теперь Победим? А силенкой оба были жидки, но бесовски хитры и ловки. Начал было Валет работать вагой, домкратом… Куда там! И плюнул, и затрясся от злобы: «Мать-перемать!» Что теперь делать? Вот-вот проснется поп или люди пойдут в церковь и враз накроют. Победим так увлекся, что не заметил закрытого лаза, копает и копает. «Победим, – шепчет ему Валет, – слухай сюда! Рвем когти! Ободняться стало, влипнем!» – «Не трусь, держи харю по ветру, – тот-то ему отвечает из подпола. – Я прокопаю дыру лопатой, как-нибудь выйду». – «Тебя увидят! Вон бабы гремят ведрами у колодца, голоса слышу…» – «Ну иди, гад такой, иди… Испугался, в штаны напустил. Ступай домой, я один справлюсь».
Свеча горела слабо, ветер задувал пламя. Победим то и дело зажигал свечу, принимался копать во всех углах. «Обманули мужики, – подумалось ему, – или я копаю не там? Да и откуда им знать? Мужики врали, а мы уши развесили, дураки…». Сел Победим на кадку с квасом, затужил, загоревал. «Как выбраться из подпола? – думает он, покуривает. – Видно, попал я в ловушку, придется ответ держать». Думал-думал и придумал. Попил из бочки кваску, опрокинул наземь, сам разделся донага и давай в грязной жиже валяться. Отвозился – мать родная не узнает. «Ну, теперь-то прорвусь, – так шепчет себе. – Главное, выбраться, а огородами проскочить – минутное дело». Постучал Победим лопатой из подпола, слышит: «Свят, свят, свят», – отец Онуфрий молится. «Мать, а мать, – будит поп попадью. – Мать, открой подпол, никак кто-то стучится». – «Бог с тобою, батюшка! – взмолилась попадья. – Послышалось тебе, померещилось. Крестись пуще, это нечистая сила тебя смущает». «Явственно слышу, мать. Ты побойчее меня, отвори». Попадья в исподнем подошла, крикнула: «Кто-й-то там? Чего надо?» – «Открывай!» – заорал благим матом Победим. Попадья так и села от страха. Поп зажмурился, отворил лаз трясущейся рукой. Победим как прыгнет оттуда, как гаркнет во всю глотку: «А иде здесь дорога на Тамбов?» Поп повалился, онемел, машет руками на дверь. Победим шмыг мимо, и поминай как звали.
– Убежал?
– Утек!
Я покосился на часы-ходики. Было уже четверть третьего.
– А когда бежал он огородами, баб напугал так, что они и теперь рассказывают, как видели черта на задворках.
Мужики не спорили, не шумели. Они устали, накурились до красноты лиц, клонило в сон. Только неугомонный Ванька спросил из любопытства:
– Тимох, а Тимох? Когда это было, про попа-то?
– Когда было-то? А было это, мил человек, при царе Горохе. Было да сплыло и не воротится. Ну, однако, будя буровить-то, спать пора. Ободняться стало.
И я заметил, хоть и поторопил Круглов гостей, но мог рассказывать еще и еще, испытывая от своих рассказов видимое удовольствие. Мужики одевались, борясь с телогрейками, куртками, прощались с Тимофеем. Никодим подтягивал голенища крепких, сбитых кирзовых сапог; поднимаясь на коротких кривых ногах, позевывал и потягивался. Закуривая на дорожку и угощая Тимофея папироской, спросил:
– Что же, не было у попа монет золотых?
– А шут его знает… Может, было, а может, и не было. Чужая душа – потемки, а своя еще темней!
– Темней? – переспросил Никодим.
– Те-емней!
– Покойной ночи, Тимофей Лукич, – прощались мужики.
– Спасибо, брат, уважил!
– Время-то как пролетело, мигом! Четвертый уж час! Я пожал руку Тимофея, широкую и крепкую. И что-то шевельнулось под сердцем, подумалось: «Тяжко живется ему, вот и выдумывает, зазывает к себе мужиков, чтобы не быть одному… А может быть, талант рассказчика погибает в нем?» Круглов смотрел на меня, улыбался простецки и, торопливо затягиваясь, говорил:
– Выспишься, приходи, мимо не проходи. Что сказки! Я тебе о житье-бытье расскажу такое, что куда там и выдумке. Так придешь, что ли? Ждать буду!
В глубоком раздумье возвращался я проулком. День мешался с ночью, петухи отпевали тьму. Вот пропел один, потом еще и еще. И вот уже все Рожново огласилось сильным петушиным хоралом. Звезды блестели высоко и ясно, а горизонт уже бледнел, наливался палевым светом зари.
В окнах дома Тимофея Круглова заалело.
Товарищи
К Терентию Серегину пришли старики покалякать, покурить. Уселись на бревно перед окнами, завели разговор про политику. Бабка Фрося шумно растворила окно, заворчала, как грозовая туча: «Явились, не запылились… Давненько я вас не видала». И громче, внушительнее добавила: «Ай все дела переделали?»
Старики, – Назар и Семен, ответили вразнобой: «Все переделали, никаких делов нету…» Назар двинул шапку на макушку, сипло засмеялся, щурко взглянул на Фросю: «Были дела в чем мать родила, а теперь кончились… Кликни Терентия, он нужен нам до зарезу…»
Бабку Фросю всегда раздражал этот Назар, сосед: маленький, вечно зачуханный, зиму и лето в грязной овчинной шапке и валенках; табаком от него разило. Раздражали перекуры, болтовня, выпивки. Затворяя с грохотом окно, бабка Фрося не упустила момента съязвить: «Сичас позову! Спешу и падаю! У вас дома делов нет, а у мово – палата. Завтра на базар едет, некогда болтать. Сроду ты, Назар, шатаешься по дворам, лясы точишь…»Старики не пошли искать Терентия. Посидели, покурили и разошлись от греха.
Дед Терентий налаживал телегу в огороде возле бани. Стояла холодная осень, последние дни октября. Дул свежий ветер, срывая с яблонь остатки мертвой листвы. Терентий работал то молотком, то ножовкой, то стамеской. Единственную на всю деревню телегу так запустили, что пришлось потратить на ее ремонт целый день. И когда все было сделано, он проверил оглобли, полез под застреху, вытащил старозаветную банку дегтя и помазок. Деготь он берег для сапог и для своих больных ног: разводил деготь с самогоном-первачом и смазывал суставы. От него всегда сытно, остро и свежо пахло деготком. Ноги ломило перед ненастьем, суставы опухали. Но смазывал, втирал он такую мазь только на ночь. Смолоду он был сутул, рано облысел, а когда ему перевалило за шестьдесят – гнуло все ниже и ниже к земле. Сам он часто говорил про себя: «Смолоду нуждишка к земле гнетёт, по ночам спать не дает…»
И выпить он любил: по церковным и советским праздникам, в «кумпании» друзей, «недугов многих ради», а еще – когда шлея под хвост попадет. Из-за боли в суставах ног носил яловые сапоги, шил их по своим колодкам, смазывал дегтем. Любил он все легкое, свободное. Рубахи носил короткие, в подоле широкие, навыпуск.
Оси смазывал с особым усердием, из специальной баночки, экономя каждую каплю, подставляя ее под оси и помазок. Острый запах дегтя волновал его, взмокла спина и волосы под овчинной шапкой. Он так увлекся, так старался успеть наладить телегу дотемна, что и не заметил, как дали колхозных полей закрывались сумерками, а за полями над лесом дотлевала заря. Ветер работал в ветвях яблонь, остатки листьев шуршали и падали на телегу.
Когда все было сделано и банка с дегтем и помазок спрятаны, он сел на телегу, покачался на ней, пошатал ее – не подведет, не рассыплется. Закурил. Из головы не выходила одна и та же дума: «Продавать барана или себе оставить? Впереди долгая зима, хорошо бы себе зарезать для щей… Свинина – она свинина и есть. Какие из нее щи?»
Затушив сигарету о подошву сапога, он слез с телеги, окурок положил в ржавую баночку, открыл дверь и шагнул в предбанник. В нос шибанул запах яблок, сложенных в ящики со стружкой. На полке с глубокими закрайками стояли банки с солениями и варениями; он нашарил свечку, зажег ее и поставил около окошечка. «Ай не пить?» – подумал Терентий, когда доставал бутылку с остатками самогона. Достал, уцелевшими зубами открыл бутылку и вылил все, что было, в стакан. Антоновки, хоть и лежали целый месяц, оказались не по зубам. И все же дед Терентий грыз яблоко ущербными зубами, кисло щурил глаза, но так и не догрыз – выкинул яблоко.
Ночь овладела умирающими сумерками. Терентий потушил свечу, ощупью закрыл дверь на замок и огородом пошел к избе. Окна соседних домов горели яркими огнями, стояла черная глухая тишина. Сивуха кинулась в голову, загорелось лицо, и думы про барана убежали из головы, ноги уже не ныли в суставах, как будто помолодел. Шагая мимо хлева, сарая и амбара, Терентий силился вспомнить годы без этой самой подлой нужды – куда там! И неделю даже дня не мог вспомнить. «Нужда, нужда…» – заходя на крыльцо и вытирая ноги тряпкой, проговорил Терентий: он во хмелю все чаще стал бубнить себе под нос, гнусавить. Начал было вспоминать, кто и когда прозвал его Нуждой, но так и не вспомнил, хмыкнул, открыл дверь и вошел в избу.
В избе жарко топилась печь. Ярко горела люстра с двумя лампочками. И было тепло. Бабка Фрося – тучная, остроносая, пухлая, в грязном халате с фартуком, выглянула из-за печки. Внук Владик сидел в переднем углу за столом, вслух читал сказку и так громко, с треском грыз яблоко, что деда передернуло в плечах.
– Вали, вали, грызи… – тихо проговорил дед. – А я рад бы погрызть, да нечем…
– Ой, да ты никак выпил, отец? – подавая на стол стопку блинов и смазывая их маслом, говорила бабка Фрося. – Разит от тебя как от самогонного аппарата.
Владик, чавкая и шмыгая носом, навалился на еду. Запивая молоком блины, болтая ногами, он не переставая читал.
– Балуй! – резко и вдруг оборвал его дед. – Пожри спокойно!
– Не ори на ребенка, – вступилась бабка за внука. – Залил глаза-то… Завтра рано вставать…
И как только бабка вступилась, Владик заплакал, разинул рот с непрожеванными блинами. «Мы-ы… – ныл Владик. – Гы-ы…»
– Аки с цепи сорвался, – ворчала бабка на деда. – Барана ему жалко продавать, а внука не жалко… Ишь, обносился, рубахи хорошей нету, а пальтишко – стыдно в школе показаться…
– У него отец-мать есть, – оборвал дед бабку. – Пущай думают о сыне. Кто родил, тот и до ума доводи… Ну, будя реветь-то, изошел на слезы, а то на базар не возьму.
Владик вытер глаза рукавом рубахи, кинулся обнимать деда, расспрашивать про базар…
Бабка и Владик еще спали. Дед Терентий неслышно обулся, оделся, сходил на конный двор с одной-единственной кобылой на всю деревеньку, привел кобылу под уздцы, привязал к задку телеги, а в телегу положил большую охапку ароматного сена. Несло снегом – невидимой и колючей крупой. За ночь так подморозило, что земля звенела под сапогами с подковками. Когда Терентий вошел в избу, бабка уже ждала его с фонарем, а Владик – с коркой хлеба в руке. Овцы как бешеные кидались по углам замерзшего унавоженного хлева. И когда останавливались во тьме, глаза их волшебно отсвечивали. «Бя-ша, бя-ша…» – показывая хлеб, манил Владик. Дед крался с обрывками веревок, падал на барана. Баран грязно-белой шерсти сигал по сторонам. Наконец-то Владику удалось схватить барана за ногу. Они кубарем повалились на солому. Баран быстро-быстро лизал рукав мальчишки. Подоспел дед, упал на него и стал ловко связывать ноги Бяше. Фонарь в руке бабки светил барану в глаза. Выкатив сумасшедшие глаза, Бяша заблеял, теряя орешки навоза.
Дед взвалил связанного молодого барашка на плечи и потащил в огород к телеге. Жалко стало Владику барана, он бежал, поспевая за дедом, и совал корку хлеба: «Бяша, Бяша…»
Дед Терентий положил связанного барана на сено, привязал ноги к задку, запряг кобылу и выехал с огорода на улицу. Все еще спали в это воскресное утро, и в избах не было огней. Где-то в стороне скотного двора брехала собака, разбуженная телегой.
– Ну, с Богом, – говорила бабка Фрося, подавая на стол картошку и огурцы, нарезанные колесиками.
– Живо, живо! – твердил дед Терентий. – Живо, а то приедем к шапошному разбору… Живо!
– За внуком там гляди, не потеряй его, – наказывала бабка. – Вина – ни-ни… приедешь – налью, у меня есть… Царица небесная – матушка, спаси и сохрани… Ветер-то холодный, как зимой… Ну, дай пути-дороги… Гляди за ним…
Владик в валенках с калошами, в стареньком пальтишке с поднятым воротником, сидел в передке на сене, не переставая дергал веревочные вожжи. Телега с грохотом выкатила за деревню. На ухабах нещадно трясло. В глубоких колеях застыла вода в лед. Лед звенел под колесами как стекло.
Когда проезжали селом, взявшиеся откуда-то из темноты собаки налетели на телегу, брехали на лошадь. Владик испугался и начал отпугивать их кнутом.
– Дай-ка кнут, я вот этого рыжего смажу, – сказал дед, выхватил и достал рыжего кобеля.
Сумерки редели, и впереди светлел горизонт. Большаком, ведущим в город, часто встречались люди. Обгоняли баб с корзинками, мужиков с мешками. Светили фарами легковушки, грузовики, и все чаще толпился народ. Где-то совсем близко грохотали колеса поездов. Дорога полого поднималась, и, когда заехали на вершину взгорья, показались огни, дымящие трубы, а над ними зарево. Никогда еще Владик не заезжал в такую даль. Все было ново, интересно. Он глядел по сторонам, посвистывал, провожал долгим взглядом пестрые палатки с иностранными наклейками, а дед Терентий курил и кашлял. Справа пошел лесопарк кустами и перелесками с остатками листьев.
– Дед, а дед, – приставал Владик. – А тут волков не бывает?
– Нету, нету, какие тут волки…
– А разбойники?
– И разбойников нету. Ничего тут нету, одни кусты. Погоняй-ка, опаздываем. Одни вопросы в твоей голове. Ты вперед гляди…
У деревянного моста через реку скопились грузовики, легковушки, подводы, пешеходы. Гоготали гуси, блеяли овцы, а совсем рядом надрывно ревела корова, привязанная к задку телеги. Дед Терентий взял под уздцы кобылу, подвел к воде, развязал чересседельник и посвистал. Кобыла опустила морду к воде и начала жадно пить и фыркать.
Когда переехали мост, поднялись на гору, Владик увидел море огней. Черные клубы дыма из труб опускались на город. Запахло гарью. Гомонили люди, сигналили автомашины. Все смешалось в глазах Владика. Дед забрал вожжи и свернул на рыночную площадь.
Ободнялось. Изредка выглядывало солнце. Все гуще шел народ, и дед с трудом пробился к коновязи. Пахло сеном, навозом, угольной гарью. Стояли в ряд красивые кони, запряженные в бегунки, телеги с большими корзинами из прутьев, а в корзинах гуси, куры, утки… Продавали овец, круторогих и страшных баранов, коз с огромными гнутыми рогами и чудными, похожими на лыжи копытами; коровы ревели на весь базар.
К телеге деда подходили мужики и бабы, щупали шерсть, забивали ладони под ребра барана и спрашивали деда: «Сколько просишь?» Дед всем отвечал, а покупатели говорили, что он «ломит цену».
Из-за того что дед «ломил цену», простояли целый день. С базара уходили, уезжали, и у коновязи остались три подводы. Дед хмурился, закрывался от ветра воротником полушубка: «Видно, назад повезем барана».
Собрались уезжать. Подошли два мужика, один – молодой, другой – старый, – долго ходили вокруг телеги, забивали кулаки под ребра барану, называли цену… «Магарыч наш, – сказал старый мужик. – Надо вспрыснуть покупку…» И дед невесело начал развязывать Бяшу, а молодой мужик вытащил из сумки бутылку, озираясь, наливал вонючую водку. Бяшу привязали, поставили, дед Терентий разложил на тряпице все, что дала бабка Фрося. Владику захотелось есть. Он жевал хлеб с салом и с удивлением смотрел на чужих мужиков, купивших Бяшу, на их новые шапки и плохо понимал, что они говорят.
Выпив и закусив, мужики говорили и говорили. Из этого непонятного разговора Владик заключил, что покупатели пожалели деда. Глаза деда слезились, овчинная шапка съехала набок, и от него нехорошо несло водкой. Остатки хлеба Владик решил отдать Бяше. Но баран, приученный есть хлеб из рук Владика, кидался по сторонам, как будто знал, что его вот-вот уведут, и подавал голосок, как будто плакал. Владику стало жаль Бяшу, он тоже заплакал.
– Ты чего? – спросил дед. – Чего плачешь?
– Бяшу жалко… Не отдавай его…
Мужики засмеялись, а дед Терентий сказал: «У нас к весне еще будет барашек, лучше этого…» А когда мужики повели Бяшу на ошейнике за веревку, Владик провожал барана мокрыми от слез глазами.
– Ну, малый, сиди тут. За кобылой гляди, – сказал дед. – Я по палаткам пройдусь, гостинцев тебе куплю, товар погляжу.
Ряды совсем опустели. Кое-где еще продавали куртки, рубахи, валенки. Рядом стояла телега, в телеге гоготали гуси, высоко подняв головы с желтыми носами. Кобыла стояла не шевелясь, будто каменная. Владик подложил ей сена – она как бы и не замечала. «Ешь, дуреха, – говорил Владик, – ешь, а то скоро домой поедем…»
Базар совсем опустел, начало смеркаться. А дед все еще не приходил. Владик начал бегать кругом телеги, чтобы согреть ноги. Пробежал мимо соседних палаток – пропал дед.
…Через базарную площадь вели старика. Владик, близоруко щурясь (ветер нагонял слезы), не сразу узнал деда. Вели его под руки два молодых милиционера. На шее у деда моталась снизка баранок, дед что-то громко заплетающимся языком говорил, а милиционеры смеялись.
– Твой дед? – спросил высокий, тот, что был с резиновой палкой.
– Мой, – ответил Владик.
– Забери его и не отпускай. Домой вези.
Милиционеры помогли уложить деда в телегу. Владик собрал остатки сена, поднял, на сколько мог, чересседельник, кое-как завязал супонь и только тут он смекнул: забыл дорогу. Их оказалось три. Все в разные стороны.
Дед храпел на телеге. «Нажрался, идол окаянный! – совсем как бабка ругался Владик. – Могутов от тебя нету… Куда ехать, дед?!» – трепал он деда за воротник.
Связка баранок все еще висела на груди. Дед не просыпался. Владик развернул лошадь и остановился. В высоких городских домах зажигались редкие огни. Вот-вот станет совсем темно. Владик сидел на краю телеги и плакал навзрыд. Проходила мимо бабка с большой кошелкой за плечами, остановилась.
– Что плачешь, мальчик? – спросила она.
– Дорогу забыл, – всхлипывая, отвечал Владик.
– А куда ехать?
– В Березовку.
И Владик вдруг, почувствовав участие единственной души в этом большом чужом городе, расплакался еще громче, навзрыд, всхлипывая… Бабка начала будить деда, но так и не добудилась.
– Пусть спит. Проспится. Поедем, нам по пути, – сказала она, поставила кошелку в телегу, села рядом с Владиком. Когда ехали городской окраиной, Владик начал вспоминать дорогу, уже не всхлипывал, а все покрикивал на лошадь и махал кнутом.
Лошадь ходко шла домой. На мосту через реку не было пробок. За железным полотном вновь появились дороги, тропинки. «Тебе ехать все прямо и прямо к большаку, – объясняла бабка. – А потом свернешь влево, там спросишь… Ну, погоняй с богом…» – и пошла куда-то торной тропинкой.
Дед изредка просыпался, тяжело поднимал голову и мычал. Когда дорога стала спускаться, лошадь сама свернула влево к перелеску и побежала мимо кустарников к оврагу. Владик вспомнил село, стаю злых собак, вновь начал будить деда: «Да встань ты, окаянный, босяк! Встань, а то замерзнешь, помрешь!»
Дед встал, начал кашлять и плеваться. Владик поправил на нем шапку. «Дворики, Дворики, – говорил дед. – Считай приехали… Чтой-то со мной нехорошо, дурно…»
В Двориках вновь налетела стая собак. Еще злее чем утром, подкатывали они к телеге, пробегали ее с разгону, оглушительно лаяли. И тут дед совсем проснулся, он выхватил из рук Владика кнут и попробовал достать самого крупного. «Отрыжь!» – закричал дед. Лошадь рванула и вытащила телегу за Дворики.
Ехали молодым березовым лесом. Стало совсем темно, но не так страшно. Владик узнавал этот лес и лесополосу – «посадку», он ходил сюда с бабушкой за грибами. Дед запел: «На границе тучи ходят хмуро…» И вдруг оборвал песню, начал что-то искать в карманах. Возле скотного двора остановил лошадь, слез с телеги, снял шапку и начал высыпать в нее мелочь. На столбе светила единственная лампочка и не было ни души. В стороне брехала собака, и в сторожке был свет. Владик, прищуриваясь, смотрел на свет то одним, то другим глазом…
«Владик, ты у меня деньги не брал? – спросил вдруг дед, он вздыхал и охал и все шарил в карманах зипуна. – Чтой-то денег не могу найти, похоже, вытащили».
Все сено перерыл, облазил все карманы – нет денег.
– Головушка моя горькая, – взмолился дед, – видать, товарищи, с кем пил, погрели руки… А до телеги как я шел?
– Тебя два милиционера привели, – ответил Владик.
– Ой, ой, неуж привели?
– Да.
– Ну, попадет мне на орехи от бабки…
Бабка Фрося встречала с фонарем. Дед молча распряг кобылу и повел на скотный двор. Вернулся с былинками сена на шапке и зипуне. Снизка баранок лежала на столе. Владик пил чай, хрустел сушками.
– Садись, садись скорее, – говорила бабка Фрося. – И выпить дам…
Дед протрезвился. Никогда он не крестился на передний угол с иконой, а тут – стал на колени, помолился.
Дед выпил стакан самогонки. Молча как-то, не вдохнув. Стал ковырять в тарелке лист квашеной капусты.
– Ну, чего молчишь-то? – приставала бабка. – Выпил, а молчишь… Ай язык-то лошадь отжевала? Ай что случилось?.. Ой, чует сердце беду…
– Слава богу, что живой приехал, – сказал Владик. – Он помирал в телеге…
– Как с фронта, – норовил шутить дед. – Вот так базар, товарищи… Все денежки похерили…
– Неуж вытащили?! – вскрикнула бабка Фрося.
– Все, – отвечал дед. – Одна медь осталась…
– И-ик, и-ик! – заикала бабка, как будто проглотила кипяток или ложку огняной похлебки. – И-ик! Царица, матушка! – закрестилась она, полезла на скамейку зажигать лампадку на ржавых цепях. – Медяки остались… – И слезая с лавки, заплакала, заголосила:
– Босяк ты, босяк! Вытащили или пропил?!
– Пропил-то я, может, тышшу, не больше…
– Ты-ышшу! – повторила бабка, почему-то начиная раскачиваться на лавке из стороны в сторону. – Тышшу, эх ты…
– Вот так черт меня попутал! Продал барана, деньги получил, магарыч вспрыснули…
– Тышшу…
– Мало показалось, заело… Как бес попутал…
Бабка Фрося встала и, сразу вдруг обессилев, пересела ближе к деду. Владик почувствовал, как загорелись со страху лицо и уши. Захмелевший дед развязал язык.
– Пошел я купить гостинцев, товар поглядеть. А ларьки, палатки там какие наставили… Вина, я таких и бутылок не бредил, во сне не видал. А ларьки уже закрывались, а какие были открыты – одне тряпки бабьи.
– А-а-а, бабьи? – издевательским тоном перебила бабка. – А вино лучше…
– Да слухай, не перебивай… Повернул назад к телеге. Вижу, возле пивной и в проходе мужики – как мухи – кипят. Пить мне захотелось, аж кишки загорелись… От магарыча…
– Кишки у него, глянь-ка, загорелись, – злилась бабка.
– Дай досказать-то! – заругался дед. – Подхожу – народу – не пройти-пробиться. Все стойки облепили и на улице пьют. Из банок. Хотел было уходить, а тут два молодца: чего, мол, дед, пивка захотел? Или винца плодово-выгодного? Там и вино разливали из стеклянного конуса.
– А-а-а, из конуса, – передразнивала бабка. – Как хорошо…
Дед увлекся ладностью рассказа, говорил, размахивая руками:
– Молодая продавщица, слышу: «Товаришши, потише материтесь, то-ва-ри-шши, а то милицию позову…». Молодые мужики и говорят: давай, дед, деньги, мы пробьемся, отоваримся. Я отсчитал им двести. Глядь – несут. Трехлитровую банку, полную. Помню, пили вкруговую, захорошело…
– Захорошело ему, глянь-ка, – опять перебила бабка, уже теряя интерес к болтовне деда. – Ну, ну, и чево?
– Ну, ну, гну! Не перебивай. Стояли, пиво пили… Иди ты…
Дед помолчал:
– А тут товаришши и говорят: «Может, винца дернем? Плодово-выгодного?». Дал я им еще четыре сотни, мелкими. Вино – вонючка, а не вино. Пробились к стойке и за столом стали пить. Кружками. А закусь – рыбешка ржавая. Тут толкотня такая, аж бока заболели…
– Плакали денежки, – заключила бабка, тяжко поднимаясь с табуретки. – Сколько дали за барана? – громко спросила она.
– Шестьдесят без тысячи, – ответил дед.
– Шестьдесят! И ни копейки не привез… Годовая пенсия…
Тут загремели ухваты-рогачи. Бабка выскочила из кухни с самым большим и, держа ухват наперевес как винтовку, кинулась на деда. Владик вскочил с лавки, влепился в черенок, заорал дурным голосом:
– Он жив остался, не бей его!
Бабку Фросю остановил крик внука. Она как-то сразу обмякла, опустила ухват, ушла в кухню и запричитала:
- Все ходил, вино пи-ил,
- В вонючей пивнушке…
- И приметили его
- Городские обиралы,
- Ой да называют дру́гом,
- А обирают кру́гом…
- Вокруг него обошли,
- Обшарили кармашки,
- Обшаркали кармашки,
- Вынули бумажки,
- Оставили ляда́шки-и…
- Как доброго его собирала…
…От этого стона-причта и Владик заплакал. Подошел к бабке и начал уговаривать, обнимать и целовать, говоря: «Не плачь, бабка… Дед живой остался…»
Дед снял сапоги и, еле сдерживая стон от боли в запухших ревматических суставах, полез прямо в штанах и куртке на печку, бормоча себе под нос:
– Товаришши, товаришши… Нельзя так-то, товаришши…
Божья шишечка
Долго наблюдал, думал: как выразить благополучный тип чиновника в наше неблагополучное время. И вот недавно, переходя Тверскую с шумной ватагой нетрезвых друзей, вдруг увидел, вернее, почувствовал его. Итак, думаю, что, если бы он взялся писать свою историю, или, как теперь модно называть – «исповедь» и даже еще несуразней – «исповедь на заданную тему» (в одном названии – весь концентрат, квинтэссенция безбожия!), итак, если бы он писал и впрямь искренне, то написал бы примерно так…
«Я пишу единственно для того, чтобы разобраться в хаосе мыслей и чувств. Сказать – сгорит язык, смолчать – сгорит душа. Верите ли, я уже давно не живу, а проживаю жизнь. Говорят, чужая душа – потемки, но своя-то еще темней! Пусть сгорит мой язык, но душа, если она еще жива, – освободится от тех навязчивых предрассудков, которые мучают меня ежедневно.
Я конченый человек. Именно – конченый. Что бы я ни делал, где бы ни находился: на вокзале, в метро или ресторане, в «Холдинг-Центре», в Манеже или парикмахерской, – повсюду я терзаюсь странным и неловким чувством скуки, «никомуненужности». И это чувство мешает мне открыто смотреть в лица всем, и даже и вовсе незнакомым людям… И мне страшно. Страшно жить среди людей…
Мне повезло, я разбогател в годы «реформ» и «прихватизаций». Я хожу в модном пальто-размахае, до пят, свободного покроя, с узким воротником, в ботинках с каблучком назад – сверхмодных – в «Банк Столичный», к своему другу банкиру Тете Шуре в офис, что против памятника Пушкину, я хожу запросто. Меня пускают без очереди, как своего клиента, такой порядок.
Шура – милый, очень милый человек. Он давно имеет двойное гражданство и при всяком удобном случае уговаривает меня поступить так же. Пример заразителен, это верно. Но я терплю наперекор себе, хоть Шура время от времени делает страшные глаза и надувает щеки…
– Ты подумай, поду-умай хорошенько, – напоминает мне он, разглядывая мой «Магнум», привезенный из Германии на заказ за пятьдесят тысяч евро… Таки ты оглядись хорошенько. Времена уже не те… А сколько ты отдал за растаможку этой прелести? Еще столько же? Боже ж мой, – он разводит руками. – Вертикалка, инжектор! О, ты настоящий охотник. Я не могу так. Деньги готовы превратиться во что угодно, но только не в такую серьезную вещь, – говорит он с одесским акцентом.
Это правда. Я люблю красивые вещи. Но втайне – не люблю и охоты. Поверьте, это очень громко: охота, выстрелы. Это не для меня. Я просто вынужден туда ездить, мерзнуть на номерах, снимать целиком охотничий домик, привозить любовницу и кричать при всех на охранника… Это нужно, так делают все. Я вынужден смотреть, как мои нетрезвые друзья гоняют по сугробам на «ямахах», снимая это на видеоцифровик, вынужден спозаранку часами стоять и стоять «на нумере», то есть в том месте, куда поставит охотовед, зябнуть с занемевшими ногами и тосковать, тосковать по теплу и сигарете… вынужден. Там завязываются знакомства и поддерживаются дружбы среди состоявшихся.
Вот и Шура – терпеть не может охоты, а бывает. Вынужден бывать. И пить не с теми, с кем хочется. Поговорив и отведав вина из его коллекции, я выхожу на Тверскую… Но когда я прохожу назад мимо недвижимо стоящей очереди, я прячу лицо и физически чувствую на себе взгляды и ненависть, эти ужасные взгляды этих ужасных замерзших людей. У меня екает селезенка, и я вспоминаю испуганные глаза моего друга-банкира. «Поду-умайте…» – словно слышу его голос вслед.
«Плебеи, люмпены, пролетарии», – шепчу я мысленно, проходя, как фельдмаршал, вдоль шеренги ожидающих до своего «ниссана»… А все-таки тяжело.
…И коммерсантам я чужд. Нечто подобное, вероятно, испытывает человек, явившийся на именины в дом, где, кроме хозяина, никто его не знает. И кажется такому человеку, что он под постоянным наблюдением, что все присутствующие пристально изучают его, шепчутся за его спиной; с обостренным чувством замечает он все: каждый жест, каждую вольно отпущенную шутку – и все примеривает к себе, все принимает враждебно, во всем видит лишь подтверждение своему предубеждению против толпы… Так и я. Испытующе гляжу кругом, желая разувериться в предвзятом мнении, что якобы все смотрят на меня, и не могу! Я ловлю взгляды проходящих мимо, выпрямляю спину, весь перегибаюсь назад, стараюсь идти чинно и медленно, – и оттого даже и сам себе кажусь смешным. Но иначе не получается. И кажется мне, что во взглядах встречных я нахожу догадку и то, что с таким упорством прячу от себя, – вот-вот, кажется, закричит кто-то за моей спиной на всё казино: «Смотрите, смотрите! Вон идет карточный король! С одной стороны – король, а с другой – простая линованная рубаха!..» И раздастся смех… И тут я успокаиваю себя тем, что так развенчать – непросто. Так бывает только в сказках. Детских сказках гадких немецких сказочников, сочиняющих ради бедности и одиночества. От одиночества сочинен и «Голый король». «Новое платье короля»… – придумано немцем, от одиночества…
…Смех преследует меня повсюду. Кажется, что и сам смех – даже и смех во плоти. Кажется, что смеются именно надо мной, над чем бы при этом ни смеялись (и в самом деле). Встретив улыбку на губах прохожего, я уже внутренне негодую, сержусь на него, почти ненавижу… Хорошо, что с годами, после реформ и ваучеров, стали смеяться меньше, гораздо меньше. Стали бояться метро, мюзиклов, казино и игральных залов… Но смех и теперь продолжает казаться мне осязаемым, вещественным. Я даже различаю его по цвету: он – желтый. Почему именно желтый? Не знаю. Может быть, оттого, что людям свойственно смеяться чаще в солнечные дни? Так вот, услышав за спиной чей-то смех, я оборачиваюсь, вижу перед собой мокрые, растянутые в улыбке губы незнакомца и чувствую страх и острую тоску.
Я хмурю брови и долго еще оглядываюсь потом, как побитая палкой собака. Почему так, отчего? Думается, вот отчего: от недоверия. Я не верю никому и никогда, кажется, не верил. Ни народу, ни «представителям» этого народа в высших эшелонах, ни попрошайке-слепому или нищему. Ни этому правительству, ни даже своему внезапному богатству, ни газетам – этим гнусным листам, замешанным на блевотине с желчью, – не верю никому и ничему.
– …А вот и я не верю, – смеялся вместе со мной Шура (Тетя Шура – это кличка, «погоняло», которое он получил в тюрьме, отсидев еще при «той» власти), – не верю и я. Ни-ко-му.
И помолчав, добавил:
– И сам себе не верю!
– А почему – и себе? Не веришь? – не понял я одесского юмора.
– А так: однажды пукнуть хотел и… обмарался…
Видно, и я не один такой. И Шура не одинок. И еще: меня точит тяжкий недуг незнания. Я, в сущности, ничего не знаю. Помню несколько дат крупных событий из истории, несколько имен великих людей, писателей, композиторов, на которых мне, в сущности, наплевать, но всякий раз при случае я стараюсь козырнуть знанием этих имен, дат и фамилий. А если копнуть глубже, как же все-таки происходили те или иные события? И что за причина заставила Галилео Галилея орать над костром инквизиции, «что все-таки она вертится!», галилея который, не в пример смельчаку Джордано Бруно – все-таки отказался под угрозой смерти от своих убеждений… Но как осмыслить это геройство Джордано? Как, зачем? Зачем все это? И почему ему не сиделось спокойно за чашкой чая с абрикосовым вареньем, этого я даже и не то что не знаю, но и не могу даже найти хоть какие-нибудь версии, объясняющие это человеколюбие, или гордыню, или антропоцентризм эпохи гуманизма, или… а что еще? А Микеланджело, или тот же, с признаками детского паралича от рождения великий Леонардо с его «Моной Лизой», на лице которой я не вижу никакой загадочности, кроме ухмылки похотливой лисицы. Но меня смущает и это… Смущает.
– Нет, я решительно не понимаю… – говорю я экскурсоводу, в чем гениальность этой репродукции Леонардо да Винчи, – и кто это изображен, дочь соседа-мельника или блудница, есть ли по этому поводу хоть какие-нибудь бесспорные свидетельства?
Но вместо того, чтобы объяснить вразумительно, более или менее, экскурсовод ядовито шутит в ответ:
– Видите ли, господин, эта картина столько веков и стольким людям уже нравилась до самозабвения, что она теперь вправе сама выбирать, кому нравиться, а кому – нет…
По окончании премьеры спектакля, которых теперь пруд пруди по Москве и ежедневно – премьеры, кто-нибудь из моих знакомых говорит под занавес:
– Это было замечательно. Даже грубоватый реализм бутафора не повредил утонченности мысли, замыслу и… поэтике этого романтического произведения. А как вжились в образ актеры… Какая эстетика! Ведь еще Платон в своих «Федре» и «Пире»…
– Да бросьте вы, – отвечаю я, почти шокируя собеседника своим невежеством, – согласен, что поставлено неплохо. Но Платона в этом мало. А потом, что такое «эстетика»? У Ортега-и-Гассет это одно, у Баумгартена – нечто совсем другое. Да и сам термин можно понимать по-разному: эстетика как воплощение прекрасного или как нечто общее, как гармонию мелких деталей в общем и целом? Баумгартен, впервые произнесший «эстетика», вероятно, понимал под этим нечто свое… Но труд его на этот счет и об этом предмете так и остался незавершенным…
Такие ответы я всегда ношу за пазухой, подобно камням, чтобы побивать ими заносчивых. Много не надо, пять-шесть на случай – вполне хватает… И вот я покровительственно беру моего визави, моего ошарашенного моим интеллектом собеседника, под руку, заглядываю ему в глаза и вижу: кто такой Баумгартен, он не знает. И мне кажется, что никто ничего не знает.
Открою ли я современную научную книгу или детектив – плоды творчества этих новых и хваленых авторов-современников и вижу все одно и то же: слова, слова, слова… Мутная вода, порой и грязноватая, стекает со страниц – так может написать едва ли не каждый или каждый второй. Если это детектив, то это или подражатель от недавно скончавшегося западного «корифея» авантюрного романа Сидни Шелдона, или Чейз, или Хмелевская, только на русский лад. Или если это фантастика, то Уэллс, если фэнтези, то Стивен Кинг, но всегда – эпигонство, даровитая или бездарная реминисценция. И это типичная наша болезнь – тащить все с Запада, подражать Западу. И я думаю: «Скушно, господа, этак ведь и сдохнуть можно от скуки…»
А учебники? Я уж не говорю о том, как скоро и на потребу времени все эти учебники перекроили. Но даже и дипломированные доктора наук, языковеды и профессора, которые сегодня так и прут изо всех щелей, как гоголевская нечисть, – что же они пишут? Фразы общие, отвлеченные вроде: «Русский язык – язык первой в мире космической державы» или вот «консорциум», «спикер», «импичмент», «секвестр», «ротация»… – и все только трескотня, за которой в словесных вывертах, фокусах, заимствах и кальках скрыто всегда одно и то же: собственная лень и незнание предмета…
Сначала мне казалось, что я ошибаюсь, что так не может быть и что в этом попросту виноват я сам, по природе своей неразвитости, малоодаренности, недоученности. Или все же по причине «несформированности» окружающей меня толпы, в общем и целом, – недо-зрелости толпы, как это модно говорить теперь, «духовно». А потом пригляделся и понял, что глубокие знания и духовность вовсе ни к чему, нужно лишь одно: система. Эту истину я вывел случайно. Давным-давно, в молодости, я сел играть в карты, в девятку. Играть не умел и потому все время проигрывал. Тогда я присмотрелся попристальней – и мне открылась система! Все просто, нужно лишь чаще ставить ту масть, которой в руках больше. И дело сразу пошло на лад. И так везде: в искусстве, в политике, в деньгах. Для того чтобы взять много, нужно лишь сделать вид, что ты готов дать, хотя бы чуть-чуть… Да, господа, система во всем. Я понял это – и оттого я езжу теперь не на «тойоте», а на «лексусе» последней модели.
Создание любого творца – подобно рисунку, который выкладывает малыш из цветной мозаики или камешками на песке: аксиома – к аксиоме, момент, ставший общим местом, историей, – к «моменту истории». И вот гениальное создание явлено миру, новая теорема или – новая буржуазная революция, подобная той, что сложили по камушкам умные люди и которая, по мнениям близоруких люмпенов, «разбила эту страну вдребезги»… И вот вывод – соединялись пролетарии, и соединиться им не удалось. Теперь соединяется капитал, а в сущности, ничего нового и тем более гениального – нет. Да что и говорить: великие умы, на мой взгляд, просто жонглируют чужими мыслями. Они играют. Как ребенок играет с мозаикой. Взять – и смешать. И везде один и тот же прием. При одних и тех же цветах – бесчисленное множество рисунков, множество узоров. А основа – что? Основа – граненая пуговка, камешек, которые надо поставить на свое место. То есть просто привести в систему.
Следующая причина моей жизненной неудовлетворенности – отсутствие собственного мнения. Я ни о чем не могу судить самостоятельно. И дело тут вовсе не в той Системе, что семьдесят лет думала за нас, а просто так устроен каждый. Стоит мне услышать что-то необычное, как тут же я замечаю то, что было сказано. И запоминаю. И откладываю про запас, на всякий случай. И это чужое мнение так долго носишь с собой, так часто повторяешь из-за его, этого мнения, кажущейся первичности, оригинальности, что постепенно оно приобретает вкус и оттенок собственной мысли и – глядь, как раз – кажется мне собственным. И я уверен, что никто не имеет собственных мнений и мыслей. Они существуют готовые, они носятся в воздухе, ходят по земле, ходячие, ходульные…
Бывает, выдумаешь, да и расскажешь кому-нибудь занимательную историйку с мелкой идейкой. Проходит время, и вот уже тот же человек рассказывает тебе твое же, но уже от своего «я»: дескать, на днях со мной произошло то-то и то-то. Я слушаю, я вынужден слушать заинтересованно, даже сочувственно, киваю, делаю то удивленные, то озадаченные глаза и восклицаю: «Да что вы, быть не может!» А самому гадко и стыдно, и неловко за нас обоих, за всю неразвитую человеческую природу, и хочется уйти.
То же – и разговоры о политике, ох уж эти разговоры о политике! И всякий раз, когда я слышу что-нибудь вроде: «…в двух первых прочтениях мнения разделились…» или «новелла, новелла в закон о материнстве и детстве…» – я внутренне обмираю, как при виде трупа: это политикан. И если он в партии, его не волнует ни детство, ни материнство, он просто кормится от своих «новелл» в закон и «поправок». И я всегда переживаю глубоко и думаю о нем примерно так: «Вот и я такой же, как он: глупый, смешной, надутый. И тоже – кормлюсь, хоть и от другого…». Вот мы, мелкие людишки, не знающие на деле, чего именно хотим, и оттого повторяющие страницу за страницей давно пройденные истории, – мы замучили и себя, и других. Собираем колоски со сжатых давно полей. Глупо. А потом мне пришло в голову, что у них просто плохая память. А у меня – лучше. Решил так и успокоился.
Иногда, правда очень редко, – я встречаю действительно тонких, очень интересных собеседников. И нужно бы радоваться, а во мне закипает тупая обида, что вот, гляди-ка, этот – не ровня тебе. Гораздо выше, умнее, значительнее. Тогда зависть угнетает меня так сильно, что, кажется, печень болит. Но скоро первое впечатление стирается, смазывается, я смекаю так: «Этому просто повезло. Повезло нахвататься по верхам мыслей и чувств, чуточку более экстравагантных, неожиданных, чем те, которыми полон я…» – и вновь веселею лицом, вновь общителен и здоров, и, понятно, присваиваю себе его экстравагантные мысли. Я бережно вытираю их тряпочкой, как выдвижные ящички в библиотеке, раскладываю по каталогу.
…И все-таки нет-нет да и засвербит душа: неужели я хуже иных-прочих. Но я гоню такие мысли, убиваю их готовыми выкладками «априори» и «апастериори», словно мух хлопушкой, от которых остаются только грязные пятна на обоях. Вот, пожалуй, только некоторые из причин моих постоянных мучений. Что еще? Мне надоела моя приросшая к коже маска артиста. Мое вечное амплуа доброхота. Я не верю в искренних людей. Если такие и есть, то они честны только в сравнении с отпетыми подлецами. Но все вокруг принимают меня за милейшего человека.
Знакомая дама говорит мне, указывая на своего шпица, ожиревшего, страдающего одышкой:
– Посмотрите, как он мил!
И я, с обрезком колбасы в руке, вынужден тоже горячо расхваливать этот комок грязной шерсти. Я сую ему колбасу, а сам думаю: «Хоть бы тявкнул, чтобы знать, с какой стороны у него хвост». Шпиц путается под ногами, в благодарность обвешивает мои брюки слюной и волосами, а мне невтерпеж садануть его носком начищенного ботинка.
Одеваюсь я превосходно, в «Бон-Мон», одевает меня жена в лучших «шопах» Москвы. Ботинки с красной полосой по каблуку, пиджаки по последней моде. Стригусь у «тупейного художника» в салоне «Вела», а вернее – у какого-то проходимца, купившего за бесценок подвал в одном из зданий сталинской постройки в Москве и вообразившего себя интеллектуалом.
– Проходите, пожалуйста, – говорят мне в фойе парикмахерской. – Вы наш клиент… Без очереди…
– Мой мастер еще занят, – отвечаю я, и все присутствующие смотрят на меня с уважением.
Меня раздражает все: перерывы на обед в Манеже, охрана в Охотном Ряду, раздражает даже мой телохранитель, который ходит за мной по пятам и которому я вынужден платить. У меня то и дело, раздражая меня, поет мобильник на разные голоса. Охранник, таскающий за мной телефон, чтобы я имел возможность отсеивать разговоры, протягивает мне эту мерцающую дорогую игрушку:
– Кто? – спрашиваю я.
– Эмилия, с Кипра.
– Не нужна…
– У Александра Ивановича совещание… Перезвоните….
Зуммер трещит опять, переходя в мягкие толчки-звоны.
– Кто?
– Бревнов…
– Меня нет.
– А что ответить?
– Отвечай что хочешь, ты научишься искать причины сам или мне работать за тебя, тупоголового? – взрываюсь я…
И сам замечаю, что в последнее время взрываюсь все чаще и чаще.
Знакомые женщины считают меня серьезным и умным. Многие завидуют моей семейной жизни. Гости покидают мой дом всегда в отличном настроении. И действительно, жена по газетам скупала антиквариат – мебель в комнатах моего «пентхауса» дорогая. Я занимаю два уровня. Одна из комнат особенно дорога мне, и не только тайными от жены воспоминаниями, а и самой обстановкой, которая особенно удалась: под утрехтский барха обои в промежутках между картинами блестят золотом, и цветы, цветы… чудо что за цветы. А знаете ли, как блюдется эта чистота?
Пригласив значительных знакомых (не вечно же сидеть в казенном ресторане), мы вчетвером – я, жена, домработница и охранник – с самого утра кидаемся по комнатам как угорелые: там пригладим, здесь расправим, тут растянем… А в будни в квартире содом, разруха, потому что жена экономит на постоянной домработнице и все более склонна копить в кубышку. К концу недели на мебели, на книжных шкафах свеи пыли, кучеряво-курчавой, как овечья шерсть или пейсики банкира Шуры. На кухне – шеренга пустых бутылок, а в раковине – немытая посуда. Тонкая хрустальная ваза покрыта изнутри испариной от вечно спертого воздуха – и это при не перестающих молотить кондиционерах. На туркменском, ручной работы ковре, который я выдаю за иранский, такой сор, обрывки ниток, которые жена бросает там, где режет, – словом, к концу недели все становится таким противным, что меня начинает выворачивать от брезгливого гнева.
Я не люблю свою жену и часто по прибытиии из поездки или с отдыха, возвращаясь из-за границы, почти с испугом думаю: «Кто эта женщина и почему она здесь?» Я хотел бы, чтобы она оставила меня в покое. Она ленива, нескладна и неопрятна при мне и величественно самодовольна на людях. Когда она, хлопая в ладоши, убивает моль, я всякий раз вздрагиваю и браню ее. Мы нередко ругаемся, но так тихо, чтобы нас, не дай бог, не услышали посторонние. Отвечая на ее угрозы зловещим шепотом, я с удивлением замечаю, что моя рука осторожно затворяет балконную дверь или форточку.
Но иногда я чувствую острую нужду начать новую жизнь, не ввязываться в дрязги, не нервничать по пустякам. Так бывает, когда я засиживаюсь до полуночи над книгой и вдруг увижу мою дорогую Юлию спящей… Я гляжу в ее лицо и вспоминаю молодость. Вспоминается какой-то яркий солнечный день, цветущая сирень и какая-то широкая улица, по которой мы шли когда-то, обнявшись… Тогда… Когда? Сто, двести лет назад? Бедно одетые, студенты МГУ, плечом к плечу… И в каждом окне было по солнцу, в каждой пуговице моего мундира – по солнцу, в глазах моей возлюбленной – по солнцу… Тогда я пристально вглядываюсь в лицо ее: ты ли, та ли? И по неопределенному изгибу бровей, по мелким и милым черточкам узнаю ту, свою Юлию… Ту самую, дорогую Юлию… Ту, с которой живу столько лет. В такие минуты я, ей-богу, люблю ее совершенно искренне и всякий раз говорю себе: «Будь я неладен, если когда-нибудь скажу ей обидное…» И вот настает утро, и я, сидя на тахте и склоняясь, хрустя ревматическими суставами, тянусь, шарю ногами, ищу тапочки, трогаю пальцами рук две впадины за ушами – признак старости и начинаю мелочно и глупо раздражаться…
…В мастерской у меня тот же непорядок, что и в комнате жены. Я пейзажист, это «хобби» – зачем обеспеченному портреты? Друзья шутят, что у меня «божья шишечка», и постоянно напоминают мне известную заповедь. Но я-то знаю, что и в искусстве главное… И в моем таланте, как червь в яблоке, сидит все та же система.
Бросив взгляд на пустой холст, я уже знаю: сюда нужно положить белил, туда – кадмиуму, а вот здесь – охры. И слепо исполняю. Я и не помышляю ни об идее, ни о настроении. Просто пишу: кривая вынесет. Картина сделана. И всегда находится человек, который кормится около меня, как я сам кормлюсь около моей системы. Он называет себя моим продюсером, моим агентом. Он в один миг усматривает в картине и идею, и злободневность, и какое-то направление…
– Я просто обязан написать о вас, – говорит он.
И я с непринужденным видом поддакиваю тому, как «верно нашел он» мое стремление выразить и т. д. и т. п., – и мы оба захлебываемся от слюнявой приязни… И все фальшиво до тошноты, все ужасно фальшиво. И я фальшиво нажимаю пуговицу его пиджака, как кнопку звонка, а он не переставая трясет мою руку. И все это наводит меня на мысль, что и многие признанные творцы вовсе не помышляли сказать своими шедеврами то, что усмотрели в них благодарные потомки…
Кстати, на картины мои спрос. Может быть, открытая мной система и в самом деле и есть… талант?
На сегодня работа окончена. Я откладываю кисть, выхожу по делам. Я иду, а сам мельком взглядываю на прохожих. Все озабоченны, угрюмы, всяк в себе… Век индивидуализма. Что ж, «Бог лесу и то не сравнял»… Но опять я вздрагиваю, услышав смех… Смеются. Все-таки смеются! Смеются, черт их дери! Может быть, меня разглядели, распознали? И в этом смехе мне тотчас же слышатся треск холста, грохот падающего подрамника, грохот всей падающей Системы, лавина, которая сметет меня, всех нас…
А что, как и впрямь эта Система рухнет? И что у меня останется? И что же тогда талант, как не наказание за грехи? Я знаю многих, которые, как мне кажется, живут, не ведая несомненно грядущего наказания.
…Да, Тетя Шура улетел в Тель-Авив.… А мне стало уже и не то чтобы скучно, а и по-настоящему боязно. Я уже не кричу на охранника. А порой и украдкой прижимаюсь к нему и трогаю его оперативную кобуру под мышкой: не забыл ли он оружие, вооружен ли, носит ли с собой? И тогда, немного успокоившись, кричу водителю «лексуса»:
– В клуб «Т», Валера… Сегодня еще… гуляем…
Будьте любезны!
Водном из больших домов большого города жил холостяк Петр Петрович, человек незаметный, маленький, худой и чистенький. Дом, в котором он жил, стоял высоко, точно на подносе, этажей было много, а окон еще больше. И каждое хранило в себе по частице высокого неба, в точности повторяя рисунок облаков, их оттенки и переливы. В летние легкие вечера стекла пламенели от заката – зрелище необыкновенное. И всякий раз, когда Петр Петрович возвращался домой, он останавливался поодаль, закладывал под мышку свою трость стеклянного набора, неторопливо протирал очки платочком и любовался.
Снизу вверх казалось, что дом кренится, вот-вот рухнет, и от этого делалось жутко и весело…
– Вот так громада! Какая великолепная силища, а стоит себе – и молчок… А ведь когда-то и ухнется… о-о…
Петр Петрович, видимо, всем существом своим желал в своей серенькой жизни увидеть что-нибудь необычное, из рук вон выходящее. Но дом стоял себе как стоял. Глухо отражал он любой звук, был прочен, был нем и холоден, словно крепость, и Петр Петрович, вздыхая, отмерял тросточкой коротенькие шаги – от угла дома до крыльца их было девятнадцать, потом погружался в гулкую утробу подъезда, в его холодное пространство, и пропадал до утра. Подъезд поглощал его, как огромная разинутая пасть, и покорность, с которой Петр Петрович отдавал ей себя, один вид этой покорности мог бы вогнать в тоску самого веселого от природы человека.
Петр Петрович шел черным узким коридором, непроглядным даже в погожие дни, и однажды поймал себя на мысли, что против воли пригибается, как-то весь сжимается от страха удариться обо что-то в темноте, и с горечью подумал: «Вот так-то и во всей моей жизни».
Было так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Утром шла мимо дома, рекой текла толпа, она подхватывала Петра Петровича, а вечером возвращала усталого, чуть потрепанного, слегка ошалелого и смешного. И опять он задирал голову, и опять разглядывал что-то на холодной каменной стене, ждал, пугался собственных мыслей и семенил домой. И если бы кто-нибудь сказал ему тогда, что с высоты седьмого этажа на него с интересом смотрит некто Иван Дмитриевич, Петр Петрович очень удивился бы. Он и представить себе не мог, что им может кто-то интересоваться.
Спешить Петру Петровичу было некуда и не к кому, сам же он был настолько мал и близорук, а дом так громаден, что разглядеть в серых лужах окон хоть что-нибудь было очень трудно.
Как раз в то самое время, когда Петр Петрович появлялся во дворе, некто Иван Дмитриевич стряхивал с себя остатки послеобеденного сна, раскуривал толстую ароматную папиросу и от безделья глядел на улицу, глубокую, как ущелье. И всегда, лишь только догорала его толстая папироса, он замечал Петра Петровича. Трудно сказать, чем этот маленький человек привязывал его внимание. Ясно другое: Иван Дмитриевич видел его ежедневно и уже улыбался ему как старому знакомому. И Ивану Дмитриевичу казалось, что Петр Петрович тоже в ответ улыбается. Случалось даже, что Иван Дмитриевич махал рукой Петру Петровичу, а тот как раз в это время снимал шляпу, чтобы не сронить ее, задирая голову, и получалось, что они друг друга приветствуют.
Затем Иван Дмитриевич плотно ужинал, пил свой крепкий приторный кофе и опять курил. Это был рыхлый пожилой мужчина с генеральской осанкой и круглыми, развернутыми назад плечами. Голова Ивана Дмитриевича казалась плоской, срезанной на четверть и блестела отполированной плешью. Ровная, словно вытертая долгим ношением фуражки. Сам Иван Дмитриевич нисколько не стеснялся ее и шутил: «Что под шапкой, то мое!»
В прихожей висела гимнастерка старого образца, в углу стоял буковый кий. Сразу после ужина Иван Дмитриевич влезал в эту гимнастерку, брал тонкий-тонкий и несоразмерно тяжелый кий и спускался вниз под семь маршей лестницы, в бильярдную.
Бильярдная находилась в подвальном помещении того же дома. Иван Дмитриевич гонял там шары с вечера до полуночи, время от времени подумывая о том, как хорошо и все же нехорошо быть в отставке, в достатке и одному. Его штаны темно-зеленого цвета, жарко начищенные пуговицы на гимнастерке и строгий стоячий воротник – все это было в полном порядке, а неторопливость и внимательность, с какой он натирал мелом кий, покручивая его в руке, когда готовился к очередному удару, – все это открывало в нем человека очень непростого, бывшего, что называется, и на коне, и под конем в этой жизни. А жизнь шла. И Иван Дмитриевич с вечера до полуночи клал с размаху шары налево и направо по лузам. Не любил играть один, не любил сам писать мелочком на доске и за деньги не держался, то есть был не жадюга. И не раз приходилось маркеру подниматься со стула и нехотя менять ему побитые шары на зеленом поле бильярда и в сетках луз, раздутых, как карманы подростка от ворованных яблок.
А Петр Петрович? Кто же знает, чем он занимался в это время… Известно лишь то, что с темноты до утра он не переступал порога своей квартирки по той простой причине, что ему некуда было пойти.
Но однажды в пятницу, 12 апреля (и до сих пор эта дата обведена в календаре Петра Петровича кружочком от бордового карандаша), – в жизни его случилась необычная, радостная и трагичная перемена…
Началось с того, что возвратился он не в пять, как обычно, а в семь часов вечера. И был так расстроен и разбит усталостью, что в спешке попал не в свой подъезд, но, сразу же заметив это, повернул было обратно, как вдруг услышал смех, а за ним и громкий говор и увидел косую, сломавшуюся на ступенях полосу света из-за полуоткрытых дверей. Полоса света была зеленой от неплотно задернутых штофных занавесок.
Раскат смеха повторился и был так некстати сейчас, так не сродни мыслям Петра Петровича, что он опешил. Потом торопливо и скоро спустился под лестничный марш, и, отворив дверь, сказал раздельно и в сердцах:
– Ничего веселого, молодые люди! Ровным счетом ничего веселого, да!
С той же чудаковатой поспешностью круто повернулся на каблуках и вышел… нет! И вот тут-то он и столкнулся грудью с Иваном Дмитриевичем. И то ли проход был так узок и темен, то ли Иван Дмитриевич так грузен и мясист, только Петр Петрович оказался вдруг вытесненным обратно в бильярдную, а узнав при свете лампы его лицо, толстый Иван Дмитриевич сказал запросто, как знакомому:
– Ба-ба-ба! А я вас знаю!
И само внезапное появление такого крупного, добротного, ладно скроенного человека, и известие, что его, Петра Петровича, может кто-то знать, так его огорошило, что он не нашелся что ответить.
В накуренной комнате били по шарам, а Петр Петрович и Иван Дмитриевич уже улыбались друг другу.
– Я, это, собственно, хотел… – сказал Петр Петрович, краснея и огибая сторонкой Ивана Дмитриевича. – Это… я…
– А это я! – ответил Иван Дмитриевич, протягивая свою очень мягкую ладонь, широкую и горячую.
– А это… вы… – проговорил вконец потерявшийся Петр Петрович.
– Повоюем? – спросил Иван Дмитриевич.
– Это как? – не понял Петр Петрович.
И тут же, при общем внимании, ему был вложен кий в руки, и он на потеху всей бильярдной братии ткнул им в шар впервые в жизни. Иван Дмитриевич одобрительно промычал, следя глазами за бегущим шаром, написал мелком виньетку на большом пальце левой руки и с тяжелой грацией взмахнул локтем. Его шар прокатился как гром по ясному небу, и состязание началось. Так – помнил Петр Петрович – началось посвящение его в товарищество игроков.
Через полчаса – когда-то одинокий во всем мире, а теперь разгоряченный азартом и счастливейший из людей – Петр Петрович топтался вокруг бильярдного стола и, неловко, врозь расставляя локотки, бросал отрывисто и резко:
– Свой в левый угол! – и, приседая, бил в шар.
– Вот так! – повторял он, запирая дыхание, и замирал в полу-приседе, пока шар не обегал все борта и не останавливался, крутясь, где-нибудь в уголке.
– А мы вот так! – отвечал ему Иван Дмитриевич и удачным карамболем, вздернув кверху плечо, вгонял с маху «чужого» в лузу.
– Как это вы его ловко! Ишь, карман-то оттопырил, тяжелый, дьявол, – говорил Петр Петрович, добывая шар в руки и устанавливая на полочку.
Шары Ивана Дмитриевича Петр Петрович пересчитывал с особенным удовольствием, двигал и носил осторожно, как свежие птичьи яйца. И все-таки Ивану Дмитриевичу было скучновато с вечно проигрывавшим Петром Петровичем, и поэтому он предпочитал играть вчетвером. И нужно было видеть, как тогда при каждом новом, влетевшем в лузу шаре Петр Петрович восхищенно вскидывал руки, с каким уважением глядел на Ивана Дмитриевича, и с таким конфузом за себя, за свое жалкое существо. Тер пальцем углы, о которые ударялись его шары. И ясно тогда становилось видно, что Петр Петрович болеет вовсе не за себя, а за Ивана Дмитриевича, хоть тот и без того очень ловко, с плеча впечатывал шары один за другим в лузы так, что за показ можно было деньги брать.
Тем же вечером Петр Петрович впервые за много лет отомкнул дверь своей квартиры с улыбкой на лице. Перед глазами все еще стоял добрейший Иван Дмитриевич и то и дело оживали, бегали веселые шары, крепко хлопая друг о друга и широко раскатываясь по зеленому стертому сукну.
«Очень, очень хороший человек, – думал Петр Петрович об Иване Дмитриевиче утром следующего дня, – серьезнейший, добрейший человек…»
И он опять снимал и протирал перед зеркалом платочком очки, и все лицо его казалось в это время еще милей, и проще, и радостней.
И они опять играли. Играли и на следующий день, и Петр Петрович уже с нетерпением ожидал, когда наконец в бильярдной покажется осанистая фигура Ивана Дмитриевича.
Петр Петрович приходил намного раньше, приходил он заранее с удивительной охотой поговорить. Он ждал и не мог дождаться Ивана Дмитриевича. Он хотел слышать его низкий тембровый голос, хотел видеть его крупные, круглые, развернутые плечи и ладно посаженную, плоскую от плеши, лобастую голову. Голову Иван Дмитриевич носил как-то особенно, гордо: чуть-чуть назад и сызбоку. Умело носил. И все это: и свое уважение к Ивану Дмитриевичу, неизвестно откуда и как взявшееся, и свою расположенность к бильярду – Петр Петрович чувствовал ясно. Случались теперь дни, когда часами напролет Петр Петрович гадал, что бы такое придумать, чтобы еще ближе расположить к себе Ивана Дмитриевича. В жизни его теперь появилась как бы тонкая струна, звонкая, поддерживающая его существование. Часами отыскивал он темы для будущих бесед. Находил и подхватывал интересные случаи и анекдоты, такие, чтобы они уже сами по себе подразумевали в нем, Петре Петровиче, ум и чувство юмора. Когда же темы для разговора не находилось, он тщательно осмысливал, что по логике вещей может увлечь Ивана Дмитриевича, и шел еще дальше: старался предугадать весь их разговор, диалог, сцены. И всякий день теперь до встречи Петр Петрович бывал радостен и счастливо взволнован. Он перестал останавливаться перед стеной своего дома и любоваться светом заката, а проходил мимо поспешно, теперь он был занятый человек, теперь он вечно спешил: нужно было сделать то-то и то-то, скорей, как можно скорей. И румяная как яблочко продавщица от души смеялась, когда Петр Петрович путал персиковое варенье с майонезом «Провансаль».
А потом – бильярд.
И все-таки он продолжал казаться себе мелким, маленьким и неуместным, даже смешным в сравнении с крупным и величественным Иваном Дмитриевичем.
– А погодка на дворе чудесная, по заказу! – говорил Петр Петрович, потирая руки и мелко, ненатурально смеясь. И ему было стыдно, что он так лживо смеется и потирает руки. Но Иван Дмитриевич, казалось, не замечал этого.
– Не подморозило бы опять, – отвечал он сдержанным басом.
– Ой, а сколько же на улице-то?
– Двадцать два – для интересу! Ну, не начать ли нам?
И опять, как вчера, как много дней назад, крепко хлопали друг о друга шары и разбегались в разные стороны.
Первые дни было заметно, что Ивану Дмитриевичу скучновато, и тогда Петр Петрович из кожи вон лез. Он намеренно спешил, натирая мелом кий и себе, и Ивану Дмитриевичу, исполнял мелкие обязанности шута и маркера, пыжился, прицеливаясь, потешно выдувал губы и пучил глаза. И по-прежнему часто и мелко смеялся.
Что заставляло его пасть до постыдного шутовства? Он не задумывался. Да и в этом ли дело… Просто и ему было приятно делать то, что нравилось Ивану Дмитриевичу.
– Быстро же ты делаешь успехи! – сказал ему как-то Иван Дмитриевич.
– Стараю-ся! – и это старомодное «ся» проскрипело как заискивание, и опять стало стыдно.
– А Петр Петрович-то у нас, – сказал вслух Иван Дмитриевич, принимая от него пальто, – от двух бортов бьет в средину так, что за показ деньги брать можно!
– Ну?! – притворно удивился кто-то, мельком взглядывая на Петра Петровича. – Полковник, вы куда?
– В никуда.
– Как это?
– А так: до-мой.
И я домой, Иван Дмитриевич. Подождите, Иван Дмитриевич…
…Ночь Петр Петрович спал дурно: то ему казалось неловко оттого, что он не сказал, не успел сказать Ивану Дмитриевичу что-то очень важное, то вдруг подхватывало и согревало теплое веселье от похвалы, и в ушах стоял чей-то бархатный баритон: «Ну-у». Затем наставал новый день, и вновь Петр Петрович тщательно отыскивал темы и фразы и мило, по-детски радовался каждой, как ему казалось, удачной находке. «А он бы мне ответил вот так… или нет, скорее вот как…» – думал он, и сам бы не мог сказать, откуда бралось то веселое чувство, которое окатывало его с ног до головы. Это было что-то похожее на влюбленность, да он и не хотел вдумываться в это чувство, боясь погубить его размышлениями.
Однажды Петр Петрович, с крупным портфелем под мышкой, в белом халате, время от времени выбивавшемся из-под пальто, с какой-то излишне сосредоточенной серьезностью вошел в один из подъездов своего дома. Поднялся на седьмой этаж и трижды позвонил. Пахло от Петра Петровича коллодием.
– Врач! – сказал он, вытирая ноги и так наклоняя голову, словно собирался бодаться. – Врач. Кто болен? Где больной? – И сунул в протянутые к нему руки свое коверкотовое пальто.
– Врач? Так-так-так… – приветствовал его знакомый голос. Петр Петрович поднял голову. Улыбаясь, держа в руках пальто, перед ним стоял Иван Дмитриевич.
– Вот! – сказал Петр Петрович. – Это вы, Иван Дмитриевич?
– Я, Петр Петрович, как видите, живой, здоровый и даже не поцарапанный, – он зацепил петлю пальто за крючок. – Вот так-то, будьте любезны.
– Да?
– Да!
– Однако не очень и здоровы, как я понимаю? – Петр Петрович снова протер платочком очки. И оба засмеялись: ха-ха-ха, хо-хо-хо!
Битый час Петр Петрович осматривал крупное тело своего дородного друга. Забирал в ладонь мягкую горячую кожу его живота, мял, тискал, вкладывал пальцы в ребра, утонувшие в складках жира. Постукивал по спине. Считая пульс, он неодобрительно поморщился и покрутил головой. Окидывая взглядом всю эту гору мяса, сказал:
– Знаете, Иван Дмитриевич, миленочек, ведь у вас нейродистония и тахикардия страшная.
– Вот?! – удивился Иван Дмитриевич. – Что же, мне жить-то – два понедельника?
И, подумав, добавил:
– Знаете что, оставайтесь-ка у меня!
– Ну?!
– Что «ну»! Ведь я же могу умереть, вы же сами сказали.
– Я так не говорил…
– Нет, вы сказали. Сейчас вы останетесь, и будьте любезны – чай пить.
– А что, и останусь. Вы ведь у меня сегодня последний.
– Да вы и совсем оставайтесь.
– И совсем останусь…
И Петр Петрович поселился у Ивана Дмитриевича. Утром они вместе завтракали по-холостяцки: яишенкой или холодцом, но очень умеренно. Потом до пота и красноты лиц напивались чая с кренделями. И незаметно Петр Петрович перенял у Ивана Дмитриевича поговорку – «будьте любезны». Он говорил так: «Придете, и вот вам чай, будьте любезны. Нет, вдвоем не в пример жить кучерявее» или: «А вот и я, будьте любезны», «Будьте любезны, Иван Дмитриевич!».
Иван Дмитриевич страдал грудной жабой. Болел он давно и неизлечимо, и Петр Петрович, принявший приглашение поселиться у него, принялся ястребом следить за здоровьем больного. Он напускал на себя неприступно-строгое выражение, разбавлял Ивану Дмитриевичу чай, горький, как пиво, и, вконец осмелев, принялся прятать папиросы и спички, чтобы тот не курил. Но Иван Дмитриевич всякий раз находил их и снова жарко раскуривал толстую папиросу, наполняя комнаты душистым дымом папирос «Аида», дым стоял и волновался на кухне от малейшего движения. Этот душистый дым везде преследовал Петра Петровича, и он, к своему тайному удовольствию, пропах им насквозь. Запах ароматного табака не давал ни на минуту забыть о том, что у него есть друг, а значит, и семья, потому что друг был по-настоящему добрый, надежный и большой. Он помнил об этом на улице, в аптеке и дома, в парикмахерской, в бане – везде. Мирно и легко текли дни, и не было им счета.
Здоровье Ивана Дмитриевича шло на поправку.
Только раз Петр Петрович пришел немного взволнованный и сказал с виноватой улыбкой, усаживаясь за обеденный стол:
– Знаете, а меня ведь сегодня на пенсию выгнали!
– Ну! Что вы говорите! – удивился Иван Дмитриевич.
– Да, на пенсию. Теперь я свободен. Свободен, как птица в полете. Совсем, совсем… А так… жаль. А у вас есть семья?
– Есть. Дочь. То ли в Джанкое, то ли в Симферополе, а вернее – то там, то там. И писем не шлет. Вот и заводи их, детей-то…
– А я, знаете ли, всегда как-то был одинок, – тихо, точно сам себе, говорил Петр Петрович. – Всю жизнь. Так вышло. И даже не замечал, не тяготился этим своим одиночеством, пока вот вас не встретил.
За сильными очками Петра Петровича не видно было глаз, и оттого он казался Ивану Дмитриевичу безликим, вроде тех трогательных слабых людишек, каких он так часто встречал за свою жизнь.
– Да-да. Знаю это. Это что-то вроде веры в Бога. Потому-то, может быть, среди одиноких чаще всего встречаются верующие…
– Именно. И еще. Больше всего это присуще, извините, женщинам. Но они ищут опоры в замужестве, а это другое… Вот вы спрашиваете, почему я не был женат. Именно по этой причине: какая, позвольте спросить, из меня опора? Да мне ее хоть самому подавай, да где взять-то?
– Ищут поддержки.
– Да уж, поддержки. А женись я? Разве мог бы я стать поддержкой? Нет-нет…
И опять летели дни, и теперь Петр Петрович поднимался в свою комнату только лишь для того, чтобы поменять что-нибудь из одежды. Так он поменял демисезонное пальто на пиджак, потому что наступило лето, и, прихватив кое-какие книги, спешил скорее, скорее выйти вон. Эти вынужденные возвращения к себе, в свой гардероб, превратились для него в пытку. Слишком много дней, пустых и желтых, провел он в этих четырех стенах, и теперь с неподдельной радостью спускался он и спешил, спешил к Ивану Дмитриевичу, подальше от своего затхлого жилья, пропахшего чем-то стоялым, душным, сыростью начавших уже плесневеть обоев и падающей штукатурки. Он спешил и шептал на ходу в такт шагам:
– Покой, покои, покойник… Покои, покой, покойник…
Он бежал из своих «покоев» к Ивану Дмитриевичу, торопился к его ароматному табачному дыму, к его грубому говору, шумной одышке; и потом из передней с удовольствием слушал притаясь, как Иван Дмитриевич опять и опять говорил сам о себе в третьем лице: «—Иди, генерал!», – или: —«Ешь, генерал!», или – «Вот включу свет (и включал), занавешу шторы (и занавешивал) и лягу спать…»
И так во всем.
После таких вынужденных возвращений в свою комнатушку Петр Петрович особенно остро и радостно сознавал, что он живет, и ему хотелось жить. Да-да, жить, вот так просто и радостно, долго, тысячи лет. Со времени ухода на пенсию он почти не расставался с Иваном Дмитриевичем.
В одно из воскресений, в полдень, Петр Петрович по привычке отпер дверь Ивана Дмитриевича своим ключом, отпер, вошел в квартиру, а Ивана Дмитриевича не было. Не было Ивана Дмитриевича и к вечеру, и к следующей ночи. И на следующий день тоже не было. Удивление Петра Петровича сменилось испугом и, наконец, все возрастающей тоской.
Протолкавшись сутки в толчее больниц, вокзалов и милиций, он оглох от звонков, треска, скрежета и движения толпы. Петр Петрович вконец отупел, очумел, и то и дело принимался дрожать, точно от мороза. Дома он, не раздеваясь, опустился в кресло и затих, задрожал плечами, заплакал навзрыд. Он плакал долго, безутешно, горько и сладостно, сотрясаясь плечами, тряся сухой породистой головой и разводя руками, да так и уснул весь в слезах. А очнулся внезапно оттого, что весело и чудесно затрещал вдруг в прихожей звонок и кто-то знакомо крякнул. Сердце Петра Петровича встрепенулось, прыгнуло, и он перевел взгляд с окна на дверь. Звонок повторился, когда он уже с бьющимся сердцем и дрожащими руками, улыбаясь сквозь слезы, распахивал дверь. Против него стоял почтальон, весь черный, как цыган или трубочист, в черном же костюме, с черными волосами и черными, врозь поставленными, словно с чужого лица, глазами. Он молча протянул телеграмму и дал Петру Петровичу расписаться в потрепанной книжечке, которую Петр Петрович так же молча подмахнул, и влепился взглядом в телеграмму… Трепетной рукой сорвал он бумажную ленточку и, задержав дыхание, переводил глаза со строчки на строчку: «Срочно выезжаю дочери». Адрес указывал: Мелитополь, проездом.
Всё…
Слова, которые он прочел, были будто сказаны голосом Ивана Дмитриевича.
Комната еще хранила тот уютный беспорядок, который всюду оставлял после себя Иван Дмитриевич. Там и сям лежали его недочитанные газеты, вещи как будто хранили запах его ароматного табака, прихожая – его бас. Точно он гудел еще, тот грудной тембр: «Будьте любезны…» А сам он?.. Где он был сам? Отъезжал от какого-то чужого Симферополя, белокаменного, со шпилем башни вокзала, далекого, жаркого, ненужного.
Петр Петрович ничего не хотел знать, он знал только то, что он остался один, совсем один. Даже больше, чем один, потому что когда не было никого, то совсем не хотелось верить в то, что кто-то и где-то живет полной грудью, весело и счастливо. «А как же одиноким-то жить? А как же?..»
Он встал и стал быстро-быстро писать письмо. Рука дрожала и торопилась, словно была не своя, а чужая. Петр Петрович несколько раз рвал то, что писал, и пихал в разные карманы пиджака и брюк. И когда письмо наконец было готово, Петр Петрович прочитал его вполслуха и не сдержал грустной улыбки: письмо получилось такое, какое нужно, строгое, ласковое и убедительное. Все в нем сводилось к одному: «Возвращайся». Петр Петрович слабо улыбнулся, когда представил, с каким удивлением будет читать это письмо Иван Дмитриевич, как округлятся его глаза, затем разойдутся в улыбке щеки, растянется рот и, наконец, он погладит себя по плеши, как он делал всегда, когда волновался.
До самого почтамта Петр Петрович не спускал с лица улыбки. Он почти не сомневался теперь, что Иван Дмитриевич вернется, непременно вернется, уж теперь-то наверняка.
– С уведомлением, – сказал Петр Петрович, протягивая конверт, и только тут вспомнил, что не знает адреса.
«Мелитополь, – стучало в голове, – Мелитополь!» Струна, поддерживавшая его существование, лопнула.
В одну минуту он перестал видеть и слышать. Он видел только широкий пустой зал почтамта, насквозь пропитанный теплым сквознячком калориферов.
Два дня он не спал, не ел. На третий его видели в бильярдной с трясущимися руками и сиротским лицом. Он сидел в уголке и смотрел из-под сильных очков на входную дверь, смотрел неотрывно. Чудилось ему, что вот-вот войдет Иван Дмитриевич, гордо неся впереди себя брюшко, и скажет громко: «Во, задержался… А в Мелитополе-то тридцать два – для интересу!»
Хлопнула дверь, Петр Петрович вздрогнул. Вошел незнакомый, и Петр Петрович ясно понял вдруг, что не помнит отчетливо Ивана Дмитриевича и не может представить теперь его таким, каким видел много-много раз. Он помнил голос, помнил его шинель и больше ничего. И когда пытался представить себе Ивана Дмитриевича, то получалось, что разговаривал он с его широкой спиной, – и чтобы вернуть в память Ивана Дмитриевича, Петр Петрович вернулся в его квартиру, влез в его шинель и прошелся в ней туда-сюда, время от времени заглядывая в зеркало, но так как он при этом очень волновался, то так и не воскресил Ивана Дмитриевича в памяти. Он повторял его жесты, походку, движения рук и голос:
– Ходи, генерал! Хм-м, ма-ма-м… Ешь, генерал. Гм-хрр, смотри, генерал… Нет, не то, совсем не то! Ходи, генерал, будьте любезны!
Захотелось покашлять, и он покашлял – и вздрогнул, так сухо и непривычно отозвался его кашель в пустых комнатах… Потом снял очки и долго-долго протирал их платочком, то очки, то глаза.
…В городе Мелитополе появился сумасшедший. Это был будто бы худенький, слабый человек, старый и седенький, с высоко подрезанными височками. И выглядел он нелепо: маленький, в широченной, с чужого плеча, шинели, с тремя крупными звездами на погонах. Пуговицы этой шинели будто бы взялись от времени и влаги зеленой ярью.
Но больше всего удивляло то, что в руках он носил… кий. Обычный кий, но носил он его осторожно – как носят заряженное ружье. Почему кий? Зачем кий, а не какой-нибудь посох или трость? Этого никто не знал.
Человек этот останавливал прохожих и, извиняясь, приподнимал шляпу. Затем доставал из-за пазухи сложенный вчетверо лист телеграммы и, водя по ней пальцем, спрашивал, не видел ли кто некоего Ивана Дмитриевича Кошепьяна…
– Такой плечистый, видный мужчина. Такой… Его трудно не заметить, и лицо у него такое, такое… И одышка еще вот так: хх-о… – и маленький смешной человек показывал, как дышит воображаемый Иван Дмитриевич…
Прохожие спешили от него, не оглядываясь.
Однако он все же оказался в психиатрической клинике и был тщательно и придирчиво выслушан и выпущен со строгим наказом одеться прилично и вести себя с достоинством, как подобает нормальному человеку, а тем более в прошлом – врачу.
– Иди, иди, – сказала ему кастелянша, – иди, Кошепьян! – и проводила его до дверей. – Ишь, хрущ какой, а еще седой, чучело! – И поспешно, с оглядкой скрылась за простенком коридора.
В этот день ярко светило по-осеннему холодное солнце и было зябко. То ли от этой текущей мимо людской толпы, то ли от высокого негреющего солнца, но маленький седенький человек в шинели поежился. Трещали трамваи. По-прежнему подходили поезда к вокзалу, сменяли друг друга автобусы на остановках, выплескивая на площадь и тротуары толпы народа. И шел, шел этот народ куда-то в молчаливой спешке, спешке на месте. Старухи торговали помидорами, грецкими орехами. Хлопали и переходили из рук в руки двери магазинов. Толпа шла молчаливо и нестройно, как разбитая армия. И эта страшная свобода среди множества безликих существ, когда можно бормотать что хочешь, показывать язык, декламировать стихи, и никто не услышит, не придаст этому значения; можно строить рожи, прыгать на одной ноге или топать ногами, – эта странная и страшная свобода уже не поражала Петра Петровича. Это самое изумительное из одиночеств – одиночество в толпе. Кажется, что толпа не идет, а плывет над землей, подталкивает плечами, раскрывает, расталкивает перед тобой проспекты, заставляет видеть то, что читает она: те же проспекты, аншлаги, вывески и объявления. Читать те же газеты, что и она. Толпа берёт от тебя часть твоей жизни, и топит ее в общем котле, заставляет терпеть и спокойно мириться со всем тем, что тебе открывают и показывают. И это ощущение одинокой общности со всеми вдруг совершенно излечило маленького седенького человечка в роговых очках. И толпа великодушно приняла его, медленно, шаг за шагом спустила с крыльца, наступая на волочащуюся по ступеням шинель… Толпа скрыла и потопила его, и никто не замечал странного вида этого маленького человека, ни букового кия в его руках, ни измученного, бледного, растерянного лица. Лишь психиатр, тот самый врач, что четыре часа беседовал с ним, глядел теперь ему вслед из окна своего кабинета. Но и его внимание отвлекла вялая осенняя муха, долго выбиравшая, куда бы ей сесть на подоконнике. Психиатр без труда раздавил ее пальцем, а когда поднял голову, то уже не смог различить своего недавнего пациента в десятках других людей, снующих взад и вперед.
Голова Петра Петровича скрылась за другими головами, а плечи широкой шинели потонули за другими плечами.
Вот уже и совсем его не стало видно. Теперь уже навсегда.
Голубых кровей
Поздним осенним вечером я возвращался с охоты домой. Было холодно. Дали затянуло непроглядной водяной сеткой. Грязь ошметками отлетала с моих несокрушимых яловых сапог. Слева от меня густая стена хвойного леса с мелким подлеском; справа – пустошь, выбитая скотиной. В лесу работал ветер: сосны гудели, скрипели, качались… Все живое точно вымерло.
Сумерки сгущались, наполнялись темнотой, и все окрест становилось мрачнее и безотрадней. Крупными хлопьями повалил снег. Чувствовалось, что не сегодня-завтра ударят морозы, наступит зима.
Меня колотило крупной нутряной дрожью. Окоченели пальцы рук и ног, а до разъезда нужно было тащиться часа два-три. Я решил зайти к товарищу детства, Артамону Нохонову. «Заночую, – решил я, – а утром встану с рассветом и с первой электричкой домой укачу».
Крупный деловой лес сменился непролазным мелколесьем и горелым сушняком. Пахло гарью, перебродившим гнилым листом. Показалась с детства знакомая тропинка с заросшими колеями, еле различимыми следами копыт. Когда-то здесь проходила лесная дорога.
Я свернул на коровий прогон и скоро увидел там, впереди, крыши домов и редкие, как в парной бане, радужные огоньки, – увидел и обрадовался несказанно! Казалось, что я не был здесь целую вечность, невольно прибавил шагу, точно кто-то ждал меня в деревне.
Вот уже кончился чапыжник, трухлявые пни, поросшие метлицей, показался деревянный мост через овраг. И вспомнилось вдруг, как на дне этого оврага, у родниковой звонкой речки пекли с Артамоном картошку на костре, ловили колосной кошелкой пескарей и вьюнов. И как-то особенно явственно пришла на ум частушка, ее часто певал мой друг:
- Купил новые портки —
- Ко мне девки привязались:
- «Что за брюки, покажи!»
Напевая мысленно частушку, вошел я в деревню и увидел вместо пятого дома с краю заросли густой лебеды и глухой крапивы – все, что осталось от родного дома, сгоревшего в сорок втором в разрыве артиллерийского снаряда. Помню, приехал на побывку с фронта и увидал вместо родного гнезда – прах. Мать тогда жила в примаках у соседей. Я отворил калитку соседского дома, она мыла над бадьей пожелтевшую, бывшую когда-то белой овчины кацавейку… Увидела меня, охнула, прижала руки к груди, отступила на шаг, потом кинулась ко мне: «Гена!» – «Мама!»… Все это так живо встало в памяти, что я невольно остановился. Норовил разглядеть что-то среди полыни, но было уже и совсем темно, лишь виднелся мокрый снег и яма вкруг обгоревшего бревна. Я отвернулся, тяжелые чувства сдавили горло. Пошел по деревне, спотыкаясь на колеях. В густом сумраке послышались стук ведра о колодец и женские голоса с тем певучим и акающим говорком, каким до сих пор говорят по российским весям. Подошел, спросил:
– Где живет Артамон Нохонов?
Женщина в телогрейке показала на высокий дом с коньком и ярко освещенными окнами. Я двинулся вперед, не разбирая дороги. До слуха долетело:
– Это чей мужик-то?
– Кто его знает! Ишь, шаты-шатает по лесу…
«В родном селе не признали», – с грустью подумалось мне. С трудом перевалил я расквашенную осенними дождями и тракторами дорогу, остановился в нерешительности перед окнами Нохоновых. Захлебываясь от злобы, хрипло забрехала собака, загремела длинной цепью и неожиданно подкатилась мне под ноги – казалось, разорвала бы в клочки. К счастью, вышел хозяин на крыльцо, крикнул срывающимся альтом: «Отрыжь!»
– Проходи, не бойсь… Он не укусит, смиренный. Так, для острастки брешет, поганец, – Артамон говорил гостеприимно, внимательно приглядываясь и не узнавая меня.
Взойдя на крыльцо, я проговорил, волнуясь:
– Здорово, друг ситцевый!
Он смотрел на меня прищурясь, потом порывисто обнял за плечи. Руки у него были жесткие, мозолистые – прежние, а щеки небритые…
В сенях ярко светила лампочка. Артамон стащил с меня ружье, задубевший от холода и сырости балахон и, увидев привязанного к поясу зайца с запекшейся кровью на шерсти, кинул на него быстрый боковой взгляд.
– Заходи, ужинать будем, – сказал он армейской скороговоркой, поспешая в горницу.
Эта резкая перемена его настроения поразила меня как гром. «Что-то нехорошо посмотрел Артамошка, – подумалось мне, когда я стягивал нога об ногу размокшие сапоги, – То ли не рад, то ли переменился к старости». В кухне я остановился у печи под полатями. Мокрые брюки оставляли грязные полосы.
– Здравствуйте, Геннадий Ильич! – пропела, подходя ко мне, жена Артамона, ладная, моложавая еще женщина, с высокой прической и крупной грудью. – Сразу и не узнаешь тебя. Так-то на улице встретились бы да разошлись? Проходи, гость дорогой, садись к столу. Артамон, кинь-ка там из сундука портки сухие.
В горнице было домовито, чисто. Во всем чувствовалась прилежная женская рука. Пахло свежими сосновыми бревнами, мхом и краской. Дарья засыпала меня вопросами, вспоминала прежние годы, смеялась и ухаживала за мной, как пристало бы и родной сестре.
– Соловья баснями не кормят, – подмигнул Артамон. – Беги-ка, Дарьюшка, в сельмаг за «блондиночкой». Пригубим по рюмашке, вот и будет хорошо!
– Поспеешь, дай наговориться-то всласть!
– Надо царапнуть по черепушке, дерябнуть, тогда и спрашивать, – шутил Артамон. – Что он тебе на сухую-то растолкует?
Дарья спорить не горазда, сняла с вешалки сак и ушла.
– Бабы, они бабы и есть, – говорил со смущенной улыбкой Артамон. – Возьми хоть мою: поболтать – хлебом не корми…
Мы курили крепчайший самосад, говорили сдержанно, толково. И Артамон уже не казался мне таким позабытым, строгим, как в начале встречи. Отогрелся я, отошел душой в уютной горнице друга. Мельком взглянул на печку – заметил две детские головенки, выглядывающие из-под цветастой занавески. Артамон перехватил мой взгляд и начал рассказывать с обидой на свою дочь:
– Оба Наташкины, дочки моей… Она, бесстыдница, зад об зад со своим Ванькой и – кто дальше. Сама, халява, хвост морковкой и в город залилась. И – диво дивное, – домой не дозовешься! А позволь спросить, чего она забыла в городе-то? Да у нас в Ольховке летом рай! И лес, и речка, сады при каждом доме… Ребятишки ждут, спрашивают про мать, а что я им скажу, а?
Я из-под руки глянул на своего друга, и жалость забрала: пожелтел, высох… А он тихим, трогательным голосом продолжал.
– И Ванька, мужик Наташкин, как выпимши – ко мне прется. Придет и к ребятам со слезами. Пла-ачет, горюн, рекой разливается. Я, гырьт, Наташку по гроб жизни не забуду и детишек себе заберу. А куда заберет-то? Ведь порток сам себе не простирает. В доме беспорядок: грязь, хлам, стыд сказать, что такое! Солдат с винтовкой пропадет. Вот какие, брат, дела-то… – беспрестанно кашляя и вздыхая, заключил Артамон. – Если так и дальше пойдет, ты, Гена, одного друга недосчитаешься.
Папироса дрожала в его руке, он не мог говорить.
– Тебя?
– Меня!
– А что такое?
– Хвораю ведь я, давно, слышь-ка, хвораю…
– Да ну тебя к богу в рай. Крепче будь!
Хлопнула дверь в сенцах, вошла Дарья и позвала Артамона в кухню. Густо запахло варевом, луком и еще чем-то сложным, острым. Тяжелая люстра, точно большая перевернутая вверх дном тарелка, ярко освещала горницу. В простенке блестели глянцем фотографии в рамках красного дерева, а в переднем углу висела на кнопках картина, напомнившая мне детство: дети стоят у костра и варят картошку в щербатом чугунчике. Рядом с костром куча хвороста. Малиновое пламя озаряет лица, ситцевые рубашонки, босые ноги, утопающие в мураве. От этой лубочной картины, намалеванной когда-то Артамоном, повеяло чем-то близким и до боли родным. Напротив, у окон, грузной горкой распласталась деревянная кровать, убранная со вкусом, – так и хотелось тотчас, не ужиная, развалиться на ней. Над кроватью – ковер кирпично-красных и зеленых шерстей… И я подумал, что Артамон живет, в общем-то, хорошо, крепко живет. Так в чем же дело? Только ли в дочери?
Стало скучно сидеть одному в горнице. Дарья и Артамон торопились, готовили ужин. Тут я вспомнил о зайце, убитом на охоте, и решил освежевать его. Вышел в сенцы, привязал лапки к решетнику и довольно долго снимал шкурку, старательно подрезая тонкие белые спленки. Потом единым махом распустил брюшко повдоль, и лиловые кишки влажно заблестели под лампочкой. Молодой заяц оказался на редкость жирным, сочным. Шкурку я отнес в уголок, сбой сложил в ведерко и вошел на кухню с тушкой. Дарья хлопотала у печи, Артамон сидел на лавке и резал на колесики соленые огурцы-корнишоны над большой разлатой тарелкой. С чувством бахвальства, присущим каждому охотнику, я подошел к Артамону, поднес зайца к глазам и сказал:
– Глянь-ка, Артамоша, славное жаркое?
Заячья тушка роняла капли крови. Одна упала Артамону на руку. Он медленно отвернулся, побледнел лицом и вдруг кинулся к лохани с помоями, зажав ладонью нос и рот.
– Убери! – его душили рвоты.
Я оторопел. В первую минуту хотел окликнуть Артамона, спросить, что случилось. Понюхал тушку. Заяц как заяц, свежий, ароматный… Дарья, бросив ухват в угол, поспешила ко мне и, вцепившись в рукав, потащила вместе с зайцем в сени. Вытирая мокрой ветошкой кровь с половиц и густо посыпая пол хлоркой, она говорила:
– Извини ты его. Болен он. С самой войны мается… Крови и на дух не переносит…
– Старые раны?
Я ничего не понимал, стоял как вкопанный.
– И раны, и эта самая ал… Аррелгия привязалась.
– Аллергия?
– Ну да. И что за зараза такая. До войны и слыхом о ней не слыхивали… Мясного – куска в рот не берет. От одного запаха ломает его, места себе не находит. Дома, считай, и не живет. Все на работе, все на пчельнике, все от мяса спасается. Осень, по селу-то скотину режут, боровков палят.
– Вон оно что! А ребятишки? Неужто и они постятся? – зачем-то спросил я, словно бы извиняясь за свою недавнюю оплошность и все еще не веря.
– Ну-у… постятся… Зачем… Едим. Вот проводим Артамона на пасеку, соседа позову, баранчика забьем. Ребятам без мяса никак невозможно, растут. Да и сама я страсть люблю щи наваристые!
Все это время она тщательно полоскала кровавую ветошку.
– Так с войны это?
– С войны… Как пришел с госпиталя, и сам мучается, и нам с ним беда…
Дарья все говорила, говорила, вздыхала. Густой запах хлорки першил в горле, до слез точил глаза. Я взялся помочь хозяйке, протер чистым рушником вымытые с мылом руки, делая это с особой тщательностью человека виноватого.
Как Дарья ни спешила, как ни старалась она, все же запах свежины успел устояться в сенцах. «Дернула меня нелегкая гостить так неудачно…» – ругал я себя в душе. Брезгливо спрятал руки за спину, точно совершил убийство. Убрав мокрые тряпки и копаясь в ведре со сбоем, Дарья разговаривала громко:
– Хошь верь, а хошь нет, а убитого зайца вижу впервые. Охотников-то, сам знаешь, у нас сроду не бывало. Ведь это баловство одно, весь день лодыря гонять по лесу. А свежинка хороша! Теперь бы эти отходы почистить, помыть да щей из потрохов сварганить. Эх и хлёбово! Ребятишек за уши не оттащишь.
– Ох, гибну! Ох… – слышалось из горницы.
– Ну, заойкал, – с сердцем сказала Дарья. – Потерпишь, не впервой.
С этими словами хозяйка поспешила сложить все добро во флягу из-под молока, плотно закрыла и тушку, и сбой, вытерла крышку чистой тряпицей с хлоркой.
…А из горницы все продолжался стон. Мы еще раз вымыли руки с мылом и вошли в комнаты. На лавке перед окном, навзничь, лицом вверх лежал Артамон и самыми солеными словами ругал себя и болезнь. Щеки его сделались одутловатыми и белыми, точно плат, глаза запухли – жалко взглянуть. Он лежал и ругался в черта, в бога и в больницу, и, когда его отборная брань уже мало-помалу потеряла свой смысл и цену, а слова перестали казаться обидными, вот что услышал я.
– И болезнь-то не как у людей, – стоном стонал Артамон. – Вначале признали подагру, ан нет, не подагра. Прилипчивая, как чума…
– А не лечишься!
– И-и! Не лечишься, что толку!
С печи, хоронясь за занавеской, со страхом и любопытством смотрели на деда внучата. Наконец он отдышался, тяжко встал с лавки, потянулся к столу.
– Аллергию будем лечить… – мрачно пошутил Артамон. Выпив, он повеселел, придвинулся к Дарье, все еще сидевшей с рюмкой в руках.
– Пей, Дарья Ивановна, не церемонься. Первая идет колом, вторая соколом, а третья мелкой пташечкой.
– Похоже, оклемался, – с улыбкой глядя на мужа, сказала Дарья. – Смотри, кабы хуже не было…
– Отутбил, отошел! – весело крикнул Артамон. – Ты, Дарья, не боись, от водки кровь густеет и шея толстеет!
– Шея у тебя ровно у паровоза, – поддержала шутку Дарья. – Не подумай, что толстая, – такая грязная.
Я посмотрел на приятеля, на его шею: тонка, точно у подростка, с замысловатыми морщинами, несмотря на осеннюю пору – загорелая до черноты. Под мочками ушей трепетно и слабо бились набрякшие венки. Он ковырялся вилкой в салате из свеклы, резанной ломтиками, соломкой и шашечками, ел мало, а говорил много; так и сыпал присказками да поговорками, наконец и вовсе отложил хлеб.
– Захорошело, – сказал он радостно. Погладил себя по животу и запел частушку:
- Девушки вы, девушки,
- Не будьте ревноватые,
- Любите раненых ребят,
- Они не виноватые.
Но забрал высоко, сорвался на фистулу, разом осадил голос и закашлялся. Крепко стукнул кулаком по столешнице, с хрипом выдохнул:
– Эх, не забыть нам годы боевые!
– Забрало, однако, – жалостливо и недовольно проворчала хозяйка. – Теперь всю ночь будет зубами скрипеть, родимец. Детишкам уж спать пора.
Ребятишки запросили пить. Дарья поила их молоком из крынки. Артамон сидел, облокотясь на стол, думал о чем-то своем. Когда все смолкли, он закрыл дверь горницы, растолкал створки окна – пахнуло свежестью первых заморозков. Ни звука, ни огонька, ни движения. Ночь в Ольховке черна, как пропасть.
– Что же это такое, Артамон? – спросил я. – Ты же всегда такой задорный был…
– Буян… да… – блеснул он глазами и дальше – грустно. – Во всем виновата война, мой друг.
Артамон расстегнул ворот рубахи.
– Только она-с-с… Потом пошло-поехало. Сломался, ослаб. Теперь чем дале – хуже…
– Ранило?
– Долго рассказывать…
Я не настаивал. Некоторое время сидели молча, и было слышно, как тихонько звенит-поигрывает электрическая лампочка под потолком. Артамон заговорил внезапно и торопливо. Я с удивлением взглянул на него.
– Наступали ночью… Хлад, град видел. Три года подряд меня смерть по земле хороводила, а тут… Нервы, что ль, сдали? Ночь, тьма, сидели в мокрой траншее. А за нами, за первой ниткой и еще дальше, за пригорком, одна за другой снуют сигнальные ракеты – тонко, как комары, пищат… Хлопают ракетницы, лает где-то мотор самолета, прожектора там и сям щупают светом: хватит ли места для бойни. Кашлянешь и сам слышишь, что звук какой-то чужой, нездешний, как из могилы – такая темь. Вдруг кто-то в ухо как гаркнет: «Шестая, вперед!» Кинулись мы в ночь, в пустоту, в смерть. И знаешь, захотелось вдруг стать маленьким, с кулак величиной, величиной со свое сердце… Не страх… какой там страх, там не до страха, сам помнишь, а вот как-то чертовски весело и любопытно. И еще просто… очень просто все, неужто вот так просто и умирают? И еще: не верится в смерть. В чью-то гибель другого, вот здесь, рядом – веришь, в свою – нет. Такая глупость.
Черт знает с чего я тогда умирать собрался, словно чувствовал… Ну ладно… Бежим молча. Прыг да прыг через канавы. А канавы-то чуть видно. Где один упадет, – там другой прыгает. А по нам за полверсты из миномета… Как бы это тебе передать… Гребень черной земли взвился впереди, и как будто волной кинуло меня вниз лицом… и на голову – грязь. И сыпалась эта самая грязь на меня будто бы целую вечность. Хочу голову поднять, а не могу. Чудится, плыву я по ночному морю, черному-черному. А лодка подо мной плоскодонная, ветхая, с изъяном. Вот-вот, кажется, соскользну с нее, и тогда прости-прощай, швырнет, смоет и зароет в этой непроглядной бегучей мгле… Тут охнул я и повалился куда-то и вовсе вниз, как в преисподнюю. И ничего не помню.
Стал приходить в себя – затылок болит, точно меня поленом чухнули. Рвать стало – сил нет. Так и мутит, так наизнанку и выворачивает. Блюю бог знает чем – желчью, какой-то водицей, едкой такой жижей.
Артамон налил кружку заварки и говорил, держа кружку в руке, разливая по скатерти крутой чай и не замечая этого…
– Оказалось, лежу в воронке. Попробовал сесть – качнулась земля, и так тошно показалось, что и умереть впору. До рассвета я сидел так-то, покачиваясь из стороны в сторону. В голове точно колокол пел и гудел на разные голоса. И до рассвета же не смолкала канонада, а по правую руку стояло зарево. Стихло не вдруг. И знаешь, как я почувствовал, что стихло? Руками! Земля перестала дрожать. Смахнул я грязь с головы, шасть за шиворот – кровь. Снег вокруг талый, а на нем тоже кровь, как тертый красный кирпич, мелко-мелко просыпанный. На руках кровь, вокруг – кровь, и будто даже и само небо в крови. Солнце пекло жестко прямо в лицо. Снег протек через шинель, а меня трясет всего, и чудится, будто это кровь из меня хлещет – одурел, значит, совсем. Язык запух – рот не откроешь, и пить хотелось так, хоть в голос реви. Нащупаю я снег обочь, кладу на губы, схвачу – и сосу. А он крупитчатый, острый, как битое стекло. Сколько так пролежал – не ведаю. Помню только: все несло ветром откуда-то, гарью не гарью, смрадом, да так остро, что на глаза слезы наворачивались. И лежал я в этом запахе, точно во мху: ни вздохнуть, ни голоса подать… Снова рвать стало. «Что такое за притча, – думаю, – ведь во рту у меня уж, почитай, сутки маковой росинки не было».
Артамон поежился от холода, притворил окно и тихим глухим голосом, боясь разбудить жену и ребятишек, продолжал:
– Но это я думал, что сутки, а оказалось – двое. Ничего не ел я и потом, в дивизионном лазарете. Глянуть на еду не мог. А тут еще молодого солдатика доставили, пехотинца. Шустрый был такой татарчонок, без руки, только кровавая култышка. Стон, крики, жалобы – яд! Стал примечать я, что вида крови и вовсе переносить не могу… Увижу пятно на чьей-нибудь повязке, и аж дух займется. И вот что главное: знаю, что и окно открыто, и воздуха вокруг полно, и вот май на дворе, самая цветень и все такое, и любовь, и жизнь – это я знаю… А чудится, пахнет той самой тошной гарью и еще чем-то ядовитым, бьющим в темя.
Раз так-то сижу я ночью, не сплю – ну никак не засыпается. Колотит меня, ровно с похмелья. Дверь открылась, гляжу – доктор. Седой такой старик, как серебряный, и злой, как сатана. Вошел он в палату, спрашивает, чего, мол, сидишь. А я молчу, с открытыми глазами лежу, дом, деревню вспоминаю, и что-то зрела в душе великая обида на всех и вся… На жизнь, на себя… Кто его знает. Смотрю – сел он в ногах моих, пожурил отечески. Откуда? Как? Где семья?
Теплый такой мужик оказался этот доктор. С виду щупленький, а душа большая. «Что же, – говорю, – со мной делается, мать честная! – это я-то ему. – Что за зараза такая, чума въедливая!»
И нашел же этот самый доктор что сказать мне. Про себя рассказал… Много… Большущий человек. Умница.
Утром передвинули мою кровать к окну. Потом и вовсе выставили по моей же просьбе, поместили в деревянном домишке – госпиталь-то в селе стоял. И ничего, успокоился я, словно у себя дома осел, в Ольховке. Ходила за мной девчушка, худенькая такая, шустрая егоза. Принесет обед, сама сядет рядом, охватит ручонками коленки острые, в рот мне глядит. Глазенки черненькие, с блеском, как тер-новинки. Я на нее, помню, не нарадовался. Подала она мне раз так-то холодной телятины! Как увидел я, обмер и слова сказать не могу. Девчонка в крик – и в двери, за доктором. Тот пришел, улыбается, телятину бросил, меня растер. Гляжу в зеркало – глаза с кровью. Натер он меня спиртом, чтобы, значит, дух мясной отшибить, и говорит: «Голубых ты теперь кровей, русский солдат Артамон Нохонов. Мяса тебе и на дух нельзя. Травку кушай. Увидишь, как голова посветлеет, тело полегчает, и табак свой проклятый скоро бросишь».
Артамон улыбнулся, как мне показалось, через силу, сквозь слезу.
– Голубых я кровей теперь, Гена, на вечные времена. Голубых, порченых… А где же моя-то, красная? Что с ней сделалось? И вот ведь где сволочь – маета: задумаем какую-нито животину зарезать – ярку там, боровка ли, Дарья соседа зовет. Да что там! Курицам головы рубить забыл как. Вот они, брат, такие-то дела…
В горнице стояла угнетающая тишина, лишь мерно стучали ходики. Спать не хотелось вовсе. Артамон вдруг взбодрился, точно оторвал от себя что-то.
– Ну что приуныл, друг сердешный? Вот как в гости-то ко мне ехать к такому-то. Небось думаешь: распустил нюни Артамоша, расплакался в жилетку, хлюпик… Ну, ну, это я так, к слову. Ты про себя-то, про себя мне еще не рассказал. Что, богат? Женат?
– Живем-колотимся, жуем-торопимся, глотаем-давимся, никогда не поправимся!
Артамон засмеялся.
– Ну, ин будь по-твоему. Не поправимся, так не поправимся. Давай-ка почивать, гость дорогой. Завтра я тебе хозяйство покажу, пасеку. Я, брат, весь колхоз медком радую. Имей в виду, радую… Ох и медок! Весной чистый, янтаревый, гречишный.
Часу в четвертом мы укладывались спать, как братья, на широкой деревянной кровати. Меня поразила белизна, старческая худоба моего друга, его точеная фигурка с лиловыми шрамами между лопаток… Я внутренне ахнул.
Артамон, точно стыдясь своей наготы, подошел к простенку, щелкнул выключателем. Заснули не враз. В ночи он все вставал, курил…
– Теперь бы жить да жить, – говорил он. – Дом, огород, садик. Деньжата у Дарьи в загашнике не переводятся. Наташка вот только… Прямо беда с ней. Да эта кровь еще моя, голубая, прокисшая, пополам с войной размешанная.
Я долго не спал. Терпеливо лежал, точно дожидался, когда выкроится из ночной тьмы синий четырехугольник окна… В дремоте Артамон и впрямь все скрипел зубами, бормотал, а утром встал чуть свет, и мы, еле разломавшись, ушли с ним на пчельник утеплять омшаник.
Знак
Кузьма Лукич заходил в дом и, не замечая меня, семилетнего мальца, здоровался с бабкой и дедом. Ставил в угол суковатый батожок и устремлялся в горницу…
Высокий, сутулый. Он зарос густой и широкой рыже-русой бородой. Круглые, со слезой, глаза, стриженная овечьими ножницами голова имела форму улья. Я не спуская глаз смотрел на Кузьму Комкова, на его нечесаную, с проседью, бороду, широкое лицо, горбатый нос и глубоко посаженные острые глаза. Пронзительная улыбка.
Садился он на лавку широко, основательно, как будто навсегда. Уставившись на деда своими колючими прозрачно-коричневыми глазами, как у филина, Лукич улыбался, спрашивал деда о колхозных делах, но разговор не налаживался. И тогда Кузьма вынимал из бокового кармана допотопную склянку с самогоном, замысловатую и граненую, ставил на стол. Дед мой оживлялся, приносил стаканы, и бабка начинала заводиться – ворчать так, чтобы слышал Кузьма.
– И чего ходит? – ныла бабка. – От делов отводит… Вот и ходит, и ходит…
– Мать, а мать, – по возможности ласково и сердечно просил мой дед бабку – он называл ее «мать», – дай-ка нам чего-нибудь зажевать, занюхать чего-нибудь…
– Вот как сойдутся пара – лапоть да сапог, не разлей вода… И все «дай» им! А чего я вам дам? Так вот пили бы и пили, да вот болтовня и курятина…
Бабка лукавила. «Болтовня и курятина» бывала не часто, только на праздники: престольные или советские, и тогда бабка, покончив со всеми делами, сама уходила к соседке, не могла она терпеть подвыпившего деда, не в меру разговорчивого и храброго. Но и в простые зимние вечера временами горницу наполнял табачный дым, зависал под потолком облаком, на полу валялись оплеванные окурки, взрывы хохота приводили бабку в трепет, терпение ее раскалывалось, истощалось.
– Мужики, – растворяя дверь из кухни в горницу, совестила бабка, – мужики, ай не стыдно в чужих людях сидеть до глубокой ночи? Дайте хоть поужинать спокойно. Поди-ка, и в уборную захотели?
И тут же накидывалась на главного виновника сборищ, на деда:
– А с тобой, доходяга, я после поговорю! Я тебя сковородником приласкаю!
И когда страсти накалялись, ссора набирала силу драки, мужики нехотя уходили…
Но самым главным и желанным слушателем был дед Кузьма. Тут открывались самые сокровенные дела и думы. Даже и в брежневские времена, когда, по слухам, снова начали хватать за болтовню, открывались подкладки совсем не героической стороны прошлой войны. Один из таких дней особенно запомнился мне.
– …Слыхал, что наговорили тут эти вояки? – спрашивал дед Терентий никогда не воевавшего Кузьму, случаем ли, хитростью увернувшегося от призыва. – Слыхал? – спрашивал дед после очередного сборища. – Прямо жуть берет, герои. Когда войны и в помине нет. Языки они брали, штабы громили, кровь мешками проливали! А им было-то тогда кому двадцать, а кому и поменьше. Моему старшему и средненькому ровесники. Как же, и я понимаю, худо им было. У самого двое сыновей погибли, два брата и племяш. Да эти-то все на фронт попали когда?
– Когда? – переспрашивал Кузьма без интереса.
– Когда уже поперли немцев: сорок третий, сорок четвертый, вот когда. А вот когда от них драпали, худо им было, необстрелянным-то.
… Все это, и приход Кузьмы Лукича в тот день в наш деревенский дом, и двух стариков-инвалидов: один – с культей, другой – без ноги, не любивший искусственных «непослушных» протезов, а носивший самодельный, как в дупло втыкавший туда культю левой ноги, – живо вспомнилось мне теперь, когда я прочитал в газете «Неделя» за май этого года статью. Как по сердцу ударила: «Порядок клеймения». В 1942 году, 20 июля, вышел приказ Верховного командования сухопутных сил. Берлин – Шенеберг: «Советские военнопленные должны быть клеймены особым устойчивым знаком. Знак состоит из снизу открытого острого угла, около 45 градусов и 1 см длины, на левой половине ягодицы, на расстоянии пяти пальцев от заднего прохода. Знаки делать ланцетами, какие находятся в каждой воинской части. В качестве краски употреблять китайскую тушь…»
Это был праздник, верно, День Победы, и бабка не ворчала на то, что все четверо – и Кузьма, и дед, и двое инвалидов – все были под хмельком. Она все что-то подавала на стол, то и дело меняла щи, картошку, жесткую желтую солонину с аппетитным мясцом и лубяной шкуркой резала ломтиками, а я делал вид, что учу уроки.
Бабка приносила грузди ароматные, исчерна розовые в рассоле, и пухлые оладушки. От самогона отказывалась, ее неволили, силком усаживали на табуретку, она пригубила, намочила язык и замахала ладошкой: «Ну яд, как есть яд…»
В конце концов не выдержала, увела меня из горницы, отгоняя ладошками дым от самосада, затворила за нами дверь в кухню, а я приладился с уроками на краешек подоконника. В горнице дым стоял коромыслом. Друзья прикладывались к самогонке по единой, но неоднократно. Они перебивали друг друга, спорили, упрекали. Наконец опустела огромная диковинная склянка, и, очевидно, воспоминания о войне в тот день достигли самой высокой точки, апогея.
– Ха-ха-ха, – громко смеялся дед Кузьма, – верно, верно, я вспомнил, вас тогда шестерых забрали…
– Да ты слушай, Кузя… На фронт-то забирали кого в чем: старенькие сапоги, телогрейка. В шапках, годных только на галчиные гнезда. А в холщовых сумках за плечами – яички, сухарики, пышечки-фуишечки… Негусто. А осень была мокрая, будто небо плакало об нас, горемычных, всем было кому под сорок, а кому и больше. У меня пятеро оставались, навострили тогда сдуру. Всей деревней провожали, море слез выплакали. Мой младшенький влепился в меня: «Тятька, возьми меня с собой». В военкомате разделили всех по спискам, двое только и вернулись: Семен Таракан без ноги, да я из плена. От Сонино часов пять шел. Доходяга, будто кровь из меня выцедили.
Двое инвалидов из соседнего села курили молча и сумрачно. Я делал вид, что тружусь над прописями, а сам напряженно вслушивался.
– А меня бог миловал, – весело, смеясь, говорил дед Кузьма, как бы нарочно хвалясь: какой он все же хитрый, умный, лучше всех из Выселок. – Бог миловал. Спасибо, я мужик такой ловкий…
– Ты сам себя миловал, ловчил, – оборвал его дед Терентий. – Я же один раз комиссию проходил с тобой в сорок первом. Чего ты так вырядился-то? Помнишь? Одна нога в сапоге разбитом, другая в калоше старой на веревочках. Все норовили почище одеться, помылись в бане, а тебя как из нужника вытащили.
Мужики все загудели недовольно.
– Я тогда золотарем был…
– Да знаю, что не комиссаром. Ты и сейчас-то все плутуешь, выгадываешь.
Мужики заговорили громко, все больше хмелея. Пустой посуды на столе было много. Из четырех братьев деда моего погибло двое, а дед был в плену фашистском, погибли два племянника, один пропал без вести. Словом, за дверями в горнице счет шел громкий, старики ошибались, поправляли самих себя, а мы с бабкой скучно сидели в кухне и хлебали жирные щи с оладьями. Вдруг слышим – плач не плач, смех не смех… «Ну-ка глянь, чего он там, дед-то… Вот горемыка-то, – ворчала бабка незлобиво, – чего-то выкозюливает, глянь-ка».
Дед показывал клеймо точно на том месте, как приказывал шеф Верховного командования сухопутных сил, согнувшись, а мужики смотрели и почему-то смеялись. А дед плакал и ругался. Китайская тушь уже плохо была различима на ягодице левой половины, но было заметно.
Очевидно, бабка не знала о клейме, дед не показывал и ни в оттепель, ни после никому не говорил, а в баню ходил всегда один и после всех. И хотя вся деревня знала, что он был в плену и что его систематически таскали в районное энкавэдэ, тайну знака он не выдавал, совестился, что ли, не хотел ли бередить душу, бог его знает. А тут, по пьянке, при долгой беседе, да еще в такой день, не выдержала душа обиды, не теленок ведь, человек…
Сидели за плен не все. Деда только «таскали», как он говорил тогда бабке: спрашивали всё одно и то же, записывали и бумаги сверяли.
– Ну, чего он там притих-то? – спросила бабка, когда я вернулся в кухню. – Чего, язык-то корова отжевала?
И когда сама, громко закрыв печь заслонкой, раскрыла дверь, посмотрела в горницу, начала ругаться:
– Ка́пли пить нельзя, хоть ополосни и в гроб положи, а вот неймется. Эка надобность зад мужикам показывать?! У всех раны есть: тот без кисти, этот без ноги…
– Молчи, дура, дура стоеросовая! – озлился дед. – Ты знак посмотри, не видала же…
Бабка уже плохо видела след далекой беды, но и она как-то сникла, заплакала, схватила зачем-то меня за руку и увела в кухню. И чего с ней никогда не было, вдруг налила в стакан граммов сто и залпом выпила. А выпив единым духом, вытерла уголком платка глаза и губы.
В горнице стало тихо, как будто там никого не было, хромали ходики. Через минуту-другую дед скрипучим тихим голосом сказал бабке:
– Эй, Ильинишна, принеси-ка нам, у нас тут вся!
И бабка, всегда ворчливая, недовольная, вспыхивавшая, словно береста на огне, от слова «вся», как-то порывисто, как молодая, снялась с лавки, мельком взглянула на причудливую склянку Кузьмы Лукича, трогательно и неловко прижимая к плоской своей груди, принесла начатую когда-то из заначки бутылку очищенной настоящей сельповской водки и отдала старикам.
Все это запомнилось зримо: и еле заметный уголок на левой ягодице деда, и угрюмый инвалид с оборванной кистью, и деревянный протез хромого с резиновой набивкой снизу…
Многое случилось и после этого за двадцать лет моей жизни, но вот этот знак: открытый острый угол, верно, много раз подновляли, размывая тушь. А как это делали, дед рассказывал со слезами, трезвый же – никогда и никому. И это, если понять его стыд, была и в самом деле глубокая трагедия человеческой души. И вот я выписал из той же «Недели» статью полувековой послевоенной давности: «Порядок клеймения таков: стянутую кожу намочить китайской тушью, потом поверхностно колоть раскаленной ланцетой. Для устойчивости знака каждые 14 дней, 4 недели, 3 месяца знак проверять и по необходимости возобновлять. Это мероприятие не должно мешать работе. Поэтому клеймение работающих провести по возможности в бараках рабочих команд или при следующей дезинфекции». Так приказал шеф Верховного командования.











