Читать онлайн Введение в кардиофизику
- Автор: Андрей Москаленко
- Жанр: Кардиология
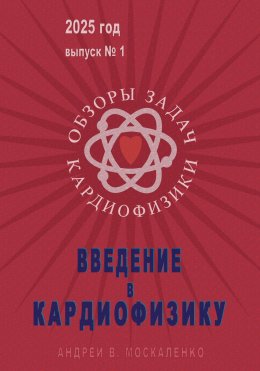
Вступительная статья от Редакции
Создатели серия статей «Обзоры задач кардиофизики» поставили себе целью донести до широкой общественности актуальные сведенья о новом научном направлении XXI века, получившем название «физика сердечно-сосудистой системы», или для кратности «физика сердца», «кардиофизика». Необходимость формирования этого нового научного направления была обусловлена стремительным развитием науки в XXI веке. Физика сердца призвана произвести ревизию знаний, сформированных прежде в рамках так называемой «биофизики сердца». Обозначенная цель побуждает нас искать такие формы подачи материала, которые оказались бы в равной степени понятными и для практикующих врачей и для специалистов физико-математических дисциплин, а также и для обычных в достаточной мере эрудированных читателей, интересующихся современными научными тенденциями. Собранные от продажи выпусков «Обзоров задач кардиофизики» средства пойдут на содействие развитию российской кардиофизики
Создатели серия статей «Обзоры задач кардиофизики» поставили себе целью донести до широкой общественности актуальные сведенья о новом научном направлении XXI века, получившем название «физика сердечно-сосудистой системы», или для кратности «физика сердца», «кардиофизика». Необходимость формирования этого нового научного направления была обусловлена стремительным развитием науки в XXI веке. Физика сердца призвана произвести ревизию знаний, сформированных прежде в рамках так называемой «биофизики сердца». Обозначенная цель побуждает нас искать такие формы подачи материала, которые оказались бы в равной степени понятными и для практикующих врачей и для специалистов физико-математических дисциплин, а также и для обычных в достаточной мере эрудированных читателей, интересующихся современными научными тенденциями. Собранные от продажи выпусков «Обзоров задач кардиофизики» средства пойдут на содействие развитию российской кардиофизики
Побудительные мотивы создания этой тематической серии обусловлены рядом обстоятельств, – часть из которых можно считать классическими примерами так называемые «вечных проблем». Прежде всего, новым идеям во все времена обычно бывает непросто пробивать себе путь к признанию, вне зависимости от их конкретного содержания, – касалось ли дело летательных экспериментов Икара, гелиоцентрических идей Николая Коперника или ещё чего подобного.
Препятствия на пути новых идей возникают по причинам, в основе которых лежит принцип сиюминутной выгоды. Можно указать два основных аспекта воплощения принципа сиюминутной выгоды в сфере новых научных идей:
1. Живому автору идеи окружающие его соплеменники должны были бы выплачивать некоторое ощутимое вознаграждение в случае прижизненного признания. А вот после смерти автора платить ему как бы уже и нет надобности; однако воспользоваться его наработками становится возможным для «последователей» к их личной выгоде, и даже появляется у таких «последователей» возможность для театральной демонстрации «праведного гнева» в адрес «недалёких и коварных» современников автора. (Кстати, этот аспект был великолепно обыгран в знаменитом советском фильме «Тот самый Мюнхаузен» 1979 года выпуска.)
2. Если академики и профессора станут выказывать признание инновационных идей современного им автора этих идей, это одновременно окажется и признанием того обстоятельства, что их приверженность прежним ошибочным теориям была проявлением некоторой их собственной недальновидности, мягко говоря. К сожалению, даже за всю историю существования науки найти возможным оказывается лишь весьма малое число людей в научном мире, которым была свойственна столь самоотверженная преданность науке и столь высокий уровень гражданской смелости, чтобы открыто признать свои заблуждения.
Поэтому решение об организации «Обзоров задач кардиофизики» было принято, дабы обойти бюрократические препоны – то есть различные административно-организационные манипуляции, используемые недобросовестными коллегами по цеху. Редколлегия выражает надежду, что к формированию текстов серии «ОЗК» вскоре подключится большее число единомышленников.
Кроме того, лично мне как автору всегда не хватало количества страниц, которое могли отвести составители книг мне в качестве соавтора. Например, в опубликованной главе в книге по аритмологии (2021, Москаленко) мне удалось склонить Андрея Вячеславовича Ардашева пойти навстречу моим просьбам в смысле допустимого объёма, – и я написал практически раза в два больше страниц, чем было отведено каждому автору изначально. Тем не менее, мне и того оказалось мало, и пришлось мне жёстко резать свой текст перед отправкой его главному редактору. Ещё более жёсткие требования на объём текста и на стиль изложения накладывают издательства периодически выпускаемых научных журналов; этот так называемый «жанр научной статьи» в рамках «научного функционального стиля» хорош, наверное, в тех пределах, для которых он был исторически сформирован; однако, увы, он ограничивает даже передачу знаний в соседние и смежные подразделы наук. А уж передача интересных и полезных сведений так называемому рядовому читателю оказывается в рамках более строгих жанров функционального научного стиля и вовсе практически полностью заблокированной.
Все эти обстоятельства и привели к идее выпуска такого регулярного (хотя и не периодического) издания, которое содействовало бы скорейшему и благоприятному развитию новой области научных знаний – физики сердца, или кардиофизики
Здесь, в первом выпуске серии, будут изложены сведения из истории становления физики сердца в мире и в России, а также кратко разъяснены основные концепции кардиофизики, – которую, несомненно, рассматривать следует как неотъемлемую часть современной теоретической кардиологии. Таким важным понятиям кардиофизики как автоволновая функция сердца, эквивалентный генератор основного ритма сердца, электрический мультиполь сердца, АНИ-метод, обобщённый спектральный анализ надеемся посвятить отдельные выпуски «ОЗК», чтобы глубокий смысл этих понятий сделать максимально доступным для практического использования в первую очередь врачами – клиническими аритмологами, кардиохирургами и даже поликлиническими терапевтами. Серия «ОЗК» предполагается скорее как площадка для обсуждения новейших тенденций в развитии современной кардиологии, в первую очередь теоретической кардиологии, – а вовсе не как хрестоматия догм прошлых веков, подобная многим учебникам и монографиям по кардиологии. Надеемся на активное участие коллег-кардиофизиков в качестве авторов будущих наших выпусков.
С уважением,
Ваша «Дорогая Редакция»,
в лице главного редактора выпуска А. В. Москаленко
Введение в кардиофизику
А. В. Москаленко
Использованные сокращения
Хотя автор этого обзора старался материал излагать в научно-популярном жанре научного функционального стиля, всё же весьма полезным для удобства читателей представляется в лучших традициях строгих научных публикаций предварить основной текст перечислением сокращений, использование которых автор счёт уместным.
БП – бифуркационная память.
ВСР – вариабельность сердечного ритма.
ДСТС – дисплазия соединительной ткани сердца.
ОЗК – наша серия статей «Обзоры задач кардиофизики».
МРТ – магниторезонансная томография.
ПД – потенциал действия, возникающий на мембранах живой клетки электровозбудимых тканей биоорганизма.
САУ – синоатриальный (синусовый) узел сердца.
УЗИ – ультразвуковое исследование.
ЭГОРС – эквивалентный генератор основного ритма сердца.
ЭЭГС – эквивалентный электрический генератор сердца.
Предисловие. К вопросу о развитии языка науки
Легко можно проследить, что развитие научных знаний сопровождается всегда и развитием средств речи, используемых для описания накапливаемого научного опыта – развитием языка научной речи.
Как утверждал Карл Бюлер (1993, Бюлер), человеческая речь – это органон! Словом «органон» называют некоторый материальный объект, который специальным образом подготовлен и позволяет улучшить функциональные способности естественных органов биологического тела, то есть представляет собой инструмент. Например, копьё или молоток позволяют улучить свойства человеческой руки; микроскоп позволяет улучшить свойства человеческого глаза… Карл Бюлер пришёл к убеждению, что речь тоже является органоном, подобно молотку или кисти художника, – и языковой знак рассматривается Бюлером как инструмент, посредством которого «один сообщает другому нечто о вещи». В качестве инструментального средства речь выполняет одновременно три функции (1993, Бюлер, с. 34): 1) это символ, в силу своей соотнесённости с предметами и положениями вещей; 2) это симптом, в силу своей зависимости от отправителя и 3) это сигнал, в силу своей апелляции к слушателю.
Именно речь и формирует всю картину реальности в человеческом сознании, апеллируя к слушателю с призывом о доверии к версии, излагаемой рассказчиком. Согласно максиме, прозвучавшей в фильме «В пасти безумия» (1994): «Реальность — это всего лишь то, что мы рассказываем друг другу о ней» (ориг.: “A reality is just what we tell each other it is”). Неверно подобранные слова создают ошибочную картину реального мира. Ретранслируя друг другу неверными словами свой опыт, люди формируют мифические картины в сознании друг друга. В частности, такие мифические картины, созданные ещё в XVII—XIX веках великими естествоиспытателями тех времён, ретранслируются до сих пор в учебниках физиологии и медицины, несмотря на значительные концептуальные изменения в таких фундаментальных науках, как физика и математика. Роберт Дилтс указывает (2010, Дилтс, с. 75): «Влияние убеждений на нашу жизнь огромно. Помимо того, они почти не поддаются воздействию обычной логики или рационального мышления», – чуть ранее поясняя, что термином «убеждения» он обозначает «тесно взаимосвязанные обобщения относительно причинно-следственной связи», то есть, с моей точки зрения, в русскоязычном переводе следовало бы в данном случае использовать термин «предубеждения» или «предрассудки». Такие предубеждения существуют и в каждой отрасли науки, частенько существенно ограничивая развитие научных знаний.
В любой отрасли научных знаний существует некая своя система утверждений, которые сами ни из чего не следуют, но при том логически приводят ко множеству различных выводов, совокупность которых и формирует данную науку: её язык, её повести и рассказы, её сказки, мифы и легенды. Такого рода утверждения создают основу данной науки, – или, иными словами, являются для данной науки основополагающими (фундаментальными, базовыми). В такой строгой науке, как математика, базовые утверждения оформляются в виде системы аксиом. В физике – в виде постулатов. В науках менее точных базовые утверждения обычно оказываются оформленными менее аккуратно, однако они легко позволяют себя обнаружить тем, что исследователи на них ссылаются, когда пытаются высказывать какие-то иные утверждения. Но как раз отсутствие явной декларации таких основополагающих утверждения часто приводит к ошибочным научным суждениям, когда, например, математик пытается делать выводы относительно биологических систем, или биолог – о свойствах математических объектов. Но и в своей области научных знаний специалисты также оказываются весьма часто отягощены внушенными им во время обучения предубеждениями, сформировавшимися ранее по причине нарушения тех или иных законов логики; на мой взгляд, в науке чаще всего приходится сталкиваться с логической ошибкой предвосхищённых оснований.
Когда в первый раз в главе для коллективной монографии профессора Ардашева (2009, Елькин, Москаленко) я поместил текст о мифах науки, порождённых несовершенством используемых языковых единиц, то был уверен, что это наблюдение можно считать моим маленьким личным открытием. Однако через несколько лет мне попалась уже упомянутая книга Роберта Дилтса, в которой обсуждался этот же феномен. А ещё чуть позже мне довелось познакомиться с великолепными монографиями знаменитого Николая Михайловича Амосова, считающегося одним из основоположников советской кибернетики, – и там прямым текстом сказано (1968, Амосов, с. 38): «слово может создавать новые искусственные образы (вернее, их модели), которые становятся более сильными, чем естественные. Так возникают мифы».
В формировании мифов немаловажную роль играет также и явление, которое получило название «ассиметричный дуализм языкового знака». Суть этого часто наблюдаемого явления состоит в том, что получатель сообщения (слушатель или читатель) находит в нём вовсе не тот смысл, какой был заложен в него отправителем (например, рассказчиком, лектором или писателем). Причин таких ошибок в передаче сообщаемого смысла можно указать несколько. Одна группа этих причин связана психологией восприятия; в частности, выделяют подгруппу мотивационных ошибок атрибуции, – когда эмоциональное состояние и мотивационное ожидание приводят к непроизвольному искажению смысла воспринимаемого сообщения. В результате человек, который в роли слушателя неверно понял смысл сообщения, далее, оказавшись в роли рассказчика, своими уже словами передаёт искажённый смысл новому слушателю, – который, в свою очередь, снова воспринимает сообщение асимметрично… Словосочетание «испорченный телефон» уже давно стало устойчивым. А один из законов Мерфи гласит: «Если что-нибудь возможно понять неверно, оно будет понято неверно».
Как минимизировать влияние ошибочных предубеждений и ими порождаемых мифов? Народная мудрость подсказывает, что правильно поставленный вопрос должен содержать в себе 90% ответа. Поэтому полагаю, что для устранения ошибочных предубеждений весьма важным человеческим навыком является умение предельно точной передачи смысла сообщения – и в первую очередь умение точной постановки вопросов. Напомним, что «вопрос – это логическая форма, включающая исходную информацию с одновременным указанием на её недостаточность с целью получения новой информации в виде ответа» (2002, Панкратов, с. 60).
В некоторых профессиях точность передачи смысла сообщения оказывается критически важной. Например, военные приказы. Для таких критических профессий специалисты были вынуждены сформировать своё языковое подмножество, – такое, чтобы смысл каждого варианта сообщений, из числа в принципе возможных на этом языковом подмножестве, всегда оказывался однозначно понимаемым.
Многих, возможно, удивит утверждение, что одной из таких критических профессий, – подобных военному делу! – является и научная работа. Однако это так, поскольку научные ошибки приводили уже не раз к причинению массового вреда человечеству и природе. И именно по этой причине в различных подразделах науки специалисты были вынуждены сформировать некоторое специфическое подмножество языковых знаков, с помощью которых стараются достигать наиболее точной и однозначной передачи своим коллегам сведений о полученном научном опыте.
Вместе с тем некоторые выводы, – не только бытовые, но даже научные, и даже те из них, которые в науке доминируют десятилетиями, – при более тщательной проверке обнаруживают свою ошибочность. Причём ошибочность оказывается обусловленной вовсе не уровнем аккуратности и точности проведённых научных измерений, а нарушением правил классической логики, как уже было упомянуто выше. Причины и источники логических ошибок исследуются уже давно, – ещё со времён классической работы Аристотеля, который в сочинении «Опровержение софистических аргументов» классифицировал разновидности логических заблуждений. Среди более современных работ на эту тему можно предложить книгу (1958, Уёмов) известного советского учёного А. И. Уёмова. Если сказать совсем кратко, то основной причиной логических ошибок является иллюзорность восприятия исследователем наблюдаемых им событий реального мира; она сама оказывается часто следствием тех или иных внушённых предубеждений, но она также и ведёт к формированию предубеждений новых.
Конечно же, ошибки логические следует отличать от фактических ошибок: последние обусловлены не нарушением правил логики, а отсутствием знаний о фактическом положении дел. Напомним также, что если ошибка допущена неумышленно, она называется паралогизмом; если же правила логики нарушают умышленно с целью доказать недоказуемое или ввести кого-то в заблуждение, то это – софизм. Здесь мы говорим именно о неумышленных ошибках логических – о паралогизмах. Создатель математической логики Г. Фреге, убедительно показал, что законы, правила и стандарты мышления, устанавливаемые логикой, не зависят от индивидуальных, психических особенностей отдельных людей и потому имеют интерсубъективный характер.
В физиологии десятилетиями существуют некоторые основополагающие утверждения, которые на самом деле являются не более чем мифами, возникшими в результате такого иллюзорного восприятия результатов экспериментальных наблюдений тем или иным исследователем, чьё мнение затем стало восприниматься как безусловно авторитетное и потому неоспоримое. Хотя ведь подмена обсуждения истины обсуждением личности является одной из известнейших логических ошибок, на латыни обозначаемых как argumentum ad hominem («аргументация к человеку») и состоящая в том, что обоснование истинности тезиса подменяется рассуждениями о достоинствах или недостатках человека, защищающего этот тезис.
Несколько примеров ошибочных основополагающих утверждений, безусловно принятых в физиологии и затем практически без изменений заимствованных биофизиками, приведено ниже в разделе 1. К таким заблуждениям следует отнести: 1) ставшие классическими представления Эйнтховена о существовании электрического диполя сердца (fallacia accidens или fallacia fictae universalitatis – ошибка поспешного обобщения); 2) восприятие спонтанной деполяризации клеточной мембраны в качестве причины возникновения потенциала действия при автоматизме (post hoc, ergo propter hoc – ошибка: «после этого, значит по причине этого»); 3) восприятие постдеполяризации мембраны в качестве причины возникновения триггерной активности. Этот список можно продолжить. Именно такое положение дел стало основанием для утверждения (2016a, Москаленко; 2018, Москаленко и соавторы; 2021, Москаленко), что в рамках современной физики биологических объектов должна быть теперь проведена тщательная ревизия всего того богатого экспериментального и теоретического наследия, которое оставили человечеству к началу XXI века физиологи и биофизики.
1. Развенчание некоторых мифов из физиологии
1.1. Историческая роль языка физиологии
Открытие «животного электричества» явилось, несомненно, весьма важным этапом не только в понимании причин нарушения деятельности сердца, но и в развитии научных взглядов на живых существ. Это открытие довольно быстро привело к разработке нового языка, удобного для обобщенного описания таких свойств биологической материи, которые прежде казались несопоставимыми. Действительно, возможно ли найти что-то общее в работе мозга и в работе мышц? Что общего, казалось бы, может быть между мышечной силой и силой мысли? Открытие же «животного электричества» позволило зарегистрировать и в нервной ткани, и в мышечной ткани некий процесс, которому было дано название «возбуждение». Развитие представлений о возбудимых биологических тканях явилось важным обобщением тех экспериментальных данных, которые удалось накопить к концу XIX века. Ещё в 1900 г. T. W. Engelmann и K. F. Wenckebach постулировали основные свойства сердечной мышцы, а именно: 1) автоматию; 2) рефрактерный период; 3) ответ на стимулы разной силы по принципу «все или ничего»; 4) феномен лестницы после стимуляции. Именно представления о существовании «животного электричества» явились основополагающими для физиологических исследований и привели к появлению специального языкового подмножества, языка физиологии как науки. Подробнее о развитии физиологического языкового подмножества можно найти в более ранних обзорах автора (2009, Елькин, Москаленко; 2014, Moskalenko; 2021, Москаленко). Великую роль исследователей-физиологов в развитии научного понимания биологической жизни подвергать сомнению никак невозможно.
Вместе с тем, как отметил ещё Николай Михайлович (1968, Амосов, с. 74), справедливо и следующее утверждение: «Такие науки, как физиология или психология, существуют давно и накопили массу фактов, гипотез, теорий, однако использовать их практически для целей точного моделирования невозможно. Вся эта информация носит качественный характер и в большей своей части противоречива».
Предлагаю рассмотреть несколько примеров укоренившегося среди физиологов и медиков мифического восприятия реального мира.
1.2. Электрический диполь сердца
Утвердилось мнение, что электрокардиографическому методу исследования работы сердца человечество обязано работам Эйнтховена, и с этим мнением трудно не согласиться. Как известно, именно Виллем Эйнтховен, нидерландский физиолог, сконструировал в 1903 году прибор для регистрации электрической активности сердца и в 1906 году впервые использовал электрокардиографию в диагностических целях. Однако вместе с электрокардиографией Эйнтховен «одарил» человечество и достаточно вредным мифом о том, что в смысле электродинамики сердцу соответствует электрический диполь. Красивые картинки, изображающие процедуру построение такого диполя на основе записей трёх стандартных отведений, кочуют из учебника в учебник и завораживают своей простотой и очевидностью, внушая тем самым студентам из поколения в поколение, что эти картинки якобы соответствуют истине. Соответствуют, согласен; но не совсем.
Весьма большую и кропотливую работу по изучению электрического поля сердца проделал Расим Закареевич Амиров (к сожалению, результаты этих исследований так и не вошли до сих пор в медицинские учебники и потому остаются малоизвестными врачам). Для проведения своих исследований Амиров воспользовался методом электрокардиотопографии, суть которого заключается в распределении большого количества регистрирующих электродов на кожной поверхности грудной клетки: в работах Амирова было использовано 50 таких электродов.
При изучении проекции электрического поля сердца на поверхность грудной клетки методом электрокардиотопографии удалось обнаружить следующую динамику электрического поля сердца (1973, Амиров, с. 13). Зона электронегативости, возникающая во время зубца Q с максимумом в левой нижней передней части грудной клетки, движется во время от Q до R по всей задней поверхности грудной клетки слева направо в область правого плечевого сустава. Зона электропозитивности, возникающая во время зубца Q с максимумом в области передних границ сердца, совершает во время от Q до R движение в противоположном направлении – справа налево. При этом разность биопотенциалов сердца увеличивается, что в трёх основных стандартных отведениях Эйнтховена соответствует росту амплитуды электрического диполя. Во время пика зубца R максимум зоны электронегативности находится в правой плечевой области, а максимум зоны электропозитивности – в противоположной стороне, слева в нижней части грудной клетки. Затем зона электронегативности продолжает движение по передней поверхности грудной клетки с правой, верхней, части влево в нижнюю часть. Одновременно зона электропозитивности движется по задней поверхности грудной клетки в противоположном направлении – слева направо. Таким образом, в течение комплекса QRS обе зоны совершают круговое движение, занимая противоположные места на поверхности грудной клетки.
В чём я нахожу важность этих результатов Амирова? Для описания работы сердца возможно было выдвигать следующих три теоретических предположения. При возбуждении сердца во время систолы электрическое поле сердца: 1) характеризуется одинаковой динамикой электрического потенциала во всех направлениях пространства, подобно тому, как от вспыхивающей лампочки свет исходит с одинаковой яркостью во всех направлениях пространства; 2) в разных направлениях пространства наблюдается динамика электрического потенциала, похожая на хаотическую или просто достаточно сложную, чтобы быть объяснённой при помощи каких-либо простых геометрических построений; 3) динамика электрического потенциала выглядит похожей на механический стробоскоп с вращающимся колпаком, когда максимальной яркости в некотором пространственном направлении соответствует минимальная яркость в противоположном направлении. Заслуга Амирова состоит в убедительной демонстрации верности третьей гипотезы при основном ритме сердца. И, как нетрудно подметить, между аналогиями «стробоскоп» и «диполь» существует сходство; иными словами, Эйнтховен предложил использовать аналогию «электрический диполь», однако ничуть не хуже и не лучше ту же роль удобного мифа сыграла бы аналогия «электрический стробоскоп».
Продолжение исследований Амирова можно найти в работах коллектива, возглавляемого Леонидом Ивановичем Титомиром (1980, Титомир). Суть этих исследований в следующем. Во-первых, введена концепция эквивалентного электрического генератора сердца, то есть акцентировано то обстоятельство, что выстраиваемые математические модели электрического поля сердца не соответствуют всецело реальному объекту, а лишь описывают с требуемой точностью поведение реального объекта в ограниченном числе точек наблюдения за этим объектом. Во-вторых, указанным коллективом в качестве одной из возможных эквивалентных моделей электрического генератора сердца разработана мультипольная модель. Дипольная модель, ранее предложенная Эйнтховен, является лишь частным и весьма упрощённым случаем мультипольной модели. Мне довелось иметь некоторое количество бесед с Леонидом Ивановичем и с сотрудниками его лаборатории по теме соответствия дипольной и мультипольной моделей, и, насколько мне удалось понять, соответствие это состоит в следующем. В обоих случаях реальное сердце заменяется некой материальной точкой, из которой исходит электрическое поле; и, в рамках этого упрощённого представления, затем строится аппроксимация сигналов, записываемых в некотором наборе точек регистрации электрического поля реального сердца. В качестве приближающей функции в обоих случаях выбираются сферические функции (ряд Лапласа, выстроенный при помощи полиномов и функций Лежандра, которые входят в аналитический вид сферической функции).
Итак, гипотезу Эйнтховена об электрическом диполе сердца, следует, на мой взгляд, изложить в следующем виде: на поверхности тела человека возможно найти такие три точки, при размещении регистрирующих электродов в па́рах которых динамика электрического поля сердца при основном ритме сердца будет давать проекции, выглядящие как электрических диполь. Потому как амплитуды иных членов мультипольной аппроксимации имеют в этих точках значения, близкие к нулю. При таком упрощённом математическом построении Эйнтховен игнорировал все иные члены мультипольной аппроксимации, которые обнаруживаются при измерениях, производимых в иных точках регистрации. Более того, при отклонениях ритма сердца от основного (при аритмиях) дипольное представление перестаёт быть корректным даже в предложенных Эйнтховеном стандартных отведениях, потому как более выраженными становятся иные члены мультипольного разложения регистрируемых сигналов.
1.3. Возникновение потенциала действия
Существуют некоторые мифологически-упрощённые представления о механизме генерации потенциала действия (ПД), кочующие уже почти столетие из учебника в учебник и из монографии в монографию. Типичное описание причинно-следственных отношений в последовательности событий, регистрируемых как потенциал действия методами электрофизиологии, содержится, например, в монографии (2011, Ардашев и Лоскутов, с. 16–17). Считаю чрезвычайно полезным внести некоторую дополнительную ясность в этот вопрос.
Если рассматривать генерацию ПД с точки зрения теории динамических систем, то существенным следует считать вовсе не стохастическую игру ионных каналов клеточной мембраны возбудимых тканей, к которым относится и миокард, а смещение состояния системы из области бассейна притяжения устойчивого стационара в область притяжения неустойчивого стационара. В результате состояние этой системы проходит достаточно сложную эволюцию, итогом которой является возвращение в точку устойчивого стационара. Так себя станет вести любая система, описываемая концептуальной моделью Бонхёффера—ван дер Поля; даже та, у которой никаких ионных каналов и ионных токов нет в силу её природы.
Для удобства читателя напомним, что моделью Бонхёффера—ван дер Поля называют динамическую систему, математическая запись которой в варианте, адаптированном к задачам электрофизиологии (часто в этом виде её указывают как модель ФитцХью—Нагумо), может быть представлена в следующем виде:
Объём и цели этого обзора не позволяют ни детально вдаваться в смысл графиков нуль-изоклин (линий стационара системы) на фазовом портрете динамической системы (1), представленных на рисунке 1, ни даже предоставить пояснения о связи концептуальной модели с реальной клеточной мембраной возбудимых тканей. Однако в этом нет и необходимости, поскольку эти сведения достаточно хорошо представлены в ранее опубликованной и доступной широкому кругу читателей литературе, включая и публикации автора этого обзора (2009, Москаленко; 2021 Москаленко; 2024, Москаленко и Махортых). Поэтому здесь приводятся лишь сведения, непосредственно относящиеся к рисунку 1 и к теме этого раздела.
Напомним лишь, что нуль-изоклина – это линия, в которой скорость изменения соответствующей переменной состояния системы равна нулю, то есть это набор стационарных состояний этой переменной состояния. Из формулы (1) видно, что у модели Бонхёффера—ван дер Поля существует две нуль-изоклины: f (u, v) = 0 и g (u, v) = 0. Точка пересечения этих нуль-изоклин соответствует стационарному состоянию системы, то есть такому состоянию, в котором изменений состояния не происходит. Но различают стационарные состояние двух типов: устойчивые и неустойчивые. Устойчивым считается такое стационарное состояние, в которое система возвращается при воздействии на неё сравнительно малых сил; а вот из неустойчивого стационарного состояния система уходит при сколь угодно малом воздействии. Эти сведения важны для понимания иллюстраций, представленных на рисунке 1, а также на рисунках в следующих разделах этого обзора.
А высказанное чуть выше утверждение важно понимать потому, что из него следует, что инициировать ПД оказывается возможным не только при помощи стимула, вызывающего изменение состояния системы, но также и при помощи воздействий, приводящих к изменению параметров системы. На рисунке 1 это утверждение проиллюстрировано: панель А служит пояснением возникновения ПД при изменении состояния клеточной мембраны путём воздействия электрическим стимулом; на панели Б показан пример возникновения ПД по причине скачкообразного изменения свойств самой системы (что бывает возможным при воздействии химических веществ или электромагнитных полей). Отметим, что рисунок 1.А построен при следующих значениях параметров системы (1): a = 1,3 и b = 0,7; а рисунок 1.Б получен линейным сдвигом.
Итак, для модели Бонхёффера—ван дер Поля характерны две нуль-изоклины, одну из которых, f (u, v), соответствующую быстрому току возбуждения мембраны, принято обозначать как Z-образную (англ.: Z-shaped nullcline) из-за её изогнутой формы. Точка пересечения этих двух нуль-изоклин (точка O0 на рис. 1.А, лежащая на левой ветви Z-образной нуль-изоклины) соответствует состоянию покоя возбудимой мембраны (а координата u этой точки соответствует потенциалу покоя; в рассматриваемой концептуальной модели все значения выражены в условных нормализированных единицах). С точки зрения математики, указанная на рис. 1 точка O0 является устойчивым стационарным состоянием. В самом простом случае (который обычно и излагается в учебниках для медицинских вузов) для порождения ПД следует при помощи внешнего стимула увеличить потенциал мембраны до превышения некой величины, называемой порогом возбуждения. На рисунке 1.А этой величине соответствует точка O1, лежащая на средней части Z-образной нуль-изоклины; а само стимулирующее воздействие обозначено стрелкой, идущей от точки O0 по направлению к точке O1 до точки S1 (стимул; величина стимула соответствует разности значений координат u между точками S1 и O0). Отметим, что координаты v точек O0 и O1 совпадают при таком простом способе создания стимула. В этом случае поле скоростей (u, v) увлечёт систему до правой ветви Z-образной нуль-изоклины, затем по ней вверх до максимума этой нуль-изоклины, после чего система перескакивает на левую ветвь этой нуль-изоклины и по ней возвращается в точку покоя, в точку O0 (эти движения обозначены более мелкими стрелками). И такая эволюция системы, происходящая на фазовой плоскости, проявляет себя в виде обычного потенциала действия, когда исследователь следит за системой по её наблюдаемой, соответствующей трансмембранному потенциалу.
Однако это не единственно возможный сценарий стимулирования возбудимой клетки для вызова у неё ответа в виде ПД. Другой пример вызова ПД обозначен на рис. 1.А стрелкой, идущей от точки O0 до точки S2; в этом случае величина трансмембранного потенциала не только не увеличится до значения так называемого порога возбуждения, но, наоборот, уменьшится (то есть вместо деполяризации клеточной мембраны стимул вызывает её гиперполяризацию) – однако ПД всё равно возникнет! Насколько известно автору, такие эффекты наблюдаются в электрофизиологических экспериментах с реальными живыми клетками возбудимых тканей. Но в учебниках для медицинских вузов о таких результатах если и упоминают, то лишь вскользь.
На рисунке 1.Б показан пример, когда положение нуль-изоклин скачкообразно изменилось, а состояние системы не успело измениться и всё ещё соответствует той же точке O0, – которая в условной норме совпадала с потенциалом покой, однако из-за произошедшего изменения свойств системы теперь оказалась в поле ненулевых фазовых скоростей (u, v).
Как известно, для опровержения некоторой гипотезы достаточно привести даже один контр-пример. Таким образом, выше было проиллюстрировано, что гипотеза о возникновении потенциала действия по причине деполяризации клеточной мембраны является ошибочной.
1.4. Спонтанная деполяризация
Миф о механизме известного в электрофизиологии явления автоматического возникновения ПД в клетках возбудимых тканей оказался не менее стойким, чем разобранный уже выше миф о причинах возникновения ПД под воздействием различных стимулов.
Для начала напомним, для удобства далёких от медицины читателей, хорошо известные кардиологам некоторые базовые сведения. В сердце существуют группы специализированных клеток миокарда, создающих при нормальном функционировании очаг спонтанно возникающего ПД, который, распространяясь, навязывает свой ритм всему органу; такую группу клеток принято называть пейсмейкером (англ. pacemaker, задающий ритм, водитель ритма). В физиологии такую способность принято называть термином «автоматия» или, реже, «автоматизм». Классическим примером является автоматия синусового узла сердца.
В качестве примера традиционного изложения мифа о механизме возникновения пейсмейкерной активности процитируем фрагмент текста (с небольшими сокращениями) одного из признанных специалистов-кардиологов (2011, Снежицкий, с. 30) об автоматическом возникновении ПД в синусовом узле сердца: «Автоматизмом называют способность специализированных клеток миокарда спонтанно вырабатывать импульсы. В основе этого явления лежит медленная диастолическая деполяризация, постепенно понижающая мембранный потенциал до уровня порогового потенциала, с которого начинается быстрая деполяризация мембраны или фаза 0». Отметим, что вместе с тем тот же автор признаёт, что, несмотря на достаточно интенсивные исследования в области изучения функции ритмовождения синусового узла, ионные механизмы этого процесса остаются до конца не ясными (2011, Снежицкий, с. 31).
Что же, с моей точки зрения (а я надеюсь, что эта точка зрения именно с позиций кардиофизики), выглядит слабым местом в смысле общенаучного понимания причинности?
На одной из традиционных научных конференций в моём докладе была представлена следующая альтернативная точка зрения (2014, Москаленко): «Пейсмейкерная активность возникает вовсе не по причине, а лишь на фоне спонтанной деполяризации клеточной мембраны. Более того, пейсмейкерная активность может возникать и на фоне спонтанной гиперполяризации мембраны, – и следует ожидать, что экспериментальные подтверждения этому теоретическому предсказанию будут найдены в скором времени. Истиной причиной спонтанной активности пейсмейкера, похоже, следует считать рождение предельного цикла на "невидимом плане", наблюдать которое возможно, например, в фазовом пространстве соответствующей исследуемому объекту математической модели».
В качестве весьма любопытного обстоятельства, сопровождавшего этот доклад, следует отметить, что слушатели, состоявшие преимущественно из математиков и биофизиков (а председательствующей в этой секции была Галина Юрьевна Ризниченко, профессор кафедры биофизики биологического факультета МГУ), восприняли эти представленные мной выводы и их обоснования как нечто вполне очевидное. В то время как представители традиционных биологических и медицинских наук, насколько позволяет судить мой личный опыт, такое объяснения явления автоматического возникновения ПД воспринимают как ересь или как весьма вредные абстрактные теории.
Поэтому считаю весьма полезным делом представить здесь более детальные пояснения, разоблачающие миф о том, что истинные причины явления автоматии клеток возбудимых тканей следует искать в «медленной диастолической деполяризации». Следующие ниже пояснения проиллюстрированы рисунком 2. Отметим, что рисунок 2.А построен при следующих значениях параметров системы (1): a = –0,01 и b = 0,7; а рисунок 2.Б получен из него при помощи небольших модификаций, отражающих поведение некой динамической системы с более нелинейными свойствами, чем у системы (1).
На панели А рисунка 2 можно увидеть построения, весьма схожие с теми, что были уже описаны для рисунка 1.А. Различие этих двух рисунков лишь в том, что нуль-изоклина g (u, v) = 0 оказалась смещённой вправо. Однако в результате такого смещения в поведении системы произошли существенные изменения: в ней возникло явление автоматического возникновения ПД (то есть она стала автоколебательной, как говорят физики).
Разберём более детально, отчего это произошло. На рисунке 2.А видно, что точка пересечения двух изоклин, точка O0, сместилась с левой ветви Z-образной нуль-изоклины на средний сегмент этой нуль-изоклины; и теперь это стационарная точка перестала соответствовать устойчивому стационарному состоянию! А где же теперь устойчивое стационарное состояние расположено? Его нет нигде! Именно утрата устойчивого стационарного состояния и стало причиной того, что состояние системы теперь «бегает по кругу» (эти движения снова обозначены мелкими стрелками). Физики и математики это изменение описывают как «рождение предельного цикла»; а электрофизиологи наблюдают при этом явление автоматического возникновения ПД в клетках возбудимых тканей – «автоматию».
Однако не это здесь самое интересное. Обратите внимание, что место расположения того устойчивого стационарного состояния, – которое наблюдалось при параметрах системы (1), изображённой на рисунке 1.А, и которое теперь отсутствует! – обозначено как «O0 прежняя» на рисунке 2.А. Показанное на рисунке 2.А движение системы по предельному циклу от точки «O0 прежняя» к точке O1 воспринимается физиологами как «медленная диастолическая деполяризация», после которой наблюдается быстрое движение с левой ветви на правую ветвь Z-образной нуль-изоклины. Физиологи утверждают, что «медленная диастолическая деполяризация» «постепенно понижает мембранный потенциал до уровня порогового потенциала» (смотрите выше) от прежнего «потенциала покоя». Однако в этом, в автоколебательном, воплощении системы (1) ни «потенциала покоя», ни «уровня порогового потенциала» нет! Это легко можно заметить при сравнении рисунка 1.А и рисунка 2.А.
Действительно, «уровень порогового потенциала» располагался на среднем сегменте Z-образной нуль-изоклины при воплощении системы (1), показанном на рисунка 1.А; но точки O1, а также точки O0, рисунка 1.А и рисунка 2.А не совпадают! Сделанный некогда физиологами вывод об идентичности их места расположения является ошибочным, и теперь перепечатывается из учебника в учебник в виде мифа.
И никакого «потенциала покоя» в воплощении системы (1), проиллюстрированном на рисунке 2.А, тоже нет и быть не может. Вывод о том, что «потенциал покоя», свойственный системе (1) в её воплощении, проиллюстрированном на рисунке 1.А, останется «где-то на том же месте» и для воплощения системы (1), проиллюстрированного на рисунке 2.А, в действительности же является банальной логической ошибкой поспешного обобщения. Это примерно так же, как если бы человек, попробовавший на вкус сахар, сделал бы поспешный вывод, что все белые сыпучие вещества обладают сладким вкусом. Иными словами, говорить о «потенциале покоя» у автоколебательных элементов – это чистейший нонсенс; это, наверное, примерно так же, как если бы некто рассуждал о многогранности шара или о четвёртом угле треугольника.
На панели Б рисунка 2 показан вариант системы, аналогичной системе (1), но с более нелинейными свойствами. В этом варианте можно заметить, что «медленная диастолическая деполяризация» сменилась «медленной диастолической гиперполяризацией», – однако это ничуть не помешало существованию предельного цикла и автоматическому возникновению ПД в соответствующих гипотетических клетках возбудимых тканей. Возможно ли существование таких систем? Не нарушает ли сделанное гипотетическое построение каких-либо фундаментальных законов природы или науки? Отнюдь. Насколько я могу судить, такое гипотетическое построение ничуть не нарушает законов математики или физики. Конечно, поле фазовых скоростей тоже изменится соответствующим образом из-за такого искажения нуль-изоклины f (u, v) = 0, однако принципиально в поведении системы ничего из-за этого не изменится. Более того, я уверен, что искусственные мембраны с такими характеристиками возможно сконструировать, если биохимики тщательно повозятся с белками ионных каналов. Допускаю, что такое манипулирование с ионными каналами может в недалёком будущем даже стать обычным упражнением для школьников на лабораторных занятиях.
Отметим далее также и то обстоятельство, что из исходно ошибочных предпосылок следуют и ошибочные выводы (типичная логическая ошибка предвосхищения оснований!) по поводу «механизмов» регулирования автоматизма синусового узла, кочующая уже более столетия из учебника в учебник. Процитирую снова тот же источник (2011, Снежицкий, с. 33): «Три механизма оказывают влияние на продолжительность этого интервала и, следовательно, на ЧСС. Первый из них – скорость спонтанной диастолической деполяризации. Второй механизм, оказывающий влияние на уровень автоматизма САУ – изменение мембранного потенциала покоя его клеток (максимального диастолического потенциала). Третий механизм – изменение порогового потенциала возбуждения».
Всё перечисленное в процитированном текста – это не механизмы, а лишь явления; то есть верно говорить о трёх явлениях, которыми сопровождаться может работа механизмов регуляции автоматии САУ. Сами же эти механизмы направлены на деформацию фазового портрета автоколебательных элементов САУ.
Приведённые в этом и предыдущем разделах примеры, на мой взгляд, вполне чётко указывают, что наблюдаемые в физиологических экспериментах мембранные токи являются следствием движения системы в фазовом пространстве, а вовсе не причиной этого движения (хотя это предубеждение про мембранные токи крепко укоренилось в науках о физиологии возбудимых тканей). Однако на этих примерах процесса возбуждения мембран живых клеток мы наблюдаем разномасштабную причинность, о которой в XXI веке стали говорить в рамках интегративной физиологии, – о чём ещё более подробно будет сказано ниже. Сейчас же приведу лишь краткое пояснение принципа разномасштабной причинности, отнесённое к обсуждаемым тут явлениям. В живых клетках действительно происходит спонтанная деполяризация мембраны перед возникновением спонтанного ПД; однако вовсе не по причине того, что иначе ПД возникнуть не может в силу каких-либо законов природы, а лишь оттого, что в ходе длительной биологической эволюции такая примечательная особенность живых клеток оказалась отобранной естественным отбором – и отобранной вовсе не по причине особой эффективности именно такого «технологического решения», а лишь в силу случайных причин, сформировавших этот ионный состав древнего мирового океана, в котором зарождались первичные формы жизни и под который те первичные формы жизни вынуждены были подстраиваться. Иными словами, причина наблюдаемой в возбудимых тканях игры токов ионных каналов лежит в процессах биологической эволюции, имеющих масштабы в миллиарды лет. Однако вовсе не эти отобранные в ходе биологической эволюции игры токов ионных каналов являются причиной свойств возбудимых тканей, а более фундаментальные физические причины, на которые в этом разделе автор попытался обратить читательское внимание.
1.5. Триггерная активность
В предыдущих двух разделах была поставлена под сомнение истинность традиционных высказываний о причинах возникновения вызванного и спонтанного потенциала действия. Рассмотрим теперь вариант возникновения потенциала, о котором в медицинской литературе и вовсе высказываются крайне кратко и сдержано, и сами эти высказывания скорее похожими выглядят на молитвенный ритуал, а вовсе не на научное доказательное пояснение, – рассмотрим теперь с позиций кардиофизики вариант возникновения потенциала действия, обозначаемый загадочными словами «триггерная активность», и его истинные причины.
О том, что указываемые в медицинской литературе «причины» нарушения ритма сердца вовсе причинами не являются с позиции точных наук, догадываются, мне так представляется, уже давно даже сами практикующие кардиологи. В качестве примера таких сомнений приведём пояснения питерской школы кардиологов (1992, Шестаков, с. 131): «Нарушения ритма сердца возникают при самых разнообразных патологических процессах в сердце и по своим проявлениям, как правило, не зависят от вызвавшей их причины. Следовательно, речь идёт об универсальности основных механизмов развития аритмий. С другой стороны, одни и те же виды нарушений сердечного ритма могут развиваться различными механизмами».
Процитированную догадку об «универсальности основных механизмов» я нахожу чрезвычайно полезной. Однако считаю ещё более верным говорить о «фундаментальности основных механизмов», поскольку при объяснении аритмий и при возникновении потенциала действия вообще приходится, на мой взгляд, говорить о столь всеобщих механизмах, всеобщность которых подобна всеобщности всемирного закона тяготения. Никому ведь в современной науке не приходит в голову утверждать, что яблоко падает на голову Ньютону по одним законам, а движение звёзд происходит по законам иным? Примерно с такой же ситуацией наука столкнулась и при открытии автоволновых процессов, лежащих и в основе возникновения ПД, и в основе развития аритмий сердца. Об автоволновых механизмах работы сердца подробнее будет рассказано во втором выпуске ОЗК, а также о них можно прочитать в ранее опубликованной литературе; смотрите, например, в (2009, Елькин, Москаленко; 2014, Moskalenko). Здесь же мне представляется чрезвычайно важным для последующего изложения напомнить о принципе причинности, лежащем в самом фундаменте современных естественных наук.
В «Физической энциклопедии» можно найти (1995, т. IV, с. 119–121), что принцип причинности (также известный как принцип причинно-следственной связи или закон причинности) считается одним из самых общих физических принципов, устанавливающим допустимые пределы влияния событий друг на друга. В более общем философском смысле причина (лат. causa) – то, без чего не было бы следствия. Вместе с тем общепризнанным научным тезисом является утверждение, что саму по себе корреляцию между измеряемыми величинами недопустимо признавать доказательством того, что одна из измеряемых величин как-то влияет на другую, так как корреляция может быть случайным совпадением, либо следствием влияния на обе измеряемых величины некоего неучтённого общего фактора. Это же утверждение соответствует одной из типичных логических ошибок аргументации, имеющей название «после этого – значит по причине этого» (лат. post hoc ergo propter hoc).
С моей точки зрения, причиной события Б допустимо считать только такое событие А, которое является одновременно необходимым и достаточным условием наступления события Б; это означает, что высказывание «событие А является причиной события Б» признаётся истинным лишь в том случае, когда высказывания «произошло событие А» и «произошло событие Б» одновременно оба являются либо истинными, либо ложными, причём дополнительно событие А должно предшествовать событию Б так, чтобы ещё и выполнялся принцип физической причинности. Всякое иное событие, в отношении которого пусть бы и проявлялась корреляция с исследуемым событием Б, следует считать сопутствующими условиями, но никак не причиной! Сопутствующие условия могут, в свою очередь, либо облегчать наступление события Б, либо затруднять его. Очевидно, что облегчающими условиями называются такие, присутствие которых увеличивает вероятность наступления события Б, а затрудняющие его условия – это такие, присутствие которых уменьшает вероятность наступления события Б.
На кафедре патологической физиологии московского медицинского университета, в котором обучался я, придерживались принципа моноэтиологичности каждой болезни: этот принцип классификации болезней означает, что у каждой нозологической формы должна быть одна и только одна причина; если же исторически сложилось так, что какому-либо заболеванию приписывают более одной причины, то это уже следует рассматривать как ошибку классификации. В качестве наиболее известных и очевидных примеров принципа моноэтиологичности приводили обычно туберкулёз и малокровие. Длительное время причиной туберкулёза ведь считалась бедность, скверное питание и плохие бытовые условия; однако после выявления палочки Коха стало очевидным, что истинной причиной развития туберкулёза является именно эта специфичная инфекция, без наличия которой туберкулёз развиться не может ни при каких иных сопутствующих условиях. «Малокровие» же распалось на несколько самостоятельных нозологических форм анемии после того, как были выявлены специфические уникальные истинные причины развития той или иной формы анемии. Такого же принципа необходимо придерживаться и при решении иных вопросов о причинности тех или иных физиологических или патологических процессов, поскольку лишь этот принцип соответствует классической логике как науке о верных суждениях.
Вернёмся же теперь к рассмотрению понятия «триггерная активность» в электрофизиологии. Триггерной (пусковой) активностью принято считать (1992, Шестаков, с. 128) «внеочередное» появление ПД, возникающего не спонтанно, а имеющего в качестве источника предшествующее возбуждение. Определительное слово «внеочередное» в данном случае не вполне удачно, поскольку оно имеет смысл лишь в ситуации «очерёдности» волн возбуждения, приходящих к рассматриваемому миокардиоциту от синусового узла или от экспериментального стимулирующего электрода; вместе с тем, его смысл представляется вполне ясным в указанной ситуации: следующего стимула нет, а возбуждение, тем не менее, возникло. «Триггерная активность» рассматривается в качестве одного из основных механизмов экстрасистолии (1992, Шестаков, с. 128). Принято различать два варианта такой «триггерной активности», в зависимости от времени возникновения внеочередного ПД по отношению к предшествующему очередному ПД: 1) как «ранняя триггерная активность» интерпретируется внеочередной ПД, возникший в III фазу предшествующего очередного ПД; 2) в качестве «поздней триггерной активности» рассматривается внеочередной ПД, возникший «после окончания потенциала действия, когда происходит восстановление диастолического соотношения электролитов на наружной и внутренней поверхности клеточной мембраны» (1992, Шестаков, с. 128).
В качестве «причин» триггерной активности (а я же склонен их называть сопутствующими факторами) традиционно в соответствующей медицинской литературе перечисляются следующие: 1) для ранней – гиперкатехоламинемия, гипоксия, гиперкапния; 1) для поздней – избыток ионов кальция в клетках, избыток катехоламинов, токсическое воздействие сердечных гликозидов, ишемические повреждения миокарда. Как основной признак обоих видов «триггерной активности» (отчего-то в литературе называемого «механизмом») указывают «осцилляторные колебания потенциалов мембран», некоторые из которых «могут достигать порогового уровня и вызывать внеочередное возбуждение клетки» (1992, Шестаков, с. 128). Интересен этот признак тем, что в точности такое же явления было описано знаменитым учёным Ричардом ФитцХью (1961, FitzHugh), и наблюдал он это явление при исследовании той самой концептуальной модели (1). Однако есть существенные нюансы. Прежде всего, никакого «порогового уровня» такие осцилляции достигать не могут по причине принципиального отсутствия «порогового уровня» в том состоянии клетки (и её соответствующей математической модели), при которой такие осцилляции наблюдаются, – это в точности так же, как и в выше рассмотренном случае автоматии (автоколебательного режима).
Для пояснения той гипотезы, которой в рамках кардиофизики склонен придерживаться я, рассмотрим рисунок 3.
Здесь очередной ПД возникает (рис. 3.А) так же, как ранее было показано на рисунке 1.А, то есть под воздействием очередного стимула. Однако сопутствующие условия (перечисленные выше и традиционно указываемые в качестве «причины») приводят к тому, что точка O0, лежащая на левой ветви Z-образной нуль-изоклины при возникновении очередного ПД (рис. 3.А), смещается по левой ветви ниже в область перехода с левой ветви на среднюю часть Z-образной нуль-изоклины к моменту завершение «очередного» ПД, как это показано на панели Б рисунка 3. В этом новом положении точка O0 превращается в неустойчивый фокус, и фазовая точка системы, оказавшись (случайно ли или же в силу эволюции прежнего ПД) в её окрестности, станет по спирали раскручиваться, пока не выйдет на предельный цикл; последнее воспринимается в электрофизиологии как внеочередной ПД, обусловленный якобы «триггерной активностью». Таким образом, нарушается первый закон логики, потому как система в начале очередного ПД и при его завершении в данном случае не идентична сама себе; поэтому «порогового уровня» уже нет в момент завершения очередного ПД перед появлением внеочередного ПД. Указанная переходная область (рис. 3.Б) разделяет два разных режима автоволновой системы (кардиомиоцита в данном случае) – режим ожидания и режим автоколебательный; иными словами, в этой области находится точка бифуркации системы. По фундаментальной причине, известной как теорема о непрерывной зависимости движений системы в фазовом пространстве от параметров этой системы, в этой промежуточной области, то есть вблизи точки бифуркации системы, возникают явления так называемой задержки потери устойчивости (бифуркационной памяти). Простыми словами для этой конкретной бифуркационной ситуации наблюдаемое поведение системы можно описать так: система готова сорваться к правой ветви, как это происходит для автоколебательного режима (рисунка 2.А); однако она как бы «помнит» что чуть левее она была всё ещё устойчивой в режиме ожидания, – и потому перед тем, как уйти к правой ветви Z-образной нуль-изоклины, система совершает несколько оборотов вокруг точки бифуркации (как бы «в нерешительности топчется на месте»). Возможно также воспользоваться и иным пояснением: в точке O0 в данном случае (рисунка 3.Б) располагается стационарное решение типа неустойчивого фокуса, и потому фазовые траектории от него разбегаются по расходящейся спирали – это и выглядит в физиологических экспериментах как «триггерная активность». Сравните рисунок 3 и (1961, FitzHugh, Fig. 5). Эти несколько оборотов, отражающих фундаментальные свойства системы, физиологами и врачами наблюдаются как те самые «осцилляторные колебания потенциалов мембран». Далее, если параметры системы нормализуются самостоятельно после этого внеочередного ПД, то система снова возвращается в режим ожидания; иначе может наблюдаться на ЭКГ не одна экстрасистола, а их серия. Наблюдаемые же ионные токи в клеточных мембранах не обусловливают этот фундаментальный процесс, а лишь его сопровождают.
Сам ФитХью наблюдаемые осцилляции малой амплитуды был склонен объяснять несовершенством используемой им вычислительной техники. Однако более поздние исследования привели к пониманию, что их следует рассматривать как проявление феноменов бифуркационной памяти, о которой мы поговорим ниже более подробно. Любопытно отметить то обстоятельство, что, хотя ФитХью и описал эти явления ещё в 1961 году, они так до сих пор всё ещё остаются непонятыми и даже незамеченными исследователями из биологических наук, хотя считаются обычными и понятными для математиков, особенно после открытия французами так называемых «решений-уток»; более детально об этом смотрите в обзоре (2019b, Москаленко и соавторы).
1.6. Адаптация и общий адаптационный синдром
Большую популярность среди физиологов и врачей обрели идеи Ганса Селье о неспецифической реакции на стрессор, проявляющейся набором физиологических и патофизиологических проявлений, получивших название «общий адаптационный синдром». Эта реакция была впервые описана в 1936 г. как «синдром, вызываемый различными вредоносными агентами» и сам Селье дал ей определение вполне чёткое: «Биохимические приспособительные реакции клеток и органов удивительно сходны независимо от характера воздействия (…) как ответ на любое предъявленное организму требование (…) Стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование» (1979, Селье). Селье также указывал с горечью, что его учение переврано его последователями до неузнаваемости: «Многие слова становятся модными, когда научное исследование приводит к возникновению нового понятия, влияющего на повседневное поведение или на образ наших мыслей по коренным жизненным вопросам. (…) Но многие ли из горячих спорщиков, защищающих свои твёрдые убеждения, утруждают себя поисками подлинного значения термина "стресс" и механизмов его? Большинство людей никогда не задумывались над тем, есть ли разница между стрессом и дистрессом! (…) Термин "стресс" часто употребляют весьма вольно, появилось множество путаных и противоречивых определений и формулировок» (1979, Селье).
Идеи Селье были удачно дополнены затем теоретическими представлениями Романа Марковича Баевского о «функциональных резервах организма»; в развитие этих представлений Баевским была разработана методика оценки этих самых функциональных резервов по ритму синусового узла сердца (1984, Баевский) – получившая после 1996 года уже вполне официальное название «анализ вариабельности сердечного ритма» (ВСР). С моей точки зрения, идеи эти весьма полезны и перспективны; однако с их современным пониманием и использованием наблюдаются некоторые проблемы.
Прежде всего, отметить следует, что идеи Селье всё же изложены несколько размыто даже им самим, а некоторые им употреблённые фигуры речи, хотя и стали последователями его идей использоваться в функции терминов, чёткого смысла так и не обрели. Например, Селье использует фигуру речи «запасы адаптационной энергии», и на интуитивном уровне читатель вроде бы понимает примерно, о чём тут может идти речь, – однако какого-либо чёткого и уж тем более количественного значения этот набор слов так и не получил. То же замечание полностью уместно и для введённого Баевским набора слов «функциональные резервы организма», по смыслу на уровне художественных образов весьма близкому к «запасам адаптационной энергии».
В отношении третьей фазы общего адаптационного синдрома сам Селье указывал: «В конце концов наступает истощение. Мы до сих пор точно не знаем, что именно истощается, но ясно, что не только запасы калорий: ведь в период сопротивления продолжается нормальный прием пищи». Иными словами, исследователи наблюдают некоторую феноменологию и констатируют достоверность факта наблюдения, но какой-либо гипотезы, не говоря уже о теории, предложить не могут до сих пор. Это мне напоминает ситуацию, описанную физиками в одной весьма остроумной книге (1988, Григорьев): в ней рассматривается ошибочная теория древних учёных, утверждающая, что подброшенный камень устремляется упасть на землю потому, что в нём существует мотивация упасть, подобная той, которая побуждает кошку устремляться к блюдцу со сметаной. В обоих примерах на основе достоверных наблюдений фактов построены словесные модели, пытающиеся эти факты увязать в стройную систему; однако в обоих этих примерах словесные модели оказались ошибочными, ибо построены они в результате допущения логической ошибки предвосхищённых оснований.
Попытки как-либо исправить недостаток научных представлений о причинах и механизме истощения «запасов адаптационной энергии» предпринимались разными исследователями. Например, был предложен механизм необратимого монотонного повышения порога чувствительности к кортизолу, срабатывающий, предположительно, при каждом стрессовом воздействии и тем больший, чем больше сила и длительность стресса (1982, Дильман); по достижению некоторого максимально допустимого значения этого порога организм погибает. В качестве другого гипотетического механизма была предложена (2014, Парин) дополнительная фаза общего адаптационного синдрома, названная опиатной, поскольку в эту фазу организм сам себя отравляет опиатами из-за активации эндогенной опиоидной системы: поначалу это способствует лучшему перенесению полученных повреждений, однако в случае затяжного течения этой фазы наступает гибель организма (то есть как бы ничего и не «истощается» вовсе).
Проблемы с использованием традиционного анализа вариабельности сердечного ритма требуют отдельного пояснения, причём весьма объёмного; и такое пояснения, я надеюсь, будет предоставлено в последующих выпусках ОЗК.
Однако основная проблема с теорией общего адаптационного синдрома обусловлена вовсе не множеством разным мелких неточностей, как перечисленных выше, так и многих иных. Во всей этой «теории стресса» существуют некоторые концептуальные внутренние противоречия. Так, например, если в этой теории утверждается, что болезнь развивается вследствие истощения «функциональных резервов организма», то из этого прямо следует, что обычный ежедневный сон следовало бы признать «сонной болезнью». Более того, известно же, что после «сильного стресса» сон у людей часто становится более продолжительным и глубоким, – и это вполне хорошо согласуется ведь с общими представлениями о здоровье и болезни: чем сильнее патогенный фактор, тем тяжелее болезнь, не так ли? Ну, тогда ведь и глубокий сон следовало бы признавать «тяжёлым течением сонной болезни», верно? Ну, или же, наоборот, то, что ныне принято относить к болезням, следует признавать лишь вариантами отдыха, подобного сну. Иными словами, принципиальная проблема заключается в следующем: существует ли в рамках «теории стресса» чёткий критерий (то есть необходимое и достаточное условие, выражаясь языком математики), позволяющий однозначно разделить реакции на внешнее воздействие на два класса – на здоровый отдых, подобный сну, и на болезнь, как нарушение адаптации?
Кроме уже указанной принципиальной проблемы «теории стресса» следует обозначить и ещё одну проблему, столь же принципиальную – это явные противоречия между медицинской теорией и современной теорией динамических систем. Так, например, у Баевского находим, что адаптацию он считает то переходным процессом, то новым состоянием системы. Однако в рамках теории динамических систем состояния системы понимают обычно как её стационарные состояния, устойчивые или неустойчивые; а переходные процессы – это то, что происходит с системой по пути к стационарному состоянию. Болезнь – это некое стационарное состояние или же это переходный процесс, ведущий систему, выбитую патогенным фактором из стационарного состояния здоровья, обратно в это же состояние здоровья? Этот же вопрос можно переформулировать в следующем виде: согласны ли медики и биологи с теорией материального мира, предложенной сэром Исааком Ньютоном и доведённой его последователями до уровня современной теории динамических систем, – или же они желают развить некую альтернативную теорию систем? То есть это вопрос о концептуальной картине материального мира.
На эти принципиальные проблемы «теории стресса» указывал в 2001 году Виктор Фёдорович Фёдоров, призывая, в частности, различать чётко процесс и состояния – адаптацию, как процесс приспособительных изменений организма и личности человека, и адаптированность, как меру текущего результата адаптации. Кроме того, им дополнительно введено понятие адаптивность, как способность системы приспосабливаться к меняющимся условиям внешней среды, сохранив при этом свои свойства и функции. Индивидуальное здоровье предложено им было оценивать как меру, выражающую соотношение адаптированности и адаптивности индивида. При этом оптимальное состояние здоровья – это наличие удовлетворительной адаптированности к данным конкретным условиям существования при сохранении достаточной адаптивности (адаптационной готовности к перемене условий). Соответственно, нарушением здоровья, то есть болезнью, в рамках этой парадигмы, следует признавать снижение индивидуального здоровья ниже некоторого условного порового значения (задаваемого, например, соответствующим распоряжением Министерства здравоохранения). Мне уже довелось несколько раз достаточно детально пересказывать основные положения концепции, развитой В. Ф. Фёдоровым, и потому интересующиеся могут легко найти их в соответствующих научных публикациях (2009, Елькин и Москаленко; 2014, Moskalenko; 2023, Makhortykh, Moskalenko).
Мне представляется, что приведённые в этом разделе доводы уже вполне убедительно указывают на необходимость существенного пересмотра «теории стресса».
1.7. Равновесие и стационарность
В продолжение обсуждения предыдущего раздела следует указать ещё несколько исторически сложившихся в медицинской науке недоразумений, существенно противоречащих современной теории динамических систем.
Например, в медицинской литературе можно довольно часто найти утверждения, похожие на следующее (1968, Амосов, с. 71): «Разумеется, нет нужды добиваться абсолютно точного сбалансирования модели, поскольку в реальных живых системах стационарных состояний вообще не бывает, а постоянно происходят колебательные процессы на всех уровнях». В этом утверждении усматриваются, с позиций современной теории динамических систем, две серьёзных ошибки.
Во-первых, стационарными состояниями быть колебания могут; даже если это нелинейные колебания; даже если это не строго периодические колебания. Понятие «предельный цикл» было предложено ещё Пуанкаре, затем развито в работах ван дер Поля и советского академика Александра Александровича Андронова. Именно предельный цикл представляет собой простейшее стационарное состояние динамической системы, наблюдаемое как нелинейные колебания. К 1968 году, времени издания процитированной книги Николая Михайловича Амосова, предельный цикл уже был хорошо известен математикам и физикам; однако в медицинские науки это понятие в те времена ещё не проникло, – отсюда и происходит указанная оплошность у Амосова.
Однако намного более прискорбным является то обстоятельство, что и в современной медицине начала XXI века представления о гомеостазе как о неком «равновесии» всё так же ретранслируется из учебника в учебник, из монографии в монографию. Поэтому «открою секрет»: гомеостаз – это вовсе не равновесие; это стационар, причём колебательный и, более того, вероятно, колебательный хаотически. Равновесие же – это лишь один из вариантов стационарного состояния динамической системы, причём достаточно простенького и в сложных системах едва ли играющего существенную роль.
Аналогичная путаница в понятиях равновесия и гомеостаза обнаруживается и в книгах Р. М. Баевского; да, и вообще во всей теории гомеостаза, где исторически гомеостаз понимается как равновесия, хотя с точки зрения современной нелинейной физики гомеостаз следует считать стационарным колебательным процессом. В чём различие этих двух точек зрения? Дело в том, что при постулировании, что гомеостаз – это равновесие, в дальнейшем любое отклонение от «нормальных» значений физиологических величин исследователь обязан рассматривать как «нарушение гомеостаза». С позиции же физики, колебания значений физиологических величин в некотором диапазоне значений, соответствующих стационарному нелинейному колебательному процессу, являются нормой для гомеостаза; причём стационарный колебательный процесс вовсе не обязан быть вариантом предельного цикла, а вполне может быть также и вариантом странного (хаотического) аттрактора.
Такое изменение точки зрения на гомеостаз является революционным, ибо оно требует радикального пересмотра всей теории гомеостаза и стресса. Включая и пересмотр методов исследования так называемой «вариабельности сердечного ритма», которые принято рассматривать как один из способов оценки уровня стресса.
Отметим также, что для получения сведений о количестве, положении и типах стационаров для конкретной системы, – в данном контексте, для человека! – необходимо проводить для каждого пациента процедуру параметрической идентификации системы, что в медицине практически игнорируется. Проблема параметрической идентификации пациентов была мной недавно рассмотрена, по предложению моего соавтора, в (2023, Makhortykh, Moskalenko); она будет затронута также и здесь в соответствующем разделе этого выпуска ОЗК. С этой же проблематикой тесно связаны представленные ниже разделы, посвящённые динамическим болезням и нормальной аритмической деятельности сердца.
1.8. Информация
Немало путаницы сложилось вокруг понятия «информация».
Сложилось мнение, что первым его употребил Шеннон в своей знаменитой статье (1948, Shannon). Однако у Шеннона отсутствует явное определение для им используемого термина «информация». Хотя это и так, из текста статьи можно вполне однозначно, на мой взгляд, понять, что Шеннон информацией называл факт наблюдения изоморфного отображения набора измеряемых физических величин одной рассматриваемой системы в набор измеряемых физических величин другой рассматриваемой системы. И далее, основываясь на таком неявно им введённом определении, Шеннон затем всю статью посвящает основной её теме: надёжности обнаружения изоморфного отображения в условиях зашумления.
В этой связи интересна позиция Амосова (1969, Амосов, с. 6): «Информация – это сведения об объекте, представленные моделью, в которой с упрощениями и искажениями отражены его структура и функция. Понятия модели и информации неотделимы».
Из этих базовых определений Амосов выстраивает систематизацию как моделей, – как тех, что построены при помощи средств естественного человеческого языка, так и математических моделей.
И отсюда выводится далее (1968, Амосов, с. 9–10): «Переработка информации заключается в превращении одних моделей в другие», – великолепное и предельно точное определение, на мой взгляд.
Мной проведено небольшое теоретическое исследование, результаты которого были уже анонсированы в ряде публикаций; например в (2020, Москаленко и соавторы). Наиболее существенным результатом этого исследования считаю вывод, что понятие «информация» неотрывно связано с понятием изоморфизма из теории множеств: одно множество содержит информацию о другом множестве лишь в той части, в какой эти множества изоморфны, то есть, выражая мысль более аккуратно, укоренившаяся фигура речи «содержать информацию» семантически соответствует утверждению, что некое подмножество одного множества является изоморфным некому подмножеству другого множества. В этом смысле первое из указанных подмножеств обозначать принято терминами «сигнал» или «сообщение», а второе принято воспринимать как некий физический объект, сигнал от которого исходит. Хотя с точки зрения чистой математики эти два подмножества допустимо поменять местами без изменения их свойств и взаимоотношений (однако на практике в этом едва ли есть много толка).
Напомним вкратце, что изоморфизмом называют в математике ситуацию взаимно-однозначного соответствия между элементами некоторого одного множества и элементами некоторого другого множества, причём, конечно же, эти множества не совпадают по составу элементов. Поскольку множества составляются наблюдателем достаточно произвольным способом в соответствии с теми или иными намерениями наблюдателя, то легко можно заметить, что в общем случае в двух произвольно составленных множествах взаимно-однозначное совпадение окажется верным, то есть соответствующим объективной реальности, не для всех элементов, а, вероятно, лишь для элементов некоторых двух подмножеств каждого из множеств. Именно в этом смысле и следует введённое Шенноном понятие «количество информации» понимать как меру, оценивающую, какая часть двух произвольных множеств оказалась верно связанной взаимно-однозначным совпадением. Айзек Азимов в одном из своих произведений утверждал, что решение любой проблемы состоит всего лишь в переводе с языка задач на язык решений, то есть является по существу простым лингвистическим упражнением. И я считаю это утверждение всецело верным, потому как, по сути, и перевод с одного естественного языка на другой и перевод с языка задач на язык решений являются лишь вариантами отображения между двумя множествами объектов, – и такие переводы будут верными лишь в том случае, если возможно построить изоморфное отображения.
Например, из некоторого подмножества слов естественного языка составлена словесная модель (словесное описание) некоторого набора наблюдаемых событий (фактов), – что это значит? Открытие некой «истины»? Отнюдь. Это значит лишь, что удалось сформировать некоторое подмножество из фраз естественного языка, которое оказывается изоморфным некоторому подмножеству наблюдаемых событий, и притом факт изоморфизма подтверждается также и последующими наблюдениями того или иного события из того же самого подмножества событий. Всё. Для практического применения оказывается этого вполне достаточно. Как только появляются наблюдения, опровергающие гипотезу изоморфизма, словесная модель неизбежно перестраивается для устранения несоответствия. Естественный язык – это одна из возможных знаковых систем. Кроме естественного языка сформированы и иные знаковые системы; например, формальный язык математики. «Истиной» же в любом случае является только опытное подтверждения гипотезы изоморфизма между моделью, выстроенной в той или иной знаковой системе, и неким подмножеством наблюдаемых событий реального мира. Никакой иной «истины» не существует в принципе.
Именно в этом смысле на смену словесным моделям из языкового подмножества, сформированного в рамках физиологии, пришли словесные модели из языкового подмножества, сформированного биофизикой. А теперь настал черёд на смену моделям, созданным в рамках знаковой системы биофизической, разработать новые модели уже в рамках знаковой системы, создаваемой в кардиофизике. Просто потому, что прежние модели (как словесные, так и формальные) перестали соответствовать гипотезе об их изоморфизме наблюдаемым событиям, потому как подмножество наблюдаемых событий увеличилось, пополнившись новыми наблюдениями.
Например, в знаковой системе естественного языка мы привыкли говорить «снег падает» или «снег кружится», потому что множество наблюдаемых в быту событий, связанных с поведением снега, можно в практических целях считать изоморфным этим двум элементам знаковой системы естественного языка. Если же вдруг появятся наблюдения того, что снег стал как бы подпрыгивать и пританцовывать, то возникнет необходимость прежнюю словесную модель поведении снега либо дополнить, либо и вовсе заменить некоторой новой.
А для теоретической кардиологии такая необходимость уже возникла.
2. Историческая роль биофизического подхода
2.1. Полезность нового биофизического языка
К середине XX века накопилось довольно много наблюдений и результатов экспериментов, которые плохо укладывались в рамки ограничений, установленных физиологическим языком. Настало время для нового обобщения. Физикам и математикам удалось заметить, что процессы, которые происходят в «чисто физических» системах (например, в лазерах или даже просто в кипящей воде), по некоторым свойствам похожи на процессы, которые физиологи наблюдают в возбудимых биологических тканях. Постепенно появилось понимание того, что такие явления, как возбудимость, проводимость, ответ по типу «всё или ничего», рефрактерность и т. п., присущи не только исключительно биологическим объектам, но свойственны также и неживой природе. Обращаю внимание читателя, что речь в данном случае идёт не просто о каких-то аналогиях, а именно о новом обобщении накопленного научного знания. Это обобщение повлекло разработку нового, более универсального языка – языка биофизического. Новый язык позволил не только воспроизвести описание того, что уже было описано ранее в рамках физиологии, но и в единых терминах описать широкий круг экспериментального материала, с описанием которого язык физиологов уже плохо справлялся (смотрите примеры в разделах 1.3—1.5). Именно о таком новом расширенном биофизическом описании сердечной деятельности и пойдёт рассказ в этом разделе, а также более детально о том расскажем во втором выпуске ОЗК.
Чем полезен новый язык, сформированный в рамках биофизики? Прежде всего, это удобный язык для универсального описания некоторого круга явлений любой природы. Примеры такого описания были приведены в (2009, Елькин, Москаленко; 2014, Moskalenko). Однако, думаем, что биофизический язык окажется полезным и ещё найдёт своё применение в самых разных науках, в том числе и в таких «чисто гуманитарных», как психология и социология. Например, известно, что во время общения эмоциональное состояние передаётся от одного собеседника к другому, а значительные эмоциональные потрясения способны у отдельных людей вызвать устойчивые эмоциональные отклонения, которыми эти люди затем могут «заразить» окружающих, вызвав таким образом в социальной среде различные социальные волнения. Свидетелями таких социальных волнений стали в 1990-х годах жители бывшего СССР: вернувшиеся в то время участники «ограниченного контингента советских войск в Афганистане», потрясённые пережитыми военными событиями, невольно заразили своим эмоциональным состоянием значительную часть населения родной страны, в результате инициировав целый каскад драматических событий. Цепочка событий, произошедших на территории бывшего СССР в период от брежневской стабильности (состояние покоя) до наметившейся к концу первого десятилетия XXI века новой стабильности, очень похожа на автоволновой процесс возбуждения в многокомпонентной среде. Думаем, что исследователи XXI века, нацелившиеся на изучение истории распада СССР, найдут биофизический язык весьма полезным для описания результатов своего исследования. Подобные попытки описания социальных процессов предпринимаются в рамках социальной биофизики, и уже дали весьма интересные и неожиданные результаты.
Но вернёмся к сердцу… Можно найти немало примеров того, как биофизический язык прежние задачи, казавшиеся неразрешимыми, позволял переформулировать в таком виде, который делал решения этих задач практически очевидными (то есть был осуществлён перевод с физиологического языка задач на биофизический язык решений). Например, помог прийти к пониманию (1996, Мандела; 2010, Kurian, Efimov), что между фибрилляцией желудочков и рециркуляторной желудочковой тахикардией значительного различия, возможно, и нет.
Выявление же феномена «виртуального электрода» привело к пониманию того, что подавление аритмий возможно не только при помощи мощного разряда дефибриллятора, но и при помощи маломощной стимуляции, организованной в пространстве и времени определенным образом. Рассмотрим кратко основные современные концепции дефибрилляции, разрабатываемые в рамках биофизического подхода и теории автоволн. Теория дефибрилляции до сих пор остаётся предметом дискуссии и исследований и ещё не существует общепринятой точки зрения на механизмы возникновения аритмии в результате неудачной дефибрилляции. В качестве возможных причин неудачной дефибрилляции называют: 1) остаточную фибрилляторную активность в областях слабого градиента напряжения, 2) новые автоволновые вихри, порожденные электрическим разрядом, 3) фокальную эктопическую активность в областях миокарда, травмированных действием созданного дефибриллятором электрического тока. Теория виртуальных электродов (2002b, Ефимов и соавторы; 2002c, Ефимов и соавторы) помогла понять некоторые причины неудачного применения ранее использовавшихся протоколов дефибрилляции. Одним из наиболее важных практических выводов этой теории стала рекомендация при дефибрилляции использовать двухфазные стимулы, применение которых значительно повысило эффективность дефибрилляции. Новый взгляд на дефибрилляцию и развитие теории виртуальных электродов стали возможными лишь при использовании одной из новых биофизических моделей такой сложной автоволновой системы как миокард, получившей название «бидоменная модель» (2002a, Ефимов и соавторы). Использование этой модели помогло разработать новую концепцию дефибрилляции, принципиально отличную от предыдущих концепций. Более детально эти вопросы рассмотрены в разделе 5.10.
Приведём ещё один пример того, как использование фундаментальных биофизических законов привело к существенному углублению понимания хорошо известных явлений, для адекватного описания которых физиологического языка оказалось недостаточно. Одним из наиболее популярных и интригующих параметров, получаемых в результате обработки ЭКГ, является дисперсия QT-интервала, привлекающая к себе внимание кардиологов в последние два десятилетия XX века. Гипотеза о перспективности изучения пространственной вариабельности QT-интервала для поиска новых надёжных предикторов возникновения опасных желудочковых аритмий, как будто бы нашла своё более или менее убедительное подтверждение в многочисленных публикациях; подробнее смотрите ссылки в (2000, Баум и соавторы). «Здравый смысл», основанный на физиологических представлениях, тоже достаточно убедительно указывал на прогностическую значимость феномена «дисперсии QT-интервала»: нестабильность электрофизиологических процессов активации и восстановления миокарда должна непременно отражаться на поверхности торса в виде нестабильности паттернов реполяризационной части кардиоцикла. Однако аккуратное, с позиций биофизики, исследование возможных механизмов «дисперсии QT-интервала» привело к выводам, что длительности QT-интервала одинаковы в любых электрокардиографических отведениях, а феномен «дисперсии QT-интервала» является лишь ошибкой определения конца зубца T. Рассмотрение вопросов генеза QT-интервала и измерения его параметров (2000, Баум и соавторы) указало на необходимость разработки новых алгоритмов автоматического распознавания и измерения границ интервалов кардиоцикла, особенно конца зубца T. В свете проблем диагностики и предсказания возможного возникновения опасных нарушений сердечной деятельности, эти задачи требуют введения стандартов на измерительные алгоритмы, разработки рекомендаций к качеству исходных сигналов и к методам их обработки, а также проведения подробных исследований информативности параметров реполяризационной части кардиоцикла с помощью биофизических моделей генеза ЭКГ.
Итак, биофизический язык предлагает некоторые интегративные характеристики биологических объектов, и это как раз и придаёт ему дополнительную мощь. Физиологический язык стал к концу XX века языковым подмножеством биофизического языка, и это вполне естественный процесс в развитии познания.
Более детальное рассмотрение биофизического этапа изучения работы сердца, а также его преимуществ перед физиологическим подходом интересующийся читатель может найти в (2009, Елькин, Москаленко; 2014, Moskalenko; 2018, Москаленко и соавторы). Критические замечания в отношении биофизики сердца уже были прежде изложены в большой коллективной монографии (2021, Москаленко), поэтому основные принципиальные недостатки подхода к изучению биологических объектов, сложившегося в рамках биофизики, в трёх следующих разделах изложены лишь кратко.
2.2. Вред от биофизического редукционизма
В более ранних работах по биофизике – например, в (1978, Губанов, Утепбергенов), с отдельной главой, посвящённой «биофизике кровообращения» – хорошо заметна ориентированность на системный подход и на достижения кибернетики. К сожалению, к концу XX века некоторые исторические особенности развития биофизики привели к тому, что основное внимание стало уделяться молекулярным и клеточным механизмам в ущерб системному рассмотрению целостного организма – восторжествовал редукционизм (механистический подход). Проникновение редукционизма в науки о живой материи проявилось в упрощённом моделировании сложных биологических систем, то есть в игнорировании существенных свойств таких систем, а также в игнорировании многомасштабной причинности наблюдаемых в таких системах событий. Более детально о противостоянии редукционизма и холизма можно посмотреть в (2018, Москаленко и соавторы).
Вред редукционизма можно продемонстрировать на примере биофизических исследований, нацеленных на научное обоснование фармакологического лечения аритмий сердца при помощи антиаритмиков класса I. Результаты таких исследований отражены, например, в (1981, Перцов и соавторы; 1995, Efimov) и др.
Однако теперь уже широко известны результаты многоцентровых исследований 1990-х годов CAST, CASCADE и ESVEM (ссылки на эти исследования можно найти, например, в (2009, Елькин, Москаленко)). В ходе этих исследований было выявлено, что, несмотря на выраженное снижение частоты возникновения желудочковых экстрасистол, лечение антиаритмическими препаратами класса I не только не уменьшает, но даже увеличивает смертность, обусловленную аритмиями; успех противоаритмической фармакотерапии достигается не более чем у 60% всех больных с желудочковой тахикардией сердца при использовании медикаментозных антиаритмических средств всех классов и их комбинаций. Известный российский кардиолог, проанализировав результаты указанных многоцентровых исследований, пришёл к выводу, что лечение назначается практически случайным образом; своё впечатление он выразил следующими словами (2000, Голицын): «Потенциально любой из известных антиаритмических препаратов может: а) обеспечить антиаритмический эффект; б) не обеспечить его; в) проявить аритмогенное действие. И все это индивидуально непредсказуемо. Поэтому для больных со злокачественными желудочковыми аритмиями выбор не только эффективной, но и безопасной терапии требует проведения фармакологических проб». Американский кардиолог высказался о применении блокаторов натриевых каналов тоже достаточно категорично (2014, Aronow; перевод с англ. мой – АВМ): «Несмотря на адекватное подавление желудочковых аритмий, при 10-месячном наблюдении было выявлено, что энцинид и флекаинид значительно увеличивали смертность от аритмии или остановки сердца в 3,6 раза и значительно увеличивали общую смертность в 2,5 раза. (…) Уровень смертности пациентов, получавших антиаритмические препараты класса I, оказался на 14% выше, чем пациентов, не получавших антиаритмические препараты вовсе. Ни одно из 59 исследований не продемонстрировало, что применение антиаритмического препарата класса I снижает смертность у постинфарктных пациентов. Эти данные создают основания утверждать, что не следует применять антиаритмические препараты класса I для лечения желудочковых тахикардий или сложных желудочковых аритмий».
Каковы могут быть причины неудачного фармакологического лечения аритмий сердца? Таких причин возможно указать несколько (2016a, Москаленко). Так, анализ параметрического пространства уже простейшей концептуальной модели ФитцХью—Нагумо (1) даёт наглядное объяснение, почему блокаторы натриевых каналов вредны, а мономорфные желудочковые тахикардии могут быть вовсе и не столь уж безопасными, как принято считать, а скорее соответствуют предлетальному состоянию, – что было подробно пояснено в (2009, Елькин, Москаленко; 2009, Moskalenko; 2012, Moskalenko).
Ещё одна причина, почему лекарственные препараты, демонстрирующие выраженные антиаритмические свойства при воздействии на одиночные кардиомиоциты, увеличивают в 2–3 раза частоту внезапной аритмической смерти в сравнении с нелеченными пациентами, описана в (2002, Starmer). На первый взгляд, действительно кажется парадоксальным то, что одно и тоже свойство лекарственного препарата имеет антиаритмический эффект на изолированною клетку и проаритмический эффект на многоклеточный препарат (целое сердце). В ходе вычислительных экспериментов однако было обнаружено, что блокаторы натриевых каналов способны значительно увеличить так называемый уязвимый период, что происходит как по причине уменьшения скорости проведения волны возбуждения, так и по причине уменьшения градиента возбудимости.
В качестве третьей причины можно предположить побочное действие блокаторов мембранных каналов на иные органы и системы, – в том числе и на нервную систему, – в результате чего адаптационные реакции целостного организма, стремясь компенсировать действие лекарств, начинают конфликтовать с прямым действием лекарства, что и приводит к печальным последствиям.
Любая из указанных трёх причин уже является достаточной для увеличения смертности.
Ещё один пример того, как результаты, полученные в упрощённых биофизических моделях, существенно расходятся с результатами использования более сложных моделей, связан с проблемой формирования общего ритма в пейсмейкере (синусовом узле). Некоторые классические результаты теории автоволновых процессов, согласно которым в системе автоколебательных элементов якобы всегда должен устанавливаться ритм самого высокочастотного элемента системы, оспариваются в работе (2009, Мазуров), в которой показано, что ритм единый пейсмейкера формируется более сложным образом.
Эти и многие другие аналогичные примеры подготовили почву для вывода о том, что назрела необходимость смены кардиологической парадигмы (2014, Moskalenko).
2.3. Математические аспекты недостатков биофизики
Биофизический редукционизм проявляется, в частности, в отсутствии понимания концепции «грубость системы», которая в классической теории колебаний известна издавна (1937, Андронов, Понтрягиным). Сущность её состоит в запрете редукции системы уравнений в тех случаях, когда нарушено условие грубости системы. В классическом труде (1981, Андронов и соавторы, с. 18–19) предложена следующая интерпретация понятия «грубые системы»: «процессы, отображаемые математической динамической моделью и соответствующие процессам реальным», должны быть «устойчивыми как по отношению к малым изменениям переменных состояния и их первых производных, так и по отношению к малым изменениям самой математической модели. Первое приводит к понятию устойчивости состояний равновесия модели и процессов в ней, второе – к понятию грубости динамических систем». Этими двумя требованиями были достаточно строго очерчены пределы, в которых сохраняется научная обоснованность использования динамических систем для описания систем реальных. Само условие грубости сводится к требованию сохранения топологической эквивалентности фазовых пространств исходной системы и системы редуцированной (то есть при внесении малых изменений в систему). При нарушении условия грубости топологическая эквивалентность отсутствует, – что обычно указывает также и на недопустимость проведения редукции системы, а игнорирование этого обстоятельства часто приводит к логическим ошибкам в научных выводах – отождествление суждения, истинного при некоторых ограничивающих условиях («истинного относительно»), с таким же по содержанию суждением, но рассматриваемым безотносительно к этим условиям («истинного безотносительно»).
Ещё одним источником ошибок в редуцированных биофизических моделях и в проводимых с их использованием биофизических исследованиях может оказываться игнорирование того математического факта, что теорема о существовании и единственности решения для нелинейных систем уравнений более двух носит обычно лишь локальный характер; например, смотрите (2002











