Читать онлайн Славные подвиги
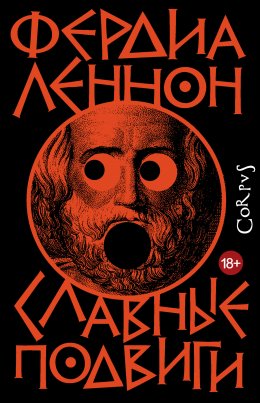
Фердиа Леннон
Славные подвиги
© Ferdia Lennon, 2024
© Д. Оверникова, перевод на русский язык, 2025
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2025
© ООО “Издательство Аст”, 2025
Издательство CORPUS ®
Посвящается Эмме
Чего нам не постичь, что выше нас, чего нельзя добиться – для безумцев, или для тех, кто слышит речи их и верит.
“Вакханки” Еврипида в переводе Чарльза К. Уильямса[1]
Дитя мое, смерть с жизнью не сравнится.
У смерти кубок пуст, а жизнь хранит надежду.
“Троянки” Еврипида в переводе Гилберта Мюррея
Сиракузы. 412 г. до н. э
1
И вот Гелон мне говорит:
– Пойдем покормим афинян. Как раз подходящая погода, чтобы кормить афинян.
Гелон правду говорит. Потому что солнце так и пылает в небе, белое и крошечное, и камни жгутся, когда идешь. Даже ящерки прячутся, выглядывают из-под камней и деревьев, как бы говоря: Аполлон, ты, сука, издеваешься? Так и вижу, как теснятся афиняне, как их глаза мечутся в поисках тени и как они ловят воздух пересохшими ртами.
– Правду говоришь, Гелон.
Гелон кивает. Мы берем с собой шесть мехов – четыре с водой, два с вином, – горшок оливок и две головы вонючего сыра, который делает моя мамка. О, прекрасен наш остров, и я иногда думаю, что теперь, когда мастерская закрылась, я мог бы все изменить. Что, может, я мог бы взять и уехать из Сиракуз и найти себе домишко у моря – никаких больше темных комнат, глины и красных рук, только море и небо, и когда я прихожу домой со свежим уловом за плечом, меня ждет она – кто бы она ни была, – ждет и смеется. Я слышу этот смех, и он такой нежный и хрупкий.
– Эх, Гелон, как же мне сегодня хорошо!
Гелон смотрит на меня. Он красив, и глаза у него цвета моря на мелководье, освещенного солнцем. Не цвета дерьма, как мои. Он открывает рот, но ничего не говорит. Ему, Гелону, часто грустно – он будто видит мир сквозь дымку, никакой яркости. Мы идем дальше. Хотя афиняне раздавлены, их корабли пустили на растопку, а их непогребенных едят собаки, гоплиты все равно делают обход. На всякий случай. Не далее чем вчера Диокл сказал, что с этими афинянами никогда не угадаешь: со дня на день жди новых отрядов. Может, он и прав. Спартанцы почти все ушли. Говорят, они направляются на самые Афины, приготовились их осадить как следует. Закончить войну. Но некоторые еще болтаются. Они скучают по дому, и пользы от них никакой. Как раз четверо идут перед нами, и красные плащи тянутся за ними кровавым следом.
– Доброе утро!
Они оглядываются. Только один отдает честь. Наглецы они, спартанцы, но мне сегодня хорошо.
– Долой Афины!
Теперь отдают честь двое, но как-то без искры. Они усталые и грустные, прямо как Гелон.
– Я вот что скажу: Перикл – козел!
– Лампон, так Перикл же умер.
– Ну да, Гелон, помню. Так я вот что скажу: Перикл – дохлый козел!
А теперь двое спартанцев смеются, и все четверо отдают честь. О, какой же я сегодня довольный! Не знаю, как объяснить, но чувство славное. Лучшие чувства – такие, которые не объяснишь. А мы еще даже афинян не покормили.
– В какой карьер сегодня идем, Гелон?
Мы стоим на развилке, так что надо выбирать. Гелон размышляет.
– Лаврион? – наконец говорит Гелон.
– Лаврион?
– Ну, думаю, да.
– Лаврион!
Идем налево. Лаврион – так теперь называется главный карьер. Кто-то подумал, смешно будет его называть в честь того самого серебряного рудника в Аттике, благодаря которому у афинян нашлись средства на вылазку. Ну имя и пристало. Это огромная яма, а вокруг нее скалы из молочно-белой извести, такие высокие, что только в одном-двух местах забор понадобился. У одного из них ворота, там два стражника расселись себе на земле, в кости играют. Гелон дает им мех с вином, и они нам машут рукой, чтоб проходили. Тропа вниз извилистая, такая, что того и гляди ногу сломаешь. Гелон, когда на него находит муза, говорит, что она “как змей извивается бурый”. Афинян мы еще не видим, но уже чуем. Тропа такая кривая, что мешает разглядеть весь карьер, но запах тот еще: густой, гнилой, в воздухе от смрада почти туман. Я останавливаюсь – глаза слезятся.
– Как будто хуже обычного.
– Так жара ведь.
– Ну да.
Я зажимаю нос, и мы идем дальше. Их меньше, чем в прошлый раз. Если так пойдет дальше, к зиме вообще никого не останется. Сразу вспоминаю вечер, когда они сдались. Несколько часов шли дебаты. Диокл ходит туда-сюда, рычит: “Этих ублюдков семь тысяч, куда мы их всех денем?” Тишина. Тогда он опять спрашивает. На этот раз придурок Гермократ что-то бормочет про договор. Да хрена с два, думаю я, и Диокл то же самое говорит. Не теми же словами, но о том же. Спрашивает: “Что же нам, с трупом договариваться?” Кругом смех, все тычут пальцами, и Гермократ заваливает хлебало и садится. А все это время Диокл так и ходит, так и спрашивает: что нам делать? Тишина. Только теперь пульсирующая тишина. Вот-вот лопнет. И тут он перестает ходить; говорит, кое-что придумал. Кое-что новое, необычное. Такое, чтоб вся Греция знала, что мы тут не в игры играем. Что мы – Сиракузы, и мы никуда не денемся. Мы хотим знать? “Хотим, Диокл!” Но он качает головой. Нет, это уж слишком. Слишком необычно. Пусть кто-то еще выскажется. Но уже поздно. Мы же Сиракузы, и мы никуда не денемся, и так мы ему и говорим. Так что он наклоняется и шепчет. Ни звука. Только губы шевелятся. “Диокл, мы тебя не слышим!” И он говорит. Тихо, но так, что можно разобрать: “Посадите их в карьеры”. А потом кричит: “В карьеры!” И скоро все Сиракузы дрожат от этих двух слов: в карьеры.
Ну да, так мы и сделали.
Издалека афиняне напоминают множество рыжих муравьев, копошащихся на камнях, хотя не очень-то они и копошатся. Просто лежат, или сидят на корточках, или ползают, ищут тенек. Хотя, если честно, зрение у меня не лучшее – те, которые меньше всего шевелятся, может, вообще мертвые.
– Доброе утро!
Некоторые поднимают головы, но никто не отвечает на мое приветствие. Теперь, когда прошло немного времени, кое-какие горожане думают, что мы были неправы. Что держать их в ямах – это уж слишком, что это уже не война. Говорят, надо их просто убить, или взять в рабство, или отправить домой – о, но мне ямы нравятся. Они – как напоминание, что все рано или поздно меняется. Помню, какими афиняне были год назад: под лунным светом броня переливалась, как волны, от боевых криков не спалось по ночам и выли собаки, а еще были корабли, сотни кораблей скользили вокруг нашего острова, как великолепные, готовые к пиршеству акулы. Ямы доказывают, что ничто не вечно. Так говорит Диокл. Доказывают, что слава и могущество – лишь тени на стене. О, а как мне нравится запах! Ужасный, но чудесно-ужасный. Ямы пахнут победой – и чем-то бо́льшим. Каждый в Сиракузах это чует. Даже рабы чуют. Богатый или бедный, свободный или нет – вдохнешь запах ям, и жизнь сразу кажется богаче, чем была, одеяла – теплее, еда – вкуснее. Ты на правильном пути – ну, или уж точно на лучшем, чем афиняне.
– Доброе утро!
Бедолага видит мою дубинку и поднимает руки. Затем – поток слов; большую часть я не понимаю, потому что он слабо хрипит, но разбираю “Зевс”, “пожалуйста” и “дети”.
– Не бойся, – говорю я. – Не карать мы пришли – хотя вы, афинские псы, заслуживаете кары. Мы с Гелоном милосердны. Мы пришли…
– Заткнись.
– Да чего, Гелон? Я правду говорю.
– Тихо ты.
Я усмехаюсь:
– О, вижу, опять на тебя нашло.
Он уже стоит на коленях рядом с бедолагой, дает ему воды:
– Еврипида знаешь?
Тот присасывается к меху, как к сосцу Афродиты, – вода стекает по бороде. Он розовый. Прямо розовый. Они почти все розовые, а некоторые вообще красные.
– Еврипид, приятель. Знаешь что-нибудь из Еврипида?
Тот кивает и сосет дальше. Другие афиняне подтягиваются. На ногах звякают кандалы. Их больше, чем мне казалось, но все равно меньше, чем в прошлый раз.
– Вода и сыр, – говорит Гелон, – любому, кто знает строки из Еврипида и может прочесть! Если из “Медеи” или “Телефа”, еще и оливок дам.
– А Софокл? – спрашивает крохотное беззубое создание. – “Царь Эдип”?
– На хер твоего Софокла! Гелон что-то говорил про Софокла? Ты…
– Заткнись.
– Да ладно, Гелон, я уж так.
Гелон оглашает условия:
– Софокла не надо, и Эсхила, и других афинян. Вы их читайте, если захочется, но вода с сыром – только за Еврипида. Ну что, приятель? Что расскажешь?
Тот, кто пил, прокашливается и пытается встать ровно. Зрелище жалкое. Как бы ни старался, у него не выходит. Голова заваливается, покачивается туда-сюда, как зрелый плод на ветру.
Он говорит:
– Э-э, но мы должны понять, что царь Приам…
Он замолкает.
– И всё?
– Прости, я знал еще, но ничего не выходит. Понимаешь, у меня голова разбита, и я забываю лица, я даже не помню… Клянусь, я знал еще.
Мужчина закрывает лицо ладонями. Гелон похлопывает его по плечу и дает отпить в последний раз. Афинянин, кажется, плачет, но все сосет бурдюк. Вода вроде вливается в тело, но вместе с тем и выливается.
– Кто-нибудь может лучше? Оливок за “Медею”?
Гелон без ума от Еврипида. За этим он сюда и приходит. Мне кажется, он был бы почти что рад победе афинян, если бы она побудила Еврипида к нам заскочить и поставить представление-другое. Однажды он потратил целый месяц жалованья и нанял старика-актера, чтобы тот пришел в мастерскую и играл сцены, пока мы лепим горшки. Старший сказал, что производительность страдает, и вышвырнул актера за дверь. Но Гелон не сдался. Велел актеру кричать реплики с улицы. Сквозь рев печи доносились обрывки стихов, и, хоть в ту неделю мы и сделали меньше горшков, они были необычней, красивей. Это все было до войны – теперь актер умер, а мастерская закрылась. Я смотрю на Гелона. Голубые глаза, большие и беспокойные. Над головой кусок сыра. Орет что-то про оливки. Гелон вообще без ума. Даже без всякого Еврипида.
Вызываются многие, но, когда доходит до дела, большинство спотыкается, замолкает и жалуется на боль в голове и жажду, а то и вовсе валится с ног, так что от каждого мы слышим по строчке. Если повезет, то две. Один притвора начинает читать сцену, где за Медеей ухаживает Ахилл, а даже я знаю, что это чушь собачья. От Медеи до Ахилла много времени прошло. Она же с Ясоном была.
– С Ахиллом быстроногим мне не быть! Клянусь Элладой, мой отец не даст благословения. О, что нам делать…
Гелон поднимает дубинку, и притвора убирается подальше. Его место занимает другой. Этот хоть вспоминает про Ясона, но читает отрывок, который Гелон уже знает. Впрочем, оливок за старания ему все равно перепадает.
День идет своим чередом. Солнце толстеет, наливается, как желток, и жар уже не так яростен. На голубом появляются мазки розового и красного. Я оставляю Гелона и иду гулять по ямам. По идее, я ищу актеров. Гелон расщедрился – сказал, что вернется с мешком зерна, если найдутся пять афинян, чтобы сыграть сцену из “Медеи”. Но он хочет, чтобы они ее по-настоящему сыграли. Вроде как поставили. Одного актера найдет – уже, считай, повезло. По этим бедолагам смерть плачет. Думаю, в худших краях Аида можно увидеть что-то похожее. Скелеты с волосами и намеком на кожу. Кроме волос, единственное, что у них разного, – глаза. Остекленевшие самоцветы, которые от умирания кажутся ярче. Огромные глаза, голубые и карие, поглядывают на меня. Я еще не нашел актера на главную роль, но ищу.
Вот смотришь на этих афинян и, кажется, видишь, как из их ноздрей и губ выдох за выдохом уплывает душа. Кажется, что у них кожа высыхает и отмирает прямо на глазах, что, если замрешь и задержишь взгляд на одном из них, в конце концов он растворится, и все, что останется, – зубы и несколько тонких костяных веточек, белые зубы и белые кости, которые поглотит карьер, и может, однажды из этого камня выстроят дом, твой дом, и ночью ты будешь лежать без сна, потому что стены стонут, потолок плачет, будто над тобой еще одно небо, капли стучат по темечку, и ты надеешься, что это ничего, просто ветер, просто дождь, и может, это правда так, а может, это те афиняне у тебя в стенах ворочаются. Странные это мысли, аидовы мысли, но и карьер – странное место, и ты здесь сам не свой.
Вдалеке кто-то кричит. Много сил уходит с этим криком. Должно быть, дело серьезное. Он раздается снова, так же громко. Кричат в дальнем конце карьера. Афиняне, кажется, утекают оттуда подальше, так что каменная стена не скрыта за телами и тряпками. Я решаю взглянуть поближе. Огромный мужик машет дубинкой. У его ног свернулся, как хнычущий котенок, афинянин. Точнее, у его ног двое афинян. Но второй явно мертв. Туника человека с дубинкой забрызгана красным. Это кто, Битон? Ага, Битон. Как всегда, Битон. Его сына убили в первой битве с афинянами. Ну, не прямо в битве. Взяли в плен и запытали до смерти. Битон сюда часто заходит, еще чаще, чем мы.
– Ужасный ты человек, Битон.
Битон оборачивается. Я подмигиваю. Он – нет. У него дергаются щеки. Он выглядит чуть ли не хуже, чем бедолага у его ног. Лицо афинянина – все в мясо, но зеленые глаза глядят со странной надеждой. Страшно зеленые глаза. Как ящерица зеленые. Глаза эти блестят, и он уже силится уползти. Еще не готов сдаться и умереть.
– Мы с Гелоном вон там. Даже Еврипида послушали, веришь, нет?
Битон не отвечает. Только сжимает дубинку покрепче. На руке, как молния на небе, проступает вена.
– Жара с утра была – хоть стой, хоть падай.
Снова молчание. Афинянин все еще уползает.
– Развлекаешься, да? Чем он заслужил столько внимания?
– В стене их нашел.
– В стене?
– Они дыру вырыли. Ублюдки.
– Кто “они”?
Битон пинает мертвое тело у себя под ногами.
– Он с этим подонком в обнимку спал. Так и переплелись, суки. Как любовники.
Я киваю. Афинянин уже прилично отполз. За ним тянется красный след.
– Их меньше, чем в прошлый раз.
– Ублюдки.
– Да уж, ублюдки. Я им даю два месяца, не больше. Если Аполлон продолжит в том же духе, то и меньше. Как помрут – буду по ним скучать, наверное. С ними как-то поинтереснее.
Битон закрывает лицо руками.
– Не такой уж ты и плохой, Битон.
Афинянина все еще видно. Скорости ему не хватает. Ну же, ползи, чтоб тебя.
– Диокл говорит, надо их погнать до самой Греции. Довести дело до конца. Что скажешь? Я вот, например, не отказался бы пройтись по этому их Акрополю. Может, на представление посмотреть. Говорят, потрясающе. Наша Сицилия не сравнится.
Битон опускает руки и отходит на шаг.
– Вот это у тебя дубинка. Геракл немейского льва охаживал такой дубинкой. Честь тебе за такую дубинку.
Я отдаю Битону честь. Афинянин ползет, как черепаха. Я думаю: а смысл? Может, ну его? Эх, но так не хочется, чтобы он умирал.
– Не хочешь сходить со мной, с Гелоном повидаться? Он тебе обрадуется.
Это неправда.
– Я занят.
– Ага, вижу, ты человек занятой. Это-то понятно. Но, понимаешь, я бы хотел, чтобы мне на прогулке компанию составили. Свет уходит, и стыдно признаться, но мне тут в темноте не нравится. Крысы вылезают, и я боюсь. Ты не смейся, Битон. Знаю, что смешно, но уж как есть. Я боюсь.
Битон не смеется. Он уже пошел к афинянину.
– Стой!
Он замирает и оборачивается.
– Тебе прямо так сдалось угробить этого бедолагу?
Битон кивает.
– Я потому спрашиваю, что Гелон ищет на роль Ясона зеленоглазого актера. У Ясона, как известно, глаза были ну очень зеленые. Глаза-то Медею в первую очередь и привлекли, если верить легендам.
Битон глядит с непониманием.
– Могу предложить мех вина в возмещение.
Вид у него все еще непонимающий, но теперь непонимание заинтересованное. После смерти сына Битон стал почитать Диониса, но поскольку у него денег – кот наплакал, воздать почести ему удается редко.
– Мне?
– Ага, в обмен на афинянина.
Его глаза округляются. Кажется, он вот-вот расплачется.
– Спасибо.
– На здоровье, Битон.
Он берет мех и мощно к нему прикладывается. Для сосца Афродиты слабовато, но для какой-нибудь нимфы или богини чином пониже точно сойдет. Я похлопываю его по плечу и иду дальше. До афинянина я дохожу всего за пару шагов. Он сворачивается в клубок и закрывает лицо руками, ожидая продолжения. Когда оказывается, что его не бьют, он раздвигает пальцы, и из-за них выглядывают те зеленые глаза – зеленые, как ящерица.
– Не бойся, не мучить я пришел – хотя ты заслуживаешь муки. Я пришел предложить тебе роль в театральном представлении!
Он опять закрывает лицо руками и сворачивается еще сильнее.
– Да чтоб тебя! Хотел бы тебе сделать больно – сделал бы.
Пальцы раздвигаются, и я снова вижу зеленые глаза. Кажется, он что-то говорит.
– Не надо, пожалуйста…
– Хорош извиваться! А то еще передумаю. А теперь говори честно, и ничего тебе не будет. Еврипида знаешь?
Он не отвечает.
– Говори! Знаешь или нет? Еврипид, славный афинский поэт?
– Знаю.
– Сцены какие-нибудь знаешь? Прочитать сможешь, если спросят? Правду говори.
Он кивает.
– А “Медея”? Из “Медеи” знаешь?
– Думаю, да. Я…
– Приятель, тут недостаточно, чтобы ты думал. Я тебя на роль Ясона рассматриваю. Ключевая роль. А теперь говори честно.
– Я думаю… нет, я уверен, что много помню, пожалуйста…
Я даю ему мех с водой, чтобы в голове прояснилось. Он приканчивает половину одним глотком. Остаток выплескиваю ему на лицо, чтобы смыть кровь. Не так уж плохо, как казалось. Большая рана на щеке и еще на лбу. Ничего не сломано. Красавцем я бы его не назвал, но, учитывая обстоятельства, сойдет. Я протягиваю ему руку, и он хватается за нее. Мы идем. Все вроде нормально, пока не доходим до второго афинянина. Того, которого Битон убил. Когда мы до него доходим, зеленоглазый падает на землю и начинает плакать, целовать тело и что-то ему шептать.
– Хорош, приятель. Я тороплюсь.
Он не обращает на меня внимания, все целует и шепчет, так что его губы и лицо пачкаются в красном. Опять придется отмывать. Сплошная трата воды.
– Пошли!
Ничего. Я поднимаю дубинку, будто занося для удара. Помогает – он сразу отстраняется от тела, поднимает руки, защищаясь.
– А теперь вставай!
Он собирается было встать, но вдруг падает на колени, дергает несколько прядей желтых волос с того, что раньше было головой, и зажимает в кулаке. Затем встает. Я начинаю идти, медленно-медленно, и он идет следом.
Уже вышла луна, висит в небе серебряной ухмылкой, но и солнце там. Красное и толстое. Скоро оно сядет за стены карьера, а там за море, а там и ночь подойдет. Думаю, мой друг ночи обрадуется. Учитывая, что солнце в этих ямах, кажется, главная причина смерти.
– Что, рад, что вечер приходит, а?
Он не отвечает.
– Отвечай, дружище.
– Что, прости?
– Я говорю, ты рад, наверное, что Аполлон восвояси собрался.
– Ночью не то чтобы лучше.
– Что, крысы?
– Нет, холод. Очень зябко делается. Лихорадка бьет от перепада.
– Вы поэтому с другом в дыре прятались?
Он кивает.
– А что, тоже придумка. Уважаю. Но вот Битон, тот, с кем ты сейчас познакомился, – он афинские придумки ненавидит. Прямо терпеть не может. Кажись, этим вы его и разозлили. Спали себе в теньке, вместо того чтобы на солнце печься.
Афинянин снова плачет.
– Тише, приятель. Съешь оливку.
Я протягиваю ему миску. Оливки чудесные: с маслом, солью, чесноком и еще кое-каким секретом. Моя мамка их делает. Лучше в Сиракузах не найти. Он медлит, но берет парочку. Все еще плачет, но зато жует.
– Тебя как зовут, дружище?
– Пахес.
– Пахес?
Он кивает.
– А я – Полифем.
Я это выдумал. С этими афинянами никогда не угадаешь. Может, они порчу по имени наводят.
– Полифем? Как Циклоп?
– Ага, он самый. Мамка говорит, у папки моего один глаз был. Бедолага.
– А-а.
Мы идем.
– Знаешь что, Пахес? Вы, афиняне, сами виноваты. Приплыли тут, как акулы, сожрать нас хотели. Вы хуже персов. Они-то варвары, а вы вроде греки, а на других греков нападаете. Да, прав Диокл. Вы – подонки.
Он не отвечает, так и хромает дальше. На нас глядят из темноты.
– Но все равно, мой друг Гелон будет рад познакомиться с таким знатоком Еврипида. Говорит, он лучше Гомера. Скоро познакомитесь. С Гелоном, не с Гомером.
Я подмигиваю.
Свет уходит, и вылезают крысы. Сначала одна-две, но скоро земля ими кишит, воздух от них полнится звуками. Вы бы видели, как они выглядят. Не как нормальные крысы – эти мокрые, рыжие и очень жирные. Они бредут вразвалочку прямо по ногам, но, если на них не наступать, проблем не будет. Шагаю я ну очень осторожно. Кажется, что Пахес их не замечает, но, наверное, должен, потому что он на них тоже не наступает. Гелон полагает, в ямах больше тысячи крыс. Говорит, из самого города их слышно, если ночью прислушаться.
– Не донимают тебя крысы, Пахес?
– Нет.
– По-моему, они мне были бы страшней, чем голод или жажда.
Он смотрит на меня, как бы говоря, что ничего я не понимаю.
– Хочешь еще воды?
Он кивает, и я передаю ему мех.
– Скучаешь по Афинам?
Он выплевывает воду. Кашляет.
– Извини, конечно, скучаешь. Просто я слышал, что это прямо нечто. Знаешь, мы, сиракузяне, так вами восхищались. Вроде же даже наша демократия по вашему образцу придумана, да? Эх, хотел бы я это все увидеть. Парфенон там. Гелон говорит, даже в Египте с Персией нет ничего красивей.
– А он что, там был?
Я тянусь похлопать дубинку, но останавливаюсь.
– Нет. Никогда не был, но говорил с теми, кто был.
– Это правда.
– Что правда?
– Афины – самый прекрасный…
Он замолкает. Кажется, сейчас польются слезы, но он берет себя в руки.
– Самый прекрасный город во всей Греции. Я был в Египте, и, по-моему, Афины ни в чем ему не уступают. За Персию не скажу.
– Ты был в Египте?
– Да.
– У пирамид? Серьезно?
Он кивает.
– Оливку будешь?
Я даю ему еще парочку.
– Спасибо, Полифем.
Я вижу вдалеке Гелона. Он расселся на камне – ниже стоит пара афинян.
– Лампон, – быстро говорю я.
– Что?
– Меня так зовут. Не Полифем. Лампон. Не будут же ребенка в честь Циклопа называть.
– А-а.
Я ухмыляюсь и подталкиваю его в спину.
– Держись, Гелон. Я привел тебе главного актера!
Гелон глядит вниз:
– Что?
– Знакомься, это Ясон. Смотри, какие глаза зеленые. Ты же вроде говорил, что у Ясона глаза зеленые?
Гелон оглядывает Пахеса. Кажется, он не впечатлен, и, если честно, раны, которые оставил Битон, хуже, чем мне сначала показалось. Выглядит Пахес так себе.
– Глаза зеленые? Ты о чем? И вообще, он же сейчас помрет.
– Ну что ты за пессимист гребаный, Гелон? – Я приобнимаю Пахеса. – Пахес, покажи ему. Финальная речь Ясона, та, где он понимает, что его дети мертвы, давай!
Пахес прокашливается:
– Ты, ненавистная богам, я…
– Стойте! – говорит Гелон. – Если уж ставить, так всю сцену. Медея, ты готова?
– Наверное.
Вперед выступает очень высокая женщина – но в ямах же нет женщин. Я присматриваюсь. Это просто тот бедолага, у которого голова качалась, только теперь у него волосы длиннее и он в девчачьем хитоне.
– Это твоей сестрицы?
Гелон кивает.
– А волосы?
– С лошади.
– Да ты расстарался.
– Ага.
Пахес с Медеей занимают позиции. Мы с Гелоном садимся на камень и ждем. Я задумываюсь, каково было бы увидеть настоящий театр в Афинах, и мне больно, потому что я знаю, что никогда его не увижу, но потом я оглядываюсь: стены карьера стоят кольцом, и небо давит сверху, и на нем гуща звезд – или богов, – а внизу такая же гуща афинян. Да разве сам этот карьер – не амфитеатр?
Огромный афинский амфитеатр, а мы, два маленьких сиракузянина – зрители.
Они начинают.
2
Вдалеке качается, будто хмельная луна, фонарь таверны Дисмаса. Мы немножко приняли на грудь по пути из карьера, и Гелон хочет продолжить у моря, а Дисмас как раз у моря, даже слишком близко. Дорога усыпана ракушками, раздавленными крабами, блестящими клубками водорослей, похожими на горгон. Я бросаюсь одним клубком в Гелона, а он пинает другой в мою сторону. Мы подходим ближе, и шум волн смешивается со звоном чаш и трескучей неразберихой, сложенной из сотни голосов.
В дверях стоит однорукий красавец с огненно-красной лошадью, выжженной на лбу. Это Хабрий – военный раб из Аргоса, которого Дисмас приобрел за бесценок по причине недостатка конечностей. Когда Хабрий трезвый, создается впечатление, что ему постоянно немного больно – щеки и лоб напряжены в полугримасе, – но поздним вечером, когда кто-то из посетителей расщедрится и принесет ему кувшин-другой, щеки расслабляются, глаза загораются, и если остаться послушать, он одарит вас рассказами об Аргосе: о женщинах, которых Хабрий любил, колесницах, на которых мчался, храмах, в которых молился, о множестве священных источников и зеленых рощ. Да, разгульное место Аргос, святое место. Ах, если бы он мог показать, – и что-то такое есть в том, как он плетет свои истории, что-то пылкое и отчаянное, отчего кажется, что бедный Хабрий пытается вызвать свою родину к жизни не только для вас, но и для самого себя. Что хочет, чтобы на пепелище, в которое превратилась его жизнь, возгорелся и засиял Аргос. А потом его переполняют чувства, и он замолкает посреди фразы, смотрит в небо, мурлычет под нос странную мелодию и показывает вам обрубок руки. Нравится мне Хабрий.
– Какие люди! – говорю я.
Хабрий кланяется и открывает дверь. Кувшинов рядом с ним явно нет. Мы проходим.
В ноздри бьет запах соленой воды и рыбьей чешуи. У Дисмаса морем пахнет сильнее, чем на пляже. Из-за расположения таверну любят рыбаки, и, поскольку помещение ими забито, а окна закрыты, запахи остаются надолго. В воздухе чуть ли не туман; от шей и пропотевших плащей поднимаются завитки пахнущего рыбой пара. Рыбаки с пурпурными брызгами на бороде склоняются над кувшинами, хвастаясь или жалуясь на последний улов. Но, вдобавок к человеческому гвалту, само здание тоже издает кучу разных звуков. С годами дождь и ветер прогрызли в стенах множество дырок, крошечных и не очень, и поэтому кажется, что костяк здания свистит, а балки и пол скрипят и гнутся. Но эта хрупкость только добавляет уюта. Уши дают коже сигнал приготовиться к удару, но его не случается, и, поскольку человек больше всего ценит вещи, когда боится их потерять, постоянное ожидание, что на тебя обрушится гнев стихии, добавляет попойке остроты.
Гелон направляется прямиком к стулу Гомера – хлипкой хреновине, на которой, по слухам, слепой певец как-то раз посидел, навещая Сиракузы несколько сотен лет назад. Он ютится в углу под бронзовой табличкой, которая так и гласит: “Стул Гомера”. Правда ли это его стул? В Сиракузах то тут, то там встречаются Гомеровы стулья – могут ли они все быть стулом Гомера? А почему бы и нет? Задница – штука капризная, брака на всю жизнь не заключает, так что да, может, это и правда его стул.
Там уже сидит какой-то мужик, и Гелон просит его подвинуться. Мужик говорит ему идти на хер, и Гелон вежливо хватает его за шкирку и валит на пол, попутно извиняясь. На нас оборачиваются; раздаются восторженные голоса и гиканье, потому что Гелона у Дисмаса хорошо знают, и этот ритуал часто повторяется, когда несведущие выпивохи занимают его место.
Я заказываю первый кувшин. Вино наливает новая рабыня. Она темненькая, со светло-карими глазами и кожей, как чеканная медь. От нее прямо-таки сияние исходит, и, хотя она – всего лишь рабыня, я морщусь, когда замечаю, что она оглядывает мой плащ; он же весь драный и в пятнах. Она передает мне кувшин, и я возвращаюсь к нашему столику, изо всех сил стараясь не хромать. Гелон сидит, обхватив голову руками.
– Давай, пей. Хандрить не будем, ясно?
Он поднимает глаза, пробует улыбнуться.
– Пропустим кувшинчик! – говорю. – Что мы пропустим?
– Кувшинчик.
Я наполняю чаши до краев, а свою поднимаю.
– За Сиракузы! – говорю.
– За Гомера.
– Ты посмотри на новую рабыню. Шикарная же. Смотреть на нее больно. Правда, сука, больно.
– Как ты думаешь, он понимал, что он сделал?
– Чего?
– Как ты думаешь, когда Гомер написал “Илиаду”, он понимал, что написал “Илиаду”, а?
– Должен был.
Гелон кивает:
– А Еврипид? Вот он написал “Медею”. Думаешь, он понимал, что сделал?
– Да.
Гелон задает эти вопросы каждый раз, как сидит на стуле Гомера.
– Знаешь, что? – говорит он. – У меня к тебе предложение. Ты, наверное, подумаешь, что я ума лишился, но все же.
– Я уже.
– Что?
– Думаю, что ты ума лишился.
Кажется, мой ответ его обескураживает, но тут я поднимаю чашу, и мы чокаемся и пьем до дна. Гелон тянется налить еще, но кувшин пуст.
– Похрен. Следующий с меня.
Он бредет прочь, и его заносит по пути, а я сижу и размышляю, что у него может быть за предложение, но тут рабыня подходит к моему столику, и я даже глазом моргнуть не успеваю, как моя рука тянется к ней, задев пальцами клеймо у нее на руке: кожа в этом месте сморщенная и шершавая.
– Ты откуда?
Не отвечает.
– Ой, ну скажи. Ты тут новенькая. Карфаген? Египет?
Она смеется. У нее передний зуб сколот, и он похож на клык, а она – на великолепную волчицу.
– Чего смеешься?
– Египет? – спрашивает она. – Ты с ума сошел?
– Ты на фараоншу похожа.
Она улыбается и уходит. Хитон мягко шелестит с каждым шагом. Бля, ну что за красотка. Гелон возвращается, ставит три кувшина, в которых плещется вино.
– Три?
– За Гомера! – говорит Гелон.
– За Гомера! – говорю я.
Дверь распахивается, и в таверну врывается компания аристосов. Больше шестнадцати им не дашь. На запястьях поблескивают серебряные браслеты, а одежды такие белые и пышные, что, проплывая над земляным полом к соседнему столику, они кажутся облаками. Они топают ногами и требуют три кувшина лучшего вина. Местные, выругавшись, отрываются от выпивки и поднимают обветренные лица. После войны все время так: безбородые пиздюки вроде этих захватывают заведение Дисмаса и другие толковые кабаки. Они визжат про демократию, норовят угостить выпивкой, но все знают, что они пришли, только чтобы поглазеть на простых мужиков.
– Вот засранцы мелкие, – говорю я. – Еще даже голосовать не могут, а Дисмас их пускает.
Гелон смотрит в пространство.
– Гелон?
– Прости, что?
– Ты посмотри на этих пиздюков. Одно яйцо на всю компанию. Скажи, я прав?
Гелон улыбается, но его взгляд печален.
– Лампон?
– Чего?
– Я Десму увидел.
– Что?
– Она была вон на той фреске. Где Троя. Она среди женщин, которых гонят на корабли.
– А-а.
Десма – женушка Гелона. Три года про нее ни слуху ни духу. Сбежала, когда их мальчонка умер. Говорят, сошлась с каким-то парнем в Италии. Если б она объявилась, я бы удивился, но Гелон видит Десму часто, в страннейших местах. Он видел ее в шве на вазе – какая-то бессмысленная трещинка, а он на нее таращится, пока его не ткнешь. Спросишь, на что он смотрит, а он шепчет: “Десма”. Он видит ее в мазке краски, в дереве, на небе, в бегущей воде. Гелон видит Десму повсюду. Он снова закрывает лицо руками. К четвертому кувшину такое обычно и случается.
– У нас тут винцо, Гелон! Что тут у нас?
– Винцо, – говорит он и делает большой глоток.
– И ты сидишь на стуле Гомера. Где ты сидишь?
– Я спать не могу, Лампон. Лежу в…
– Да хватит уже. Ты где сидишь?
– На стуле Гомера.
– И что у нас тут?
– Винцо.
Я поднимаю чашу. Гелон в свою просто таращится.
– Приветствую вас, граждане!
Мы оборачиваемся. Это один из аристосов из-за соседнего столика. Стройное создание, правая рука на бедре, в левой огромный кувшин, больше похож на девчонку, чем на парня: волосы до плеч, смазливое лицо, серые глаза с длинными ресницами и пухлые губы.
– Не желаете совершить возлияние?
Гелон что-то бормочет, а я смотрю в сторону. Мальчишка все равно наполняет наши чаши.
– За победу! – говорит красавчик, поглядывая на Гелона.
Мы ничего не говорим, только осушаем чаши за один глоток. Вино роскошное, рядом с ним то, что мы сами пили, – уксус. И пахнет чудесно: медом и чем-то цитрусовым. Я слыхал о душистом вине, но понятия не имел, что такие, как Дисмас, его продают. Драхма за кувшин, не меньше.
– Хорошее, правда?
– Не уверен, – говорю. – Прежде чем судить, нужна доза побольше. Верно, Гелон?
– Верно.
Красавчик смеется, шлепает себя по бедру. Не так уж и смешно. Но все равно он снова наполняет чаши до краев, и мы снова выпиваем.
– А теперь? – улыбается он.
– Как эмпирик, – говорю, – считаю, что требуется более пристальное изучение. Согласен, Гелон?
Гелон согласен, и красавчик снова наливает. Так продолжается, пока его кувшин не пустеет, но ему хоть бы что – заказывает еще и подзывает своих дружков. Подходят трое лоснящихся подростков и представляются. Мне знакомо имя каждого из их отцов – перед нами настоящие богатеи, – но красавчик всех переплюнул. Его папка – Гермократ. Гермократ, чтоб его. Красавчик говорит, что ненавидит своего папку. Что он на нашей стороне, считает неравенство в городе постыдным. Что рабочие вроде нас делают Сиракузы Сиракузами. Я хмурюсь и молчу, но слышать приятно. Я говорю, что они вообще не представляют, как мы живем. Говорю, я боролся с афинянином на Эпиполах, и это было прямо как у Ахилла с Гектором. Либо он, либо я – и я вскакиваю и показываю. Они радостно кричат, и я замечаю, как на меня смотрит рабыня. Бля, ну что за красотка.
– Еще кувшин Ахиллу! – кричит Гермократов сын, и нам приносят еще кувшин.
Теперь комната кружится – не вертится, как безумная, а легонько покачивается, и кажется, что лица вокруг пляшут. Кто-то спрашивает, почему я хромаю. Это после войны? “Да, – говорю, – афинский лучник меня подстрелил”. Стрела в щиколотку попала. “Как Ахиллу?” – спрашивает кто-то, и я начинаю реветь. Аристосы собираются вокруг. Говорят мне, что я герой, был ранен во имя Сиракуз, и это – честь. А там мы уже все обнимаемся. И Гермократов сын тоже. Он берет меня за руку, говорит, его отец будет рад со мной познакомиться. “Как с Ахиллом?” – спрашиваю я, и он отвечает: “Да, как с Ахиллом”. Приносят еще кувшин, и вот мы уже побратались. Я бедный, они богатые, но мы – братья. Слезы так и льются. Хер знает почему. Я всю жизнь хромаю, без всяких битв и стрел, просто стопа кривая, и я смотрю на нее – на грязном полу, искореженную, у всех на виду, – и на мгновение чувствую себя священным.
Мы снаружи. Горстка звезд освещает нам путь. Городской шум затихает и затихает, а потом уже ничего не слышно, только волны и хруст наших шагов. Мы с Гелоном идем под руку – иногда нас заносит в кусты, но в основном все гладко. Я стащил у одного из аристосов мех с вином, пока мы братались, и мы прихлебываем из него по пути. С тех пор как мы вышли из таверны, мы идем почти в полной тишине, и я вздрагиваю, когда Гелон начинает петь. У него чудесный голос: тихий и иногда шаткий, но сладостный и нежный, и он вкладывает в него необычайное чувство. Он поет отрывок из “Медеи”. Сразу после того, как она убила своих детей. Где хор рассказывает, что нехорошо так поступать. Иногда, забыв слово, он замолкает, а вспомнив, прямо-таки выкрикивает. Теперь понятно, куда мы направились – обратно к карьеру. Еще чуть-чуть, и вот я чувствую запах, гнилостный запах карьера, и Гелон останавливается.
– Мое предложение.
– Что?
– Мое предложение. Я же тебе не сказал… Так вот.
– Ничего не…
– Режиссеры.
– Чего?
– Мы с тобой. Будем режиссеры.
Он передает мне мех. Я отпиваю.
– Будем?
– Ага.
– А что они делают?
– Режиссируют… – икает он. – Поставим “Медею” в карьере. Но не просто отрывки. Всю пьесу поставим. Полноценно, с хором, с масками, со всем таким.
– А-а.
Рядом со мной раздается тихий стон. Гелон плачет.
– Ты чего?
Молчание.
– Гелон?
– Полноценно! – говорит он дрожащим голосом. – С хором, с музыкой, с масками. С костюмами. Настоящий спектакль. Как в Афинах. Завтра утром начнем.
– Так надо им сказать, – говорю я.
Пошатываясь, я подхожу так близко к краю, как только осмеливаюсь.
– Просыпайтесь, афиняне! Просыпайтесь!
Сложно представить, что их сотни, может, тысяча, и все они там, спят. Ты знаешь, что это так. Что они там есть, где-то в черноте, но где, и кто, и что они думают, что чувствуют? От этого кружится голова, и тьма красиво завихряется. Я шарю по земле в поисках камешка и, найдя, швыряю вниз. Он пролетает, мелькает молнией и приземляется с божественным грохотом.
– Завтра утром! Полноценная постановка! Хор, маски и все такое! – Я оборачиваюсь. – Так, Гелон?
– Так.
Я прихлебываю, тянусь за новым камнем.
3
На одной улице с Гелоном когда-то жил старый гаруспик. Он был еще и поэт, но, говорят, пророчествовать у него выходило лучше, чем слагать стихи. Его видели перед рассветом и самой поздней ночью: он расхаживал, заложив руки за спину, запрокинув голову, пока в глазах у него не плыло от звездного света, и бормотал себе под нос. Под полуденным солнцем его видели на агоре – он с видом яростного усердия вспарывал брюхо ягненку, кошке, собаке, смотря кто ему достался, и мокрыми насквозь руками рылся в чем-то липком и пурпурно-розовом в поисках намеков на будущее.
Гелон со стариком приятельствовал и однажды отвел его в сторонку. Это несколько лет назад было, до войны, до того, как Десма сбежала, когда их сынишка, Гелиос, был жив, хотя уже едва. Так вот, Гелон спросил, доживет ли Гелиос до конца года. И старик призадумался. После долгого молчания он сказал, пусть Гелон приведет ему быка и тогда скоро узнает.
Поскольку Гелон – бедняк, он сказал, что быка себе позволить не может. Ну ладно, а овцу? Или хоть ягненка? Гелон сказал, что попробует. Той ночью он стащил ягненка у земледельца Аристея, принес прорицателю. Прорицатель сказал, чтобы Гелон приходил к Дисмасу в таверну на следующий вечер, и там он расскажет, что выяснил. Потом он поклонился, взял ягненка под мышку и ушел, прихрамывая, в ночь.
Так вот, сидят они на следующий день у Дисмаса, старик поддатый, потому что, как он сказал, вино ему помогает гадать, а бедный Гелон все допытывается: “Что ты увидел? С Гелиосом все будет хорошо?” И вот, наконец, он просит Гелона наклониться поближе. Гелон наклонился. И старик спросил: Гелиос – это тот мальчик, с которым Гелон все прогуливается? Бледный мальчик в смешной голубой шапочке? Гелон сказал, что да. И старик шепнул ему, что, судя по виду мальчика, – наверное, нет. Уже скоро умрет. Мальчик, кажется, болен, очень болен, но как все обернется на самом деле, он не знает, потому что будущего-то нет, есть только то, что будет дальше, и он вскрывает ягнят, кошек и собак, потому что… а что еще делать? Это хоть что-то, а людям нужно хоть что-то услышать. И он попросил Гелона принести еще кувшин.
Я говорю о нем мимоходом, потому что сейчас, идя к карьеру, мы его замечаем. Он на дереве, в двух шагах от квартала Ахрадина, висит на веревке, и под алым рассветным солнцем она кажется стеблем, а он – ужасным цветком. Гелон останавливается и произносит молитву. Я – нет. Потому что у меня нет времени на подонков, которые убивают собак.
Мы идем дальше.
4
Режиссеры приходят рано – Гелон и Лампон готовы проводить пробы. Голова раскалывается. По пути меня дважды вырвало, но мы на месте, и даже заранее. Почему? Потому что это важно. Так говорит Гелон. Отношения между актером и режиссером строятся на доверии. На вере. Я смотрю на афинян перед собой – скелеты в кандалах, ряд за рядом, – и кажется, что с верой у нас вряд ли сложится и пьесу поставить невозможно, но впечатления обманчивы. Так говорит Гелон. Говорит, что Еврипидова “Ипполита” ставили во время афинской чумы. Что, хотя город был опустошен, и тела лежали на улицах грудами, и небо было черно от погребального дыма, дионисии шли своим чередом. Половина актеров помирала. Да и половина зрителей тоже, но хор пел, хор танцевал. Гелон говорит, так было даже лучше. Что актеры от этого играли с невиданной страстью. Так солдат сражается яростнее всего, получив смертельное ранение. Вот и те афиняне сыграли особенный спектакль. Что-то посильнее обыкновенной трагедии. Мы всего лишь следуем их образцу. Продолжаем с того места, где они закончили много лет назад, в Афинах. Так говорит Гелон. На это он надеется.
Мы выбрали для постановки Лаврион, потому что этот карьер – серповидный, с возвышением в центре – во многом похож на амфитеатр. У края есть такое место, где выступающий известняк нависает молочно-белым козырьком, и под ним очень даже тенисто. Репетиции мы решаем проводить там. Гелон выкладывает пару мехов с вином и несколько краюх хлеба. Вокруг нас уже маячит группка афинян – их глаза мечутся между едой и нашими дубинками. Посреди толпы я замечаю пару зеленых глаз, зеленых, как ящерица.
– Пахес! Ты как?
Пахес машет мне костлявой рукой, я подхожу к нему, обнимаю. Стискивая его, я чувствую, как ходят под кожей вены, выступающие, будто веточки. Я говорю, что мы делаем полноценную постановку “Медеи”, с хором, масками и всем таким. Он кивает. Я говорю, что с учетом цвета глаз и уже состоявшегося чтения он – наш первый выбор на роль Ясона, а значит, по меньшей мере месяц будет есть досыта. Стражники, конечно, выдают заключенным пайки, но это голодные пайки, хватает только не помереть, да и то в лучшем случае, и, услышав о еде, Пахес начинает плакать. Дико странно видеть, как из столь сухого источника течет вода. Я даю ему мех с вином и кусок хлеба. И вот вроде бывало такое, что я хотел есть, и пить хотел, но не так. С каждым укусом и глотком его глаза проясняются. На щеках появляются островки розового, цвет растекается по лицу и шее. Пахес утирает слезы с зеленых глаз и встает чуть прямее, спрашивает, когда начинаем и кого мы выбрали на роль Медеи. Я даю ему еще хлеба.
– Сегодня просто пробы проводим, – говорю. – Пока только с тобой определились. Пахес, ты наш первый выбор. Большая честь. Не подведи меня.
Пахес кивает и жует. Афиняне смотрят с мучительным трепетом. Они смотрят то на него, то на меня, пытаются понять, почему он. Я приобнимаю его.
– Этот парень известен вам под именем Пахес, но с этого момента он – Ясон. Иначе, как Ясон, его не называйте. Поняли?
Афиняне, кажется, озадачены, но все равно кивают.
– Пахес, теперь ты – Ясон.
Хлеб кончился, но он все сосет бурдюк. Кажется, так и видишь, как выпирает горло, когда по нему проходит жидкость, слышишь, как она падает в желудок с тихим плеском. Если честно, Гелон не хотел, чтобы он был Ясоном, но я настоял. Я дружески потираю его голову – видел, что аристосы так делают в гимнасии. Волосы у него редкие, но те, что есть, чернющие. Пахес, наверное, раньше был загляденье, с его-то зелеными глазами. Я глажу волосы, и они остаются в моей руке – ветерок уносит пряди и разбрасывает по карьеру.
– Кто ты?
Он отдает мне мех. Пустой.
– Спасибо.
– Кто ты?
– Пахес.
– Нет, ты Ясон. Кто ты?
– Па… Ясон.
– Слыхали, парни? Он – Ясон.
Афиняне таращатся на нас, кивают.
Пахес говорит, в карьере есть афинянин, который сыграл в куче пьес. Не в Афинах, в больших спектаклях, просто в разных сельских театрах в Аттике. Но все равно, на настоящем актере может держаться вся постановка, так что мы оставляем Гелона с остальными и идем его искать. Пахес жуть какой медленный, все время приходится останавливаться и ждать, пока догонит.
– Ну давай, Ясон! – говорю. – Ты как руно добыл с таким настроем?
У стен карьера больше всего надежды побыть в тени, но мы с Пахесом держимся середины. В середине есть высокие камни, и я, конечно, тот еще ловкач, но залезть на них могу, высоко-высоко. Так высоко, что карьер открывает передо мной тайны. Оттуда, сверху, я видел все. Их похороны, их ссоры, дерево, у которого они молились. Единственное, что в карьере было зеленого, – и в итоге они его свалили и съели. Я слышал их песни, слышал их плач. Порой я сидел на камне часами, пока ноги не начинали болеть, но это еще не все. Нет, это было только начало: я сидел, пока ноги не онемеют, и я не забуду, что они у меня есть, и тогда происходило кое-что дико странное. От онемения начинало казаться, что я вовсе не на камне сижу, а на облаке – гляжу на все сверху, этакий малютка-бог.
Прогулка по карьеру с Пахесом сбивает меня спесь. Я считал себя знатоком, но по ходу прогулки то тут, то там выдаю свое невежество. Представьте себе полумесяц, пустивший в небеса серебряные корни – вот такой примерно формы карьер. Сам полумесяц – все, что под открытым небом; это, безусловно, самая большая часть карьера, но по краям уходят далеко вглубь скалы извилистые проходы. Вот это и есть корни – я даже не представлял, сколько их. Пахес с ними хорошо знаком. Объясняет, что многие афиняне проводят дни в тоннелях, чтобы спрятаться от солнца, и выходят только по ночам. Я спрашиваю: это там они прятались, когда Битон убил его друга? Его передергивает, он отворачивается.
Мы находим актера в одном таком тоннеле, под покрывалом из камней – я его даже не вижу с первого раза. Когда я делаю шаг внутрь, он начинает орать, и Пахесу приходится его успокаивать. Оказывается, Битон с ним сцепился пару дней назад – он спасся, забравшись поглубже, туда, куда Битону не залезть. Он садится, и с него осыпаются камешки и пыль, будто он крот, выскочивший на свежий воздух; я даю ему хлеба. Его кожа белая от извести, а глаза – огромные и черные. Я перевожу взгляд от них к Пахесовым, зеленым, как ящерица, и думаю, как же удивительно разнообразны глаза у нас, живых существ.
– Как думаешь, сможешь сыграть Медею? – спрашиваю я.
– Смогу.
– Всю пьесу?
Он косится на мех.
– Да.
– Первую сцену?
– Точно да.
– Ну что, давай.
– Сейчас?
– Ага.
Он косится на Пахеса.
– Давай, Нума.
Нума откашливается, просит сначала воды. Я даю ему мех, он делает большой глоток, утирает бороду. Где-то по ходу этого движения его лицо начинает меняться, осанка тоже.
– О, кто-нибудь, взгляните на меня! – говорит Нума женским голосом.
– Неплохо.
Нума моргает.
– О, кто-нибудь, вы видите, что он сделал? Он – мой возлюбленный, отец детей, которых я носила и кормила, по капле вливала в них жизнь с молоком, сладким от любви к нему – а теперь взгляните! Я осталась одна, и ложе мое некому согреть, и холодно, так холодно, мне холодно! Видите? Видите, что он со мной сделал? – Он замолкает. – Мне продолжать?
– Да.
Он продолжает. Иногда он сбивается, забыв слово, бормочет, но в целом получается удивительно. Ни на что не похоже. Мы с Пахесом сидим, слушаем этого оголодавшего сукина сына, наполовину заваленного камнями, и, пока мы слушаем, что-то меняется. Слова и голос размываются, размывается сама его суть, и он становится двумя вещами сразу: конечно, он – умирающий с голоду афинянин, но вместе с тем что-то еще, сначала неявное, но набирающее силу. Он – Медея, несчастная царевна Медея из Колхиды, и она высказывает все свои жалобы на Ясона: как она творила волшебство, чтобы помочь ему добыть золотое руно, убила брата, предала отца, чтобы он заново обрел свое царство. Как он поклялся ей в вечной любви при свете звезд, сказал, что никогда не бросит, а при первой же возможности взял и бросил, съебался с девчонкой вполовину моложе себя, сделал Медею посмешищем, и теперь она покинута, теперь ей нечего делать, кроме как бродить по Греции в горе и одиночестве. Слыша все это, я терзаюсь от обиды на несправедливость и, повернувшись к Пахесу, проклинаю его. Говорю ему, что он – подонок. Что без Медеи он ни за что бы не добыл руно. У меня дрожит голос.
– Она тебя любит! – говорю. – Детей тебе, сволочи, родила!
– Что?
Это Нума. От Медеи не осталось ни следа. Они с Пахесом на меня таращатся. Оба перепуганы до полусмерти.
– Извиняюсь, – говорю. – Сымпровизировал немного. Прекрасно, Нума. Надо будет уточнить у Гелона, но уверен, что роль твоя. И ты, Пахес, молодец.
Я отламываю два больших куска хлеба, даю один Нуме, другой – Пахесу.
– Крайне впечатлен, – говорю я.
Тем временем Гелон неплохо продвинулся. У нас набрался целый хор из пятнадцати афинян, и каждый второй из них утверждает, что в Афинах им доводилось играть в больших постановках. Не на главных ролях, но в хоре. Для начала мы ставим отрывок из середины, и Нума справляется потрясно, даже лучше, чем в тоннеле. Пока он говорит, я смотрю на Гелона, и у него все лицо дрожит, с каждым словом Нумы на нем проступает что-то новое. После выступления Гелон подходит к нему и обнимает.
– Знакомься, Гелон, это Медея, – говорю. – Медея, это Гелон.
– Спасибо, – говорит Гелон.
Я приобнимаю Пахеса, потираю ему волосы.
– Кто ты?
– Ясон.
Даю ему еще хлеба. Хор смотрит.
– Кто он?
– Ясон! – говорит хор, пятнадцатью голосами как одним.
– Ты – Ясон.
Пахес кивает, жуя.
5
На обочине шестеро детишек в шлемах, с мечами и с белыми палками. По дороге от карьера мы ничего не видели – одинокая получилась прогулка, только наше дыхание да карканье ворон, – и эти солдатики как-то добавляют утру красок. Они кричат, чтобы мы подняли руки, а не то они нас выпотрошат как рыб. Мы с Гелоном поднимаем руки, просим, чтобы нас не потрошили как рыб. Вперед выходит один мальчишка. Шлем ему велик, металл закрывает нос, но видно впалые щеки и серые глаза.
– Крутой меч, – говорю я.
– Заткнись, – отвечает мальчик. – Что, хочешь, чтобы я тебя выпотрошил?
– Нет, спасибо.
– А ты?
– Совсем не хочу, – говорит Гелон.
Он расхаживает из стороны в сторону, потирает подбородок.
– Что вы делаете в Сиракузах?
– Мы – сиракузяне.
– Ложь.
– Прошу, – говорю я. – Пощади.
– По-моему, звучат как афиняне, – выкрикивает ребенок, который стоит подальше.
Мальчик усмехается:
– Что, ребята, из Афин приплыли? – Он поворачивается к Гелону. – Лазутчики?
– Ни в коем случае.
– Знаете же, что мы делаем с лазутчиками, да?
– Потрошите как рыб?
Мальчишка хмурится, проводит белой палкой от моего подбородка к Гелонову, и тот в отвращении отшатывается:
– Бля, кость.
– Что?
– У него кость.
Я присматриваюсь: оба конца палки шишковатые и желтые. Да, при внимательном рассмотрении она определенно напоминает кость из ноги.
– Это у тебя кость?
Мальчишка кивает. Его друзья гикают и тоже машут костями.
– Где ты ее взял?
– Молчать!
Он замахивается было снова, но Гелон берет его за руку, встает на колено, заглядывает ему в глаза и медленно, спокойно повторяет:
– Где ты ее взял?
– Молч…
– Я серьезно спрашиваю, мать твою. Ты где ее взял?
Мальчишка что-то бормочет.
– Не слышу.
– Вон там… – Он показывает куда-то за спины товарищей.
Гелон снимает с него шлем, гладит по голове. Густые светлые кудри на миг покрывают его пальцы позолотой. Он забирает кость.
– Нельзя с этим играть.
Мальчишка кивает, будто понимает. Гелон с детьми ладит. Если б я так сказал, пацан бы меня просто треснул этой костью, наверное. Гелон ее отбрасывает. Где-то в траве свистит.
– А теперь будь умницей и покажи, где именно.
Мальчишка направляется к друзьям, жестом показывает нам идти за ним. Остальные смотрят на нас подозрительно, стискивают кости и мечи, но не говорят ни слова. Просто вышагивают строем, а тот мальчишка ведет. Мы проходим мимо упавшего дерева, и он откуда-то достает веревочку на палке, мотает ей в воздухе, шепчет. Идем дальше, и веревочка взвивается все чаще. Камни, кусты, кучки пыли, листья, ящерки – все поглаживает веревочка. Когда мы спрашиваем, почему у него такой тревожный вид, он говорит, что неважно. Но Гелон не довольствуется ответом, и мальчишка бормочет, что враги сильны и что многое – не то, чем кажется. Он переводит взгляд с Гелона на землю со смесью надежды и стыда.
– Спасибо, что защищаешь нас, – говорит Гелон.
Мальчишка широко улыбается.
Мы приходим в какую-то рощу. Ближе к краям деревья желтые, горелые, в воздухе висит запах опаленной коры. Мы заходим глубже и глубже, в роще темнеет, повисает приятная прохлада. Мальчишка останавливается.
– Смотри!
На земле под ивой лежат вповалку шесть скелетов в доспехах – их кости торчат из-под щитов и листьев, будто бледные корни. Их плоть давно сожрал ветер, или солнце, или зубы, но в воздухе чувствуется дурной душок.
– Афиняне, – говорит Гелон.
– Ага, – говорит мальчишка.
Он дергает Гелона за плащ, подводит поближе.
– Вот, смотри. На каждом сова, а тут сама Афина, видишь?
– Не надо играть с их костями, ребята, – говорит Гелон.
Мальчишка кивает, но вдруг по его лицу что-то пробегает; он переводит взгляд со своих друзей на Гелона и хмурится:
– А хули нет? Они – наши враги.
Целую вечность Гелон ничего не говорит, только глядит то на кости, то на ребят. Сквозь ветви ему на лицо пробивается солнечный свет. Гелон поразительно красив. Но его красота будто охвачена горем, и от этого только лучше. У Гелона такое лицо, что кажется, ему пристало быть довольным, но чуть на него взглянешь – сразу понимаешь, что это не так. Безжалостное напоминание, что красота – не все. Смотри, как бы говорит оно. Вот Гелон: богоподобный, сломанный Гелон. Смотри и помни: красота – не все.
– Неправильно это, – наконец говорит Гелон.
Мальчишка поглаживает подбородок, будто прикидывает вес этих слов:
– Ты так правда думаешь?
Гелон кивает.
Пока они разговаривают, я приглядываюсь к афинянам. Следов погребального костра нет, так что вряд ли их пытались захоронить. Но если бы их убили мы, сиракузяне, то сняли бы с них броню и принесли в город в качестве трофеев. Да, странные дела. Я встаю на колено и прибираю к рукам нагрудник – отрываю с трудом, потому что ребра все в какой-то клейкой херне. Броня роскошная: серебряные совы парят над бронзовыми облаками. Работа что надо. В городе за такое много денег отвалят. Я стягиваю со скелета пару поножей к нагруднику, смываю с них клей водой из меха, оттираю листом. Только потом примеряю. Чуть великоваты, но с учетом обстоятельств неплохо. Все шлемы у детей, надо бы прихватить один, чтобы был полный комплект.
Я возвращаюсь, чтобы спросить разрешения, но они заняты. Мальчишка говорит Гелону, что его зовут Дарес, и они с отрядом оставят тела в покое. Все кости вернут. Дарес спрашивает, устроит ли нас такое, и Гелон качает головой. Он подумал, и теперь ему кажется, афинянам нужен погребальный костер: небольшой, только чтобы кости успели закоптиться, а мы – прочитать молитву. Не больше, чем заслуживает любой грек. Дарес хмурится. Костер для врагов? Молитва?
– Ты же шутишь?
– Не шучу.
Дарес поворачивается к друзьям.
– Ну что, пацаны? Похороним этих тварей?
Его друзья ничего не говорят. Точнее, не говорят словами – но лица у них будто кричат. Даже под шлемами видно, как они вздрагивают, как их глаза широко раскрываются, а потом быстро моргают. Дарес спрашивает снова. На этот раз вперед выходит мальчик. Крошечный мальчик. Такой маленький, что по сравнению с ним его дружки кажутся мужчинами, а шлем у него на голове – котлом. Ему шесть-семь, не больше. У крохи шевелятся губы, но я ничего не слышу.
– Погромче, Страбон, – говорит Дарес.
– Не молимся, – говорит кроха дрожащим, сиплым голоском, который едва перекрывает шум ветра между деревьями.
Дарес просит объяснить.
– Они… – Кроха показывает рукой на кучи веток и листьев. – Они убили братика. Не молимся!
От слов, кажется, идет эхо, отдается от стенок шлема-котла. Он повторяет снова и снова. Удивительно, как столько чувства помещается в таком маленьком тельце. Он покачивается туда-сюда, показывает пальцем, замахивается. Остальные ребята смотрят то на него, то на афинян, и на миг этот кроха с надтреснутым голоском становится их предводителем. Многие начинают рассказывать похожие истории. Кричат про двоюродных братьев, потерянных в море, забитых до смерти дядюшках, отцах, сброшенных в канавы далеко от Сиракуз. А для них зажгли костер? А по ним молились? Дарес призывает к порядку, но тщетно. Он бегает туда-сюда, топает ногами, размахивает руками. Бесполезно. Уже кажется, что он потерял в их глазах все влияние, но вдруг он делает нечто странное. Он подходит к крохе и встает на колени. Дети затыкаются. Даже мне вид Дареса на коленях кажется неестественным, а уж по лицам его друзей я понимаю, что точно случилось что-то из ряда вон выходящее. Дарес берет кроху за руку.
– Твой брат тебе был дорог, да, Страбон?
Кроха берет палец в рот, смотрит в землю.
– Мой папка мне тоже, а теперь он там, внизу, с твоим братом. Теперь только мы с мамкой остались, а она жуть какая строгая. Просто кошмар, Страбон. Но знаешь что? Я думаю, все равно надо помолиться за афинян. – Дарес смотрит на Гелона. – Я думаю, молитва и костер – это немного. И не знаю. Наверное, мы можем говорить не только за них, но и за моего папку, и за твоего брата. – Он поворачивается к друзьям. – Я думаю, можно сказать за всех и развести костер для всех.
Кроха поднимает взгляд.
– Молитву за братика?
– Да, за братика. Ну что? Будем хоронить? Если скажешь “нет”, то не будем. Так что?
Все взгляды устремлены на кроху. Столько я видел дебатов на собраниях, где ораторы ревели о том, что все – вопрос жизни и смерти, что Сиракузы идут ко дну и только наши голоса вытащат город из воды, – да, такие дебаты я слушал, опустив веки, и собрание покачивалось от зевков, как от ветерка, но вот стоять и ждать вердикта этого мальца в броне для меня почти невыносимо. Я чувствую кровь в горле, пот бежит по ладоням. Что скажешь, кроха?
Его губы шевелятся, но я не слышу ни слова.
Дарес улыбается:
– Погромче.
Мы все наклоняемся поближе.
– Можно молитву.
Дарес поднимает его, сжимает в объятиях. Кажется, мальцу больно, но он не возмущается. Только висит в воздухе, прикусывает палец, пока Дарес его не ставит.
– Ты – молодчина, Страбон. Знаешь, какой молодчина?
Кроха не отвечает, только ковыляет к своим друзьям. Скоро он скрывается за спинами ребят вдвое больше него. Заручившись его согласием, мы начинаем приготовления. Собираем костер в три тела шириной и в два высотой. Каждый ряд переложен слоем веток, хвороста и сухой коры. Чтобы огонь ни на что не перекинулся, мы окружаем костер камнями. Дарес, который вызвался развести огонь, выходит вперед с двумя заостренными черными камешками и принимается стучать ими друг об друга. От усердия он попадает себе по пальцу и на костяшке выступает блестящая капля крови, но он не вскрикивает и не останавливается, так и стучит. От кулаков пляшут искры, и вот под его пальцами вспыхивает оранжевая полоска – слой растопки сморщивается, ветки плюются и трещат. Сначала получается больше дыма, чем огня. Дети кашляют, но постепенно дым начинает светиться и пульсировать, пока не выпрыгивают красные язычки пламени, не начинают лизать кости. Никто не говорит, и долгое время не слышно звуков, кроме дыхания и горения.
– Мы будем молиться?
Сквозь дым я вижу, как кроха встает на камень. В руках у него игрушечная лошадка. Дарес говорит, что он может прочитать любую молитву, какую захочет. Мальчик оглядывается, потом опускает взгляд на лошадку. Он откашливается и начинает говорить, но голосок у него слабенький, ни хрена не слышно, приходится подойти.
– Слушай, Аид, я тебе расскажу про моего братика, потому что он незнакомых стесняется и ты его, может, не заметишь. У него волосы каштановые, немножко рыжие, и он большой. Не как я. Совсем большой, и сильный, и быстрый, и может стоять на руках и кувыркаться. – Он замолкает, прикусывает палец. – И он хорошо работает. Спроси плотника Андрокла. Мой брат работал у него в мастерской, и Андрокл мамке сказал: хорошо работает пацан, без продыху. Мамка сказала, Андрокл про всех гадости говорит, а про братика – нет. Аид, он у меня правда молодец, и, если ты его попросишь, он тебе там, внизу, будет делать и стулья, и столы, все, что захочешь. Вот это он сделал.
Кроха поднимает игрушечную лошадку высоко над головой, чтобы все разглядели. Если честно, сделано неуклюже, если бы не гигантское седло на спине, было бы скорее похоже на собаку. Кроха сжимает лошадку в кулачке.
– Я всё. Спасибо.
Остальные ребята радостно восклицают, говорят, что лошадка чудесная. Впервые за все утро малец улыбается. Зубы у него редкие и очень кривые, будто их в рот кто-то побросал. Он заходит в толпу друзей, сипит “спасибо”, опускает взгляд на лошадку и принимается плакать.
Огонь потух. Дерево сгорело, остались тлеющие кости и пепел с удивительно сладким запахом. Детишки час тому назад свалили в школу, а броню припрятали под ветки и кусты. Гелон стоит рядом, пока я тычу палкой в светящуюся челюсть.
– Мы можем это продать, – говорит Гелон.
– Что?
– Мечи, шлемы. На постановку деньги нужны. Она же будет настоящая. С масками, с музыкой. Как в Афинах.
Я киваю и подхожу к детскому тайнику. Приходится повозиться, но наконец я нахожу шлем, который подходит к моему нагруднику, и надеваю. Теперь у меня полный набор.
– Правда, – говорю я. – Деньги нам нужны.
6
Кузница Конона на краю города, за вратами Победы. От места, где мы расстались с детьми, идти долго, а солнце – белое и жирное, как звезда-обжора, – высоко, и, учитывая, что на спинах у нас мешки с броней, мы жаримся. Я отпиваю из меха. Вино теплое и хрустит на зубах. Песок здесь везде забирается, даже в задницу, но дело не только в этом. Чем дальше разрастаются Сиракузы, тем больше портится ветер в городе. Он подбирает осколки керамики, крошево от стен и крыш. Ветер часто красноватый, особенно вечером. Гермократ говорит, что нам нужно быть благодарными за красный ветер. Что он – знак расцвета Сиракуз, знак роста. Но Гермократ – мудак, и в его слова верится с трудом.
Мы у врат Победы. Говорят, раньше они были прекрасны. Их построили в память какой-то битвы с Карфагеном, украсили сияющими богами из бронзы, но большей их части уже нет – все переплавили или украли, – и остались только случайные обломки, позеленевшие от погоды: застрявшие в земле руки, рты и глаза, зажатые в кулаки или глядящие вверх.
– А вот и Конон.
Его еще не видно за повисшей в воздухе пылью, но мы чуем запах дров в горниле, слышим дребезжание и грохот молотка. От близости к цели мы оживляемся и шагаем быстрее, и вскоре уже видим груду плотно сбитых мышц – Конона.
– Как дела, Конон?
Он перестает стучать и выглядывает.
– Кто там?
– Поставщики первоклассного товара.
До прихода афинян кузница Конона была всего-навсего сараем, но война пошла ему на пользу, и теперь кузница занимает две больших кирпичных постройки. А сарай стал стойлом – теперь никаких мулов. Конон взял и купил коня. Лошади – и их безумная дороговизна – меня всегда завораживали, и я кладу броню на землю и подхожу к коню. Он красавец: рыжей масти, с бледной звездой на лбу и влажными карими глазами, которые глядят с прямо-таки понимающим выражением. Еды у меня с собой нет, так что я протягиваю ему бурдюк.
– Лампон, дашь коню вино – я тебе вторую ногу сломаю, говнюк ты хромоногий.
Я прикусываю губу и оборачиваюсь, улыбаясь.
– Да ничего ему бы не было. Вот у моего дяди конь любил выпить немножко.
– Осел это был. Откуда у твоих лошади?
На это я ничего не отвечаю, но если он продолжит в том же духе… что ж, посмотрим.
– У нас броня на продажу, – говорит Гелон, выкладывая шлем Конону на стол.
– Я сам броню делаю. Зачем мне ее покупать?
– Потому что делаешь херово.
Конон бранится, но затыкает меня взгляд Гелона.
– Шучу, – говорю. – Не обижайся.
– Лев не обижается на блоху, от которой у него чешутся яйца. Ты меня просто раздражаешь.
Я собираюсь было что-то сказать, но Гелон покачивает головой.
– Не поспоришь, Конон. Ты умен.
Конон сплевывает комок блестящей слизи – он приземляется довольно близко.
– Уж точно поумней тебя. – Он поворачивается к Гелону. – Я эту броню не куплю.
Гелон продолжает выкладывать так, будто не слышит. Меч, нагрудник, пара поножей – так и продолжает, пока на станке Конона не оказывается груда брони.
– Хотим сбыть их все.
– Бля, ты глухой или тупой?
– Что-что?
– Я спросил – ты глухой или тупой? Мне не интересно.
Гелон пристально смотрит на Конона.
– Проблемы? – спрашивает Конон, но теперь у него в голосе слышно колебание, и двое смотрят друг на друга – очень уж, сука, долго. Волоски у меня на шее встают по стойке “смирно”, и кровь пульсирует, потому что теперь в воздухе не только пыль, но и близкая драка – так и чувствую ее на языке. Но затем Конон смотрит в пол, снова откашливается и сплевывает, а потом улыбается – можно сказать, что тепло.
– Эх, не обращай внимания, Гелон. Голова от этой жарищи кругом, вот я и не в духе.
Гелон кивает и дает ему бурдюк. Конон отпивает чуть-чуть и с силой проглатывает.
– Нам нужны деньги, – говорит Гелон. – А это хорошая работа. Афинская. Продашь без проблем.
Теперь Конон присматривается к броне. Ему ни в жизнь не выковать ничего лучше, но по его нахмуренным бровям так не скажешь.
– Неплохо, – говорит он наконец. – Но я ничем не могу помочь. Гелон, правда я хотел бы, но она мне не нужна. Спрос сейчас на сиракузскую броню. С нашей символикой. Без сов этих гребаных. Пришлось бы плавить и перековывать, а у меня и так бронзы навалом. Я не смогу заплатить больше себестоимости. Я вас просто ограблю.
Гелон поражен:
– Неужели никто не заинтересуется?
Конон старательно изображает раздумье. Конечно, он скажет “нет” – но вдруг его лицо меняется и зубы обнажаются в собачьей ухмылке, будто дворняга почуяла нежданное угощение:
– Вообще есть один мужик. Неделю назад купец-иноземец объявился. Он, оказывается, коллекционирует то, что осталось после войны. Неважно, с какой стороны. Может, ему сбыть получится.
– Где нам его найти?
Конон пожимает плечами:
– Его корабль стоит у пристани. По крайней мере вчера стоял. Его не проглядишь. Единственный купеческий корабль с тараном, да еще с афинским. Говорят, заплатил ныряльщикам, чтоб достали с затонувшего корабля в Большой бухте.
Глаза Гелона несколько светлеют:
– Спасибо, Конон.
Мы уходим, взвалив мешки с броней на спины, но вдруг Конон кричит нам вслед:
– Стойте!
Останавливаться в такую жару хуже, чем идти, и я тихонько его матерю.
– Не чистите броню.
– Что, прости?
– Вы можете подумать, что это все надо почистить да отполировать, но не стоит. Мужик этот взыскательный. Говорят, хочет, чтобы военные вещицы оставляли как есть.
– В смысле, с кровью и другими пятнами? – спрашивает Гелон.
– Именно, – говорит Конон.
– Охренеть, – говорю. – Ты к кому нас отправил?
Конон хмурится:
– К богатому покупателю я вас отправил.
– Спасибо, Конон, – говорит Гелон.
Мы выдвигаемся. Тащим барахло, а по спинам у нас бежит пот, соленый и изобильный. Когда становится слышно море, Гелон останавливается, выкладывает броню и клинки на камнях, бранится. По пути к Конону мы отдраили и отполировали каждую вещицу. Казалось разумным, что за блестящий нагрудник дадут больше, чем за замызганный.
– Бля, – говорит Гелон.
– Смотри. – Я показываю на какое-то янтарное пятно с обратной стороны одного из поножей. – Многообещающе.
Гелон приглядывается и покачивает головой:
– Не хватит.
– Ну откуда нам было знать? И вообще, мне этот коллекционер не нравится. Стремный он какой-то, и…
Слова умирают у меня во рту. Гелон вытащил из кармана – или из кучи, я не понимаю, – нож, и делает на своей левой руке надрез.
– Ты с ума сошел?! Не надо!
Появляется капля темной крови и плюхается вниз, растекается по шлемам и мечам. Потом выступают еще, и падают все быстрее, пока не получается почти что поток, и мечи со всем остальным будто оживают, расцветают красным.
– Ну все, хорош.
Я отрываю от своего хитона рукав, чтобы перевязать, но он меня отталкивает. Воняет железом; Гелон бледен. Кровь выплескивается снова, мочит песок; он отбирает у меня ткань, и я помогаю ему замотать рану, покрепче замотать.
– Ты себя так угробишь. Никакая пьеса такого не стоит.
Гелон улыбается. В первый раз за долгое время – и, хоть я и перепугался, чувствую оживление. Улыбка такая убежденная, словно чувство, которое ее породило, растет из знания, и он хватает меня за руку и сжимает. Он сильный, зараза; мне больно, но я ничего не скажу. Пусть будет больно – я чувствую дружбу.
– Мы же поэзию творим, – шепчет он. – Чего она стоит, если все легко?
Он дает мне мех, и мы попиваем вино, ожидая, когда кровь высохнет.
7
На войне я только один раз побывал в настоящей битве – и это было здесь, в бухте. Из-за ноги пехотинец я хреновый. Но тут я приложил руку. Подплыл в рыбацкой лодочке прямо к афинской триере и заколол пару-тройку гребцов сквозь отверстия для весел. Пьянящее было чувство, но странное. Не видно, кого протыкаешь, только чувствуешь, как копье вонзается в мясо, и смотришь, как огромное весло дергается и замедляет ход, как жизнь, приводящая его в движение, угасает, пока оно не остановится окончательно – и тогда понимаешь, что бедняга сдох. Вроде бы всего ничего, да? Но из множества таких “всего ничего” складываются великие вещи, а та битва была величайшей из всех. Так говорит Диокл. Когда афиняне проиграли борьбу на суше, у них осталась одна надежда – море. Они пытались прорваться через бухту, но мы им спуску не дали. В море в тот день было, наверное, сотен пять кораблей, стоявших так тесно, что солдаты шли строем с одного на другой, как по земле. Если бы афиняне тогда прорвались, сейчас бы они были дома, с родными, может, в театр бы сходили, вместо того чтобы гнить в карьерах. Но они не прорвались.
День остыл, и тут приятно. Морская чешуя переливается нежно-голубым, и сложно представить, что там, внизу, лежат целые леса затонувших кораблей, будто второй город. Гелон замер и таращится на стройную темноволосую женщину, склонившуюся над корзиной с фруктами. Парочка ос пытается присесть на инжир, и она поднимает голову, прогоняя их прочь. Лицо Гелона тускнеет. Наверное, если надо, можно решить, что волосами и фигурой женщина сойдет за Десму, но глаза слишком маленькие, и нос не тот.
– Режиссеры! – нараспев кричу я ему в ухо, и он кивает, хотя по сероватому оттенку его щек понятно, что мыслями он не здесь, и приходится увести его за руку, почти как ребенка.
Мы в торговом квартале пристани, и матросы разгружают товар. Я вижу кипы ткани, окрашенной в ярчайшие цвета, таких оттенков, что самый безумный небосвод кажется скучным. Голова кругом. В нос так и бьют разные запахи. Пряности смешиваются с едким запахом пота, идущим от кораблей работорговцев, и с ароматами всякой еды и бухла, подтекающего из плохо закупоренных бочек. Это-то Гелону и нужно. Когда мы были мелкие, приходили сюда почти каждый день и прогуливались по огромной гавани рука об руку, а ноздри у нас раздувались и наполнялись запахами. Если мы были совсем в настроении, мы закрывали глаза. В черепушках у нас оживали Вавилон, Мемфис, Карфаген и много чего еще. Гелон описывал, что видит он, а я – что вижу я; мы возводили эти города вместе, слово за словом. Купцы бесились, потому что мы, будто ослепшие, постоянно в них врезались, и иногда нам давали подзатыльники, но какая на хрен разница, если видишь пирамиды? Я приобнимаю Гелона и закрываю глаза.
– Эй, смотри, мы в Египте. Сфинкс совсем рядом. Видишь?
Он стряхивает меня:
– Лампон, ты взрослеть собираешься?
Но я не собираюсь. Если честно, иногда я до сих пор сюда прихожу подышать запахами, погулять, затеряться в других мирах, и так же, как в детстве, думаю, похожи ли настоящие места на то, что я себе представляю, и, прямо как тогда, меня передергивает, потому что что-то подсказывает мне, что я никогда не узнаю ответа, – но чувство все равно пьянящее.
– Вот он, – говорит Гелон.
У дальнего края пристани стоит корабль с тараном. Не триера, а огромный грузовой корабль, на котором таран кажется лишним. Бронза неровная, как сломанный нос, пятнистая, зеленая, водоросли свисают, как сопли. Но в хреновом состоянии не только таран – древесина корпуса сильно покорежена и почему-то темная, будто пришлось лишние несколько раз все промазать дегтем, только чтобы ничего не развалилось. Если у мужика есть деньги, тратит он их явно не на корабль. Я смотрю на Гелона и понимаю, что мысли у него похожие.
– Н-да, наш приятель богат, как Крез.
– Лампон, заткнись. Меня достал твой пессимизм.
– Ой, ну я же шучу. Ты же знаешь, я – оптимист.
Гелон не отвечает. На палубе можно разглядеть нескольких парней, ни один из которых ничем особенно не занят.
На палубу ведет лесенка, и Гелон по ней взбирается. Я лезу следом, и мы заходим на корабль. Нас сразу же окружает взбудораженный экипаж.
– Чего вам надо? – скрипит высокий жилистый мужик, горло которого пересекает кривой шрам, похожий на улыбку.
– Мы – купцы, – говорю, – хотели бы обсудить наш товар с капитаном корабля.
Мужик со шрамом оглядывает нас с головы до ног.
– Он занят.
– У нас броня на продажу, – говорит Гелон. – Афинская броня с войны, нечищеная.
Глаза высокого раскрываются пошире – возможно, от интереса.
– Покажите, – говорит он. Слово трещит в его искалеченной глотке.
– Мы – серьезные купцы, – говорю, – товар показываем только тем, кто обладает властью его купить.
Он бросается к броне, и Гелон его отпихивает. Все происходит очень быстро. В один момент кажется, что высокий падает, а в другой он уже развернулся в воздухе и приставил к горлу Гелона нож. Я пытаюсь подойти, но чувствую, как к животу мне приставляют клинок, сделаю еще шаг – пустят кровь.
– Возмутительно, – говорю. – Народное собрание об этом услышит.
Мужики окружают нас так, что, даже если с пристани кто-то посмотрит, увидит только их спины.
– Отпусти мешок.
Я-то уже отпустил, так что, видимо, он обращается к Гелону. Так и есть. Нож все еще у его горла, но он так и вцепился в мешок, аж костяшки побелели.
– Нет.
Высокий, кажется, обескуражен, но он ухмыляется:
– Да не грабит вас никто. Оставьте броню у нас, потом вернетесь. Начальнику понравится – заплатит. Нет – заберете.
– Пошел на хуй.
Парень перестает ухмыляться, и на лице у него появляется усталое, какое-то отрешенное выражение, и это меня пугает больше всего.
– Отдай ему! Пожалуйста!
Гелон смотрит на меня удивленно.
– Мы же режиссеры, – говорю я. – Как я без тебя поставлю пьесу? Отдай броню.
Он хмурится, но медленно отпускает мешок. На палубу вываливается алый шлем, и кто-то из экипажа его подбирает.
– Вы только посмотрите, – говорит он, широко улыбаясь. – Начальнику точно понравится.
Клинки убирают, и нас подталкивают к лестнице, и все мои усилия уходят на то, чтобы идти прямо, потому что собственные ноги кажутся мне кривыми и ненадежными, но Гелон останавливается и говорит через плечо:
– Вечером вернемся – за деньгами или за броней.
Экипаж смеется, и у меня крутит живот, будто вот-вот обосрусь. Я тащу его за собой, и вскоре мы снова на твердой земле, а люди безразлично проходят мимо.
– Ненормальные, – говорю я, и спешу убраться от корабля подальше.
Гелон тащится следом – нечасто с нами бывает, чтобы я шел быстрее него.
– Погоди, – говорит он. – Нам нужна расценка.
– Расценка?
– На костюмы и маски. Нужно узнать, сколько они стоят, чтобы мы знали, за какую цену торговаться, когда вернемся.
– Торговаться? Ты издеваешься? Обратно к ним один пойдешь. Эти мужики внутри мертвые, по глазам видно. Глотку перережут на хер и будут в кости играть, пока ты кровью истекаешь.
Он ничего не говорит, только несется на скорости, с которой я не могу тягаться, в мастерскую масок и костюмов.
Я иду следом.
8
В Сиракузах всего одна театральная мастерская. Публике она не то чтоб открыта, но хозяйка, Алекто, нас пускает, потому что моя мамка – ее давняя подруга. Мастерская раньше принадлежала мужу Алекто, они ей вместе управляли, пока он однажды не исчез. Это было лет двадцать назад, я еще мелкий был. С тех пор о нем ни слуху ни духу. Сплетни ходят разные, но моя любимая – что она его убила, а кожу пустила на декорации. Но это в Алекто не самое странное. Самое странное – что она мастерскую себе оставила. Когда ее муж исчез, в Сиракузах было еще три костюмных мастерских, и владелец каждой предлагал Алекто выкупить дело или, что лучше, жениться. Она в свое время красотка была, но на оба предложения – и деловое, и брачное, – отвечала: нет, спасибо. Это ее мастерская, и она ей будет управлять, и вообще она верит, что муж однажды вернется, – а если так, что она тогда будет делать? Хотя я слышал, что эти слова она произносила с какой-то странной интонацией. В любом случае мастерскую она оставила себе и так и не вышла замуж снова. Уже через пару лет в городе считали, что мастерская Алекто – лучший вариант, если нужно купить что-то для театра. Через десять она стала единственным. Все остальные разорились.
Я пару раз стучу, но Гелон толкает дверь, и она распахивается. Дом огромный – четыре этажа, включая погреб, – но из-за реквизита он кажется еще больше. Настоящих стен не видно – они скрыты за задниками из разных пьес. Справа от меня, должно быть, Олимп – облака в завитках и роскошно отрисованные солнечные лучи, густые и золотистые, как мед. Слева – крепостная стена, наверное, троянская; потеки крови на выбеленном кирпиче – как порезы на бледной коже, и в бойницах крошечные лучники. Так хорошо нарисовано, что даже как-то боязно проходить мимо – будто, если не пошевелюсь, кончу как Ахилл. А прямо – лучшая сцена из всех: Аид. Точнее, река Стикс – зеленая вода, подернутая зыбью, а из нее поднимаются лица, руки и ноги. Напоминает те статуи у врат Победы, но красивее. Никогда не видел на этом свете ничего похожего на эти блики на воде, но почему-то кажется, что я их знаю. Гелон говорит, с лучшими из пьес всегда так. Если они достоверны, то все покажется знакомым, даже если сначала видишь какой-то бред, и поэтому нам не похрен на Трою, хотя, кто знает, может она Гомеру вообще приснилась, и, когда я направляюсь к зеленой реке душ, на миг мне кажется, что я иду домой.
– Не трогай. Еще не высохло.
Я оглядываюсь и замечаю, что Алекто за нами следит. Без понятия, откуда она возникла, но, с другой стороны, дом-то ее.
– Доброго дня тебе, прелестная дева, – говорю я, кланяясь, как аристос, и отряхивая грязь с хитона.
Алекто посмеивается и качает головой:
– Я смотрю, ты все такое же трепло.
На это я не отвечаю.
– У нас сегодня аврал, – говорит она. – Извините, но мне не надо, чтобы вы глазели и ребят отвлекали. Ничего личного.
– Нет, ты не так поняла, – выпаливает Гелон, – сегодня по-другому.
На Алекто красные одежды – длинные, до самого пола, – и алые нити блестят, точно живые. Наверное, она примеряет какой-то костюм. Ходят слухи, что однажды, когда ее муж еще не пропал, она сыграла в пьесе и что он ей за это накостылял. Говорят, она сыграла главную роль, исподтишка, так что зрители не знали, но они орали “еще!”, и лучше Клитемнестры они не видали. Правда ли это? Не знаю. Как будто даже для нее это дерзко. Но я часто вижу, как она примеряет костюмы, и она не хуже других знает слова к старым пьесам и, если она в настроении, даже читает монологи из самых лучших.
– Мы – режиссеры. – Я выпрямляюсь, отвожу плечи назад и голосом, пугающе похожим на голос старшего из нашей старой мастерской, начинаю наводить шороху. – Мы пришли как режиссеры, чтобы оценить качество предоставляемых театральных услуг для целей…
– Заткнись.
– Ну, Гелон…
– Слушайте, – говорит Алекто, – у меня на это времени нет. Что вам надо? Только быстро.
– Мы ставим пьесу, – говорит Гелон.
Алекто начинает было хохотать, но замолкает:
– Подожди, ты серьезно?
– Конечно.
Она покачивает головой, с выражением, скорее похожим на жалость:
– И какую пьесу?
– “Медею”, – говорит Гелон, так тихо, что скорее шепчет.
– И где, позвольте спросить, вы собираетесь ставить “Медею”?
– В карьере.
– А, ну да. В гнойной яме. Лучше места для развлечений не найти. И кто будет играть? Дай угадаю: вы двое.
– Афиняне, – говорю я. – Мы уже выбрали актеров – нормальных актеров. Тех, кто дома в настоящих пьесах играли. Мастера, а не просто так. Алекто, это же для тебя будет реклама. Думаю, справедливо будет сделать скидку.
Алекто долго не отвечает. Мне всегда казалось, что ее сложно удивить. Что она из тех, кто смотрит на вещи с разных сторон, кого сложно застать врасплох, – но мы, кажется, ее потрясли. Она переводит взгляд с меня на него, будто чего-то ждет, а потом снимает с полки кувшин и три чаши, наполняет каждую красным и отдает нам. Я пью до дна, но Гелон свою чашу просто стискивает в кулаке, так крепко, что страшно, как бы глина не треснула.
– Слушайте, мальчики, – говорит она, – вы мне, конечно, нравитесь.
– Какой я на хрен мальчик, мне тридцать, – говорю.
– Что, уже? Да уж, время летит. Кажется, только вчера я держала тебя на коленках, а твоя матушка просила спеть тебе песенку. Ты был такой красивый малыш, Лампон, знаешь?
– Я все еще шикарный. – Я подмигиваю. – Но ты не уходи от темы. Мы – настоящие режиссеры, мы по делу пришли, а не воспоминаниям предаваться.
Снова этот полный жалости взгляд.
– Да, но понимаете, в чем дело? Вы же не режиссеры. Вы – безработные гончары, у которых на двоих едва несколько оболов найдется. А эти бедолаги в карьерах? Они – не актеры. Даже если когда-то и были, теперь это точно не про них.
– А кто они тогда?
Она задумывается:
– Они голодают. Медленно умирают с голоду, потому что наше собрание сошло с ума, и через несколько месяцев их не будет. Обреченные – вот они кто.
Ее слова повисают в воздухе, и мы неловко пялимся в пол. Я притворяюсь, что пью, хотя моя чаша пуста.
– С таким переговорщиком, как ты, не забалуешь, – говорю я.
– Поэтому нам и надо это сделать, – с чувством говорит Гелон. – Ты права, они обречены, через несколько месяцев их не будет. Из-за войны мы, может, годами не увидим в Сиракузах афинских пьес. Некоторые говорят, что, когда Афины падут – а они же должны пасть, – спартанцы их просто сожгут. Может, афинских пьес вообще больше не будет! – Чаша разбивается у него в руке, и вино проливается на землю. – Кто знает, может, те, кто в карьерах, – последнее, что осталось от афинского театра, во всяком случае для Сиракуз. – Он замолкает и смотрит себе на руку, на рану от своего ножа, пристально разглядывает, будто рассчитывает найти в нем нужные слова. – И не только “Медею”. Афиняне сказали, что, перед тем как они отправились на войну, Еврипид написал новую пьесу. Про Трою. Про то, что было с троянками после того, как она пала. На Сицилии ее еще не видели. Совершенно новый Еврипид. И мы поставим их обе. И “Медею”, и “Троянок”. Мы не можем допустить, чтобы они исчезли, понимаешь? Мы должны…
– Что должны? – спрашивает Алекто, уже нежнее.
– Не дать им умереть. И поставить пьесу.
Для Гелона это долгая речь, и у него сбилось дыхание, но он так и не сводит глаз с Алекто, и вид у него решительный. Я впервые слышу про вторую пьесу, и как-то обидно, что он ее от меня скрыл.
– Еще что-то скажешь? – спрашивает Алекто.
– Нет.
Она не сразу отвечает – сначала кивает и приносит Гелону новую чашу, наливает еще вина.
– И мне.
Она оглядывается, будто удивлена, что я тут стою. Быстро наполняет мою чашу.
– Ладно, – говорит она наконец.
– Что ладно?
– Я дам вам все, что нужно.
Гелон хватает ее за руку, накрывает второй ладонью.
– Но, – твердо говорит она. – Вы сильно не радуйтесь. У вас, наверное, лица-то поменяются, когда услышите мои цены. Тут дешевого нет. Я делаю только лучшее.
Гелон нетерпеливо кивает.
– Как вы собираетесь заплатить?
– В долг? Доля с доходов?
– Лампон, тихо. Деньги мы найдем. Только скажи, сколько, и я найду.
Она долго на него смотрит.
– Да, пожалуй, найдешь.
Они начинают обсуждать детали. Разные наряды, сколько масок, какое дерево и краску использовать? Парики? Если да, какой материал? Козий волос – самый дешевый, человеческий – самый дорогой. Сначала я слушаю, но потом мои мысли начинают блуждать, и я исподтишка утаскиваю со стола кувшин с вином и отправляюсь на прогулку по другим комнатам: опять одежды, и деревянные мечи, и скипетры. Рыжая кошечка облизывает корону, покрашенную золотой краской, и язык блестит у нее в пасти. В последней комнате раскрашенные задники уступают место деревянным верстакам. Стамески и пилы поблескивают серым, и пол усыпан опилками. Это комната, где делают маски, и в ней сидят трое мужиков. Сердце всего дела. Мамка говорила, они – рабы из Ливии, которых муж Алекто купил по дешевке, когда они были маленькие. Это было давно, и ливийцы уже сами не молоды, в волосах седина. Забавно. Когда-то они были детьми, строгали Агамемнонов и Афин, и у них вся жизнь была впереди – а теперь они старые, всё строгают тех же царей и богинь, но жизни той перед ними всего ничего.
– Пацаны, вы тут не отлыниваете, а? – спрашиваю. – Скоро большой заказ.
Они поднимают головы, и только один кивает. Вот нахалы. Нет, так не пойдет.
– Какие материалы используете?
Они снова смотрят на меня. Все молчат, и я чувствую, как внутри меня назревает скандал, пока один из них не откашливается:
– Ясень, господин. Ну и не только. Лен тоже. От персонажа зависит.
– Хороший выбор, – говорю я.
По виду кажется, что они братья. Когда стоят, они высокие и изящные – но стоят они редко, и спины у них как серпы от того, что все время согнуты, потому что изготовление маски – тонкая работа, только и делаешь, что штаны просиживаешь. И руки у них мягкие. Сразу видно. Ладони гладкие и розовые, как лапки у котят, не шершавые, как у нас с Гелоном, но глаза у них красные и воспаленные, белки чешутся от опилок и паров краски.
Обычно я этим парням ничего не говорю, но, учитывая, что сегодня я здесь как режиссер, мне кажется разумным узнать о них побольше, прежде чем расставаться с деньгами. Я спрашиваю, не братья ли они, и парень, который ответил первым, поднимает голову, говорит, что не знает.
– Как это вы не знаете, братья вы или нет? – спрашиваю.
– Ну, мы же такие маленькие были, когда нас продали, – говорит он, и остальные смотрят на него как будто бы с неодобрением, но он либо не замечает, либо ему все равно, так и говорит. – Понимаешь, у нас в деревне всех мужчин убили, и они думали, за нас больше получат, если продадут с матерями. Так что они нас отправили в ближайший город на продажу, но как-то этот ближайший город был неблизко. Пришлось через пустыню идти, и где-то по дороге беда и случилась.
– Что случилось?
– Беда, – говорит он, безразличный к зырканью своих друзей. – Не помню, что именно, но тот, кто нас вел, нарвался на неприятности. Была песчаная буря, и пришли какие-то люди – жестокие люди, наверное, бандиты. Эти сволочи всех наших матерей забрали, всех. Так что, когда нас доставили в город, мы были полумертвые, голова кругом шла от лихорадки и от жажды, и мы уже забыли, кто мы. Такие мы были маленькие.
– А сколько вас было?
– Не уверен. Много, все дети из моей деревни, может, двадцать?
– А меня-то ты что спрашиваешь, – говорю, – я-то не знаю.
– Извини, я просто не уверен.
– И что было потом? – спрашиваю я.
– Ну, нас привезли в Сицилию, и нас троих купил Мелисс. Где моя семья, я не знаю.
– Мелисс?
Он моргает:
– Покойный муж Алекто.
– А, ну да. То есть ты знаешь, что кто-то все-таки тебе были братьями?
От этих слов он, кажется, печалится – долго не отвечает, кладет маску, которую расписывает:
– Не знаю, правда ли, совсем не знаю, но могли быть. Была одна девочка, которую в Катане[2] продали. Она была моя сестра. Во всяком случае она мне так сказала, когда ее продавали. Я мало помню, но помню, что она сказала: “Я – Гидна, твоя сестра, и я тебя люблю. Не забывай меня”.
– Интересно.
Я предлагаю ему отпить из кувшина, но он мотает головой и возвращается к работе. Какое-то время я стою и смотрю, как они работают, но кто-то трогает меня за плечо – это, оказывается, Гелон. Алекто рядом.
– Выбери какую-нибудь, – говорит Алекто.
– У меня еще нет денег, – отвечает Гелон.
– Я тебе дам одну в долг, – обещает она. – Только одну, так что подумай хорошенько.
Гелону дважды повторять не надо, и он отправляется смотреть на маски. Он долго думает, и некоторые из них прекрасны, можно сказать, великолепны, так что удивительно, что он выбирает совсем маленькую.
– Не хочешь маску царицы для Медеи? Или героя для Ясона?
– Эту, – говорит Гелон, показывая ее нам.
– Интересный выбор. Это для актера, который играет маленького мальчика. Такую сложно сделать. С богами и чудовищами проще. Детство – штука тонкая.
Гелон молчит, глядя на маску. Он держит ее осторожно, будто боится повредить дерево, поцарапать краску.
– Гелиос, – шепчет он.
Я притворяюсь, что не слышу, и даю ему кувшин.
– Мы с тобой знаешь кто? – спрашиваю я. – Режиссеры!
– Ага, – отвечает он, но не отпивает, только таращится на маску, и я жду, когда ему полегчает.
9
Вскоре после того, как мы уходим от Алекто, начинается дождь. Морось делается гуще и пуще, постепенно погружает весь город в уныние, и кажется, что небо горюет – рыдают черные тучи, визжат ветры, и старые дома от них свистят и треплются, как пьяницы в таверне. Улочки узенькие, переплетаются, как змеи, и я пугаюсь до полусмерти, когда меня хватают за щиколотку.
– Ребята, хотите песенку?
Это говорит безногий старик. К его коленям веревками привязаны кирпичи, которые, видимо, заменяют ему ботинки – надо же чем-то культи защищать.
– Нет, спасибо, – говорю.
– А давай, – говорит Гелон, бросая ему обол.
Старик кланяется так низко, что окунает волосы в лужу.
– Я спою песню, от которой вы прольете слезы.
– А что, веселых ты не знаешь?
– Пусть поет, что хочет.
– Спасибо, сынок. Грустная будет история, но такое чаще случается, чем можно себе представить.
Старик откашливается и начинает:
– Жил-был человек на свете, и всем было все равно. Жил-был человек на свете, и всем было все равно! Он так пылал, он так любил, но всем было все равно!
– Ой, Гелон, хрень какая-то.
– Тихо ты.
Я тяну Гелона за плащ, но он не сдвигается с места; думаю: ладно, по херу, постоим. У Гелона к таким всегда была слабость. Даже Десма его была со сломанным носом, хоть и красавица. На другой стороне улицы таверна, и оттуда слышно музыку – нормальную музыку, – и у входа горят фонари, и, в общем, как-то пляшущие огни и бодрые мелодии не вяжутся со стариком, который даже пошевелиться толком не может, и я смотрю на него сверху вниз, а он смотрит снизу вверх на Гелона, поет свою песню.
Делать нечего, только слушать. Теперь совсем припустило, и вода поднимается, потому что квартал холмистый, а мы как раз у подножия холма. Все стекает вниз, и там, где мы стоим, образуется лужа, так, что ботинки тонут и ноги скользят, а земля раскисает. Старик тоже тонет, кирпичи погружаются прямо в грязь, и она окрашивает кончик его седой бороды – вверх по волосам ползет густой цвет, от чего старик кажется чумазым, но в то же время молодым, – и он орет свою песню на весь город, и мне начинает нравиться. К нам присоединились новые слушатели. Сначала они посмеиваются себе, пихаются локтями и ухмыляются, но постепенно смешки замолкают – кажется, хоть кого-то старик да покорил.
Это явно история его жизни, хотя он сам так не говорит. Обычно попрошайки вроде него просто кудахчут отрывки из Гомера или склеивают кусочки великих поэм, как те афиняне в карьере, – они соскальзывают с мысли от голода и безумия, и персонажи из разных мифов сталкиваются, как морские волны. Здесь по-другому. В песне старик излагает всю свою жизнь и, хотя в жизни этой нет ничего особенного, он поет для всех, вкладывает в песню все, и это я уважаю.
Детство у него, мягко говоря, тяжелое было. Говорит, мамка у него была не в себе и в те ночи, когда папки, гребца, не было дома, душила его веревкой. А потом плакала и говорила, что это просто игра, не надо говорить папе, и покупала ему сласти и игрушки. Веревка все еще у него – вот она, на левом колене. Не знаю, правда ли это, но все смотрят на колено, и точно, веревка там растрепанная, износилась до нескольких засаленных черных нитей – та, что на правом, куда новее.
Он ушел из дома, как только смог – неудивительно. Решил стать гребцом, как папка, но для военных кораблей был слишком юный – пошел на сырную галеру, возил гордость Сиракуз в Италию и Грецию. Он поет о том, как воняет в трюме, когда ты сидишь и потеешь под огромными головами сыра, и про то, как крысы всегда будто зарывались поглубже в эти головы, не показывались, пока корабль не уходил далеко в море. Дело было так плохо, что в Регии кормчий обменял ящик лучшего товара на огромного котяру, которого гребцы прозвали Аяксом.
Он поет ни много ни мало три куплета про котяру Аякса. И про то, как он сражался один на один с особенно ужасными крысами, и очень странный куплет, в котором Аякс взбирается на мачту и смотрит на горизонт. Потом он снова начинает петь про себя.
Он оставляет море, начинает работать каменщиком. У него ловко получается, дела идут в гору. Он женится на хорошенькой рыжей коринфянке, у них рождается дочка. Песня становится почти веселой, и в одном прелестном отрывке он поет дочке, чтобы заснула. Вроде как песня внутри песни – и она прекрасна. Но все, конечно, меняется. Он начинает пить, и однажды приходит в себя и обнаруживает, что стоит над колыбелью, а у ребенка на шее веревка. Он еще не потянул, так что девочка спит себе мирно, но стыд и ужас ползут по венам, как яд, и на следующее утро он дает деру и больше никогда не видит свою семью. Песня кончается тем, что он плывет на корабле в Сиракузы, и у двух ран от стрел на его ногах вьются мухи, и думает, в порядке ли его дочка. И тут случается что-то очень странное. Веревка на его колене начинает светиться и пульсировать, как кольцо огня, и он понимает, что его боль, все, что творила мамка и все, что было потом, – все часть замысла богов, что и худшее из этого – священно; но потом веревка темнеет, и он смотрит в небо и видит, что это была просто луна, и теперь она скрылась за тучей. Он замолкает.
Раздаются аплодисменты, сыплется серебро, и он кланяется, собирает с земли блестящие монетки, но вдруг, зачерпнув, он вскрикивает. Потому что в руке у него, среди грязных серебряных монет – одна золотая.
– Кто был так добр?
– Волшебная песня, – говорит кто-то у меня за спиной. – Тебе никто не советовал перейти в профессионалы?
– Что-что?
– С таким талантом, как у тебя, можно стать знаменитым. Ты состоишь в труппе?
– В труппе? – спрашивает старик.
– Да, в труппе. Есть у тебя менеджер?
Старик смотрит на золотую монету в руке:
– Нет.
– Что ж, надо с этим что-то делать. Я остановился в доме у Диокла. Приходи завтра утром и спой свою песню. Уверен, ему понравится. А там можем подробно обсудить твое будущее. Из тебя выйдет звезда.
– Ладно.
Я оглядываюсь, чтобы разглядеть, что это за хрен. Говорит высокий мужик в длинном мохнатом плаще, пурпурном с изнанки. Из-за темноты лица толком не разглядишь, но видно серьги, блестящие в ушах, и белоснежные зубы.
– А вот насчет веревочки на ноге… тебя правда мать на ней вешала?
Старик не отвечает, но по влажному блеску его глаз видно, что, наверное, да.
– Любопытнейший экспонат. Знаешь, я бы хотел его приобрести.
– Веревку?
– Да. Я бы, конечно, щедро возместил утрату. Как насчет пяти золотых?
В глазах старика, можно сказать, вопль. Пять золотых – деньги безумные. Но дальше он говорит что-то, что меня изумляет:
– Не продается. Прости.
– Десять.
– Что?
– Десять золотых.
Десять – это до хрена, целое состояние. На десять он сможет есть и пить еще долго. Не надо будет петь. На десять золотых он мог бы на целый год снять хорошенькую комнатушку в центре города, с ревущим огнем, и жить в уюте, не боясь ненастья; старик производит расчеты – это видно по его глазам, щекам, ногтям, которыми он царапает золотую монету.
– Не могу, – говорит он наконец. – Не могу.
Вокруг смеются, но в смехе слышно недоумение. Десять золотых за веревку? Какого хера?
– Так что, она и вправду бесценна?
Ответа нет.
– Ну ладно. Жаль, конечно, но я все равно хочу тебя кое-кому представить. Обсудить твое будущее. Будь на месте завтра утром, да не опаздывай. У тебя еще все впереди.
– Спасибо.
Старик ковыляет на своих кирпичах в какой-то переулок, и, обернувшись, я вижу, что его покровитель тоже ушел.
– Это что такое было? – спрашиваю я.
Гелон пожимает плечами, но видно – его заботит что-то другое.
– Ну что, пойдем за винцом?
Он качает головой:
– Я обратно на корабль.
– Ты опять? Кончай херню нести.
– Слушай, – говорит он. – Не хочешь – не ходи со мной, но я пойду. Ты Алекто слышал. Она сделает все, что надо, но дешево не будет.
Я говорю ему то же, что говорил раньше. Что это самоубийство, что они просто перережут нам глотки да выбросят за борт, – но бесполезно. Он просто качает головой.
– Погоди, – говорю я, вдруг озаренный. – Давай ограбим того старика. Украдем веревку и продадим богатею, который у Диокла живет.
Гелон смотрит на меня невыносимым взглядом.
– А что не так-то? Я пытаюсь найти выход. Такой, чтобы нам помирать не надо было.
– Нельзя отнимать у человека боль, – тихо говорит Гелон. – Она – только для него.
Он качает головой и уходит в сторону пристани. Я стою на месте. Может, я и боюсь подонков с корабля, но тут дело не только в страхе. А в том, как он на меня посмотрел. Другие на меня так всю жизнь смотрят, но Гелон – никогда. Так, будто я – пустое место. Я это предложил, только чтобы его шкуру спасти, а он берет и смотрит на меня вот так. Ну и на хер его. Ух, но эти подонки же его угробят. Я делаю шаг вперед. Гелона уже плохо видно вдалеке. Я едва могу разглядеть его странно косую осанку, склоненную голову, чеканный ритм его походки – а потом он исчезает, проглоченный пустотой, и я шепчу:
– Пошел на хуй, Гелон.
И ухожу.
10
У Дисмаса сегодня тихо. На стуле Гомера сидит рыбак, протирает тряпкой крюк. Увидев меня, он спешит пересесть, но возвращается, заметив, что Гелона со мной нет. Кругом пахнет краской, и я замечаю, что мебель теперь новая: столы из полированного дерева, на паре стульев даже подушки лежат. Странно, но зато хоть красавица-рабыня прислуживает. Ее волосы связаны в хвост широкой зеленой лентой, и я вижу шрам на ее руке – так и хочется дотронуться.
– Как дела?
Она оборачивается. По выражению лица мне почему-то кажется, что она не то чтобы не рада меня видеть, но от уборки столов она не отрывается.
– Ты один, – говорит она. – Никогда раньше не видела тебя без друга.
– А, да он мне не друг. Просто козел, с которым я пил.
Она приподнимает бровь.
– Мне вот интересно, – говорю, – а Дисмас тебя иногда отпускает, или ты всегда работаешь?
– Работаю.
– И нравится?
Она пожимает плечами:
– Да нормально. Лучше, чем в полях.
– Для полей ты слишком красивая.
Она смеется. И я рассказываю ей, что подумываю открыть похожее заведение, и если открою, то, может, мне понадобится девушка вроде нее. Она косится на мой плащ и башмаки. Что-то в них ее смешит.
– Но вот шрам тебе, конечно, на пользу не идет.
Она перестает улыбаться.
– Ну, бывает и хуже, конечно, но… да. И зубы еще. Думаю, может, поля тебе все-таки больше подойдут. Ты как, сильная?
Не отвечает. Только продолжает вытирать стол – но у нее такое лицо, что любое чувство сразу видно, и я хочу поцеловать ее шрам и сказать, что он красивый, но ничего такого не делаю. Вместо этого я хватаю ее за руку, щупаю мышцы, говорю, что она на вид сильная, как раз пшеницу молотить, и заказываю кувшин самого дешевого вина.
Вино кислое, и я морщусь, глотая, но оно как раз подходит под настроение. Я представляю, как Гелону к горлу приставили нож, и отхлебываю. В углу сидят несколько аристосов, играют в кости, страшно шумят. В таверне нет ничего ярче их плащей, а благовония смешиваются с запахами рыбы и свежей краски, образуя что-то странное и незнакомое. Мне не нравится. Дисмас, конечно, кабак держал, но это был наш кабак. В город вливается слишком много денег, и мне кажется, он в чем-то теряет, но может, это я просто не понимаю, что приобрел. Мне тридцать, а я с мамкой живу. Не такого я для себя хотел; но хватит ныть. Я пью. Я живой. Снова мелькает Гелон – на этот раз он истекает кровью на палубе. Я смотрю по сторонам. Рабыня подошла к столику аристосов, забирает пустую посуду. Один хватает ее за задницу, и они начинают ухать. Она его даже не отталкивает, просто стоит с таким видом, будто она не здесь, пока пацан ее лапает. Я отвожу глаза. Не мое дело. Возвращаюсь к задаче и наполняю чашу заново; из кувшина вываливается жук и начинает плавать брассом по поверхности моего первосортного. Он гребет черными ножками как сумасшедший, и я думаю, может, я ему помогу, дуну, чтобы его донесло до другой стороны, пусть вылезет и живет себе, устрою ему бога из машины. Но в жизни так не бывает. Ты всегда один – пусть жук это выучит. Мы с Гелоном не друзья. Он просто козел, с которым я пил. В углу опять шумно, и я поднимаю голову и вижу, что аристос сгреб ее в охапку и посадил себе на колени. Я встаю и подхожу, сам не знаю почему.











