Читать онлайн Амурлаг ОЛП Бушуйка
- Автор: Екатерина Наполова
- Жанр: Публицистика, Биографии и мемуары
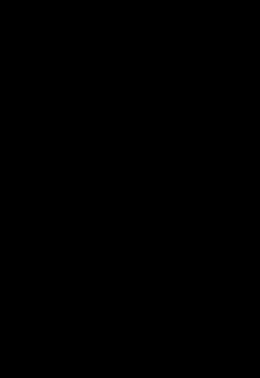
А. Блок
- Девушка пела в церковном хоре
- О всех усталых в чужом краю,
- О всех кораблях, ушедших в море,
- О всех, забывших радость свою.
- Так пел ее голос, летящий в купол,
- И луч сиял на белом плече,
- И каждый из мрака смотрел и слушал,
- Как белое платье пело в луче.
- И всем казалось, что радость будет,
- Что в тихой заводи все корабли,
- Что на чужбине усталые люди
- Светлую жизнь себе обрели.
- И голос был сладок, и луч был тонок,
- И только высоко, у царских врат,
- Причастный тайнам, – плакал ребенок
- О том, что никто не придет назад.
Бушуйка находилась совсем недалеко от моей малой родины – села Соловьевска Тындинского района. Здесь родилась я, здесь родилась моя мама, в этой земле похоронены мой дед, прадед и прапрадед – тоже ссыльные. Здесь мои корни, моя судьба, и мое сердце навсегда связано с Соловьевском! Узнав о том, что рядом с ним существовал лагерный пункт Бамлага «Бушуйский», где томились и погибали пострадавшие от политических репрессий люди, мне захотелось восстановить его историю, рассказать о судьбах невинных узников. Многолетний сбор информации завершился изданием этой книги.
Екатерина Наполова
Фото – Р.А. Сергиенко, И.П. Коновальчук, Е. С. Седельников, М. Шепелева
© Наполова Е.В., 2025
Глава I
Здесь было мало виноватых…
Человеческая жизнь бесценна… Репрессии невинных людей по политическим мотивам нельзя оправдать – коснулись ли они одного или тысяч пострадавших.
В основе этой главы – исследования ученых-историков и официальные документы репрессивных органов, приоткрывающие завесу событий, происходивших в Бушуйской лагерной зоне…
«Бушуйка». Рис. члена Московского союза художников Тони Дудниковой
Предыстория. Зимовье Бушуйка
Бушуйка – с эвенкийского бушул – пасмурно. В этом некогда глухом таежном уголке, ставшем на несколько десятилетий одним из островков ГУЛАГа, первой постройкой был не лагерный барак, а приветливое зимовье. Но когда и кем оно было срублено, узнать уже вряд ли удастся. Вероятно, зимовье возникло на рубеже XIX и XX веков как место отдыха для проезжающих по Джалиндинскому тракту Верхне-Амурской золотодобывающей компании.
…В ту пору зимовья располагались в 25–30 верстах друг от друга. Как правило, они строились на берегу речек или озер и представляли собой большую избу-барак, срубленную из неошкуренных сосновых или лиственничных бревен в замок. Содержались зимовья одной, иногда двумя семьями «зимовщиков», которые были обязаны круглые сутки иметь горячий чай, а для варки пищи предоставлять проходящим старателям и возчикам кастрюли или котлы. Для поения лошадей зимовщик должен был содержать приспособленные проруби.
Возможно, таким же было и зимовье на Бушуйке. Точно известно, что в первой половине 1920-х годов путники находили здесь приют и ночлег. Так, И.В. Сущенко в книге «Утро золотого Алдана» рассказывает, что останавливался в этом зимовье в конце октября 1925 года, когда в составе группы перегонял первые тракторы для объединения «Алданзолото» со станции Рухлово (ныне Сковородино):
«…Первая таежная ночевка отряда была на зимовье Бушуйка, расположенном в пятнадцати километрах от Ларинского (ныне с. Невер – прим. автора). Эти пятнадцать километров пролегали по открытой местности, лес был вырублен жителями Ларинского на дрова, и по сторонам дороги стояли голые пни и кустарники. В октябре еще не было массового отлива старателей с Алдана в «жилое место», поэтому зимовье на Бушуйке оказалось свободным, и вся наша команда могла разместиться на нарах. Зимовщик – высокого роста кряжистый мужик с дремучей рыжей бородой, кривой, суетился около нас, помогал затаскивать ящики с продовольствием и багажом… Я запамятовал его фамилию. Помню лишь имя: Евтихий Иннокентьевич… От зимовья Бушуйка дорога пролегала лесом. По обеим сторонам стояли стройные лиственницы вперемежку с мелким березняком. Тайга казалась золотой, лиственницы еще не сбросили пожелтевшую хвою, березки, багульник и голубичник пламенели на сопках…»
Но всего через несколько лет бушуйский пейзаж изменится до неузнаваемости. Здесь появятся смотровые вышки, и в местности, где старались приютить и обогреть временных гостей, возникнет обнесенная колючей проволокой лагерная зона, где от голода и холода будут страдать ни в чем неповинные в большинстве своем люди… Эта зона по аналогии с названием зимовья получит название Бушуйка.
Поселок для спецпереселенцев
История Бушуйки, как места для концентрации спецконтингента, ведет отсчет с конца 1920-х годов. Сначала здесь был создан пересыльный пункт для спецпереселенцев. Расположение для него выбрали не случайно. От станции Большой Невер начинался нулевой километр Амуро-Якутской автомобильной магистрали (ныне федеральная трасса «Лена»). В 1928 году она была проложена до г. Якутска (по зимнику – до Магадана). С пересыльного пункта по этой дороге спецконтингент отправлялся к местам постоянного пребывания.
Поскольку в Большом Невере стали выгружать и заключенных по разным статьям, пересыльный пункт спешно обнесли колючей проволокой, установили смотровые вышки, прочие лагерные постройки и в 1929 году превратили его в лагерь ОГПУ «Бушуйка».
Когда в 1930-е годы в отдаленные уголки страны насильственно выселяли «социально опасный элемент» и раскулаченных, на Дальний Восток пошли спецвагоны из Средне-Волжского края, Белоруссии, Татарстана. По данным доктора исторических наук Е.Н. Чернолуцкой, в 1930–1931 годы в Дальневосточный край было выселено 2922 семьи кулаков.1 Большей частью, на Дальний Восток и в Якутию направляли жителей Белоруссии. Как правило, это была беднота, высланная как «социально опасный элемент» с целью «зачистки» западного приграничья. Их «опасность» заключалась в близких связях с проживавшими за границей родственниками.
Спецпереселенцы лишались избирательного права, им запрещалось свободное перемещение вне пределов спецпо селений, эти люди не имели паспортов и удостоверений личности. Главной целью «кулацкой ссылки» было формирование контингента подневольных работников, используемых в различных отраслях экономики.
15 апреля 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло Постановление «О привлечении кулаков к работам по золоту на Дальнем Востоке», разрешив председателю правления Всесоюзного объединения по добыче, обработке и реализации цветных металлов, золота и платины «Цветметзолото» А.П. Серебровскому использовать кулаков на золотых приисках Дальнего Востока, исключая районы Охотского края и Камчатки. Первой работников из числа спецконтингента получила золотодобывающая промышленность, у которой в течение предыдущих трех лет катастрофически рос дефицит рабочей силы. Сначала переселялись только главы семейств, а позже было принято решение об отправке к ним семей.
В июне 1930 г. на золотые прииски в Алдан была направлена первая партия спецпереселенцев – 1528 человек. К 6 ноября 1930 года в Дальневосточный край прибыло 5 522 человека (2 365 мужчин, 1977 женщин, 1180 детей). Среди них примерно 800 полных семей с главами. Их принимали на станциях Тыгда, Михайло-Чесноковская, Большой Невер и размещали в пос. Свободном, г. Зее, спецпоселке Бушуйка.2
Вот такое уникальное свидетельство было записано Я. Александром в журнале «Воля», 1952 год.
«Бушуйка»
«Сумасшедшая гонка на службе, с каждодневной работой по 14–15 часов, окончательно меня измотала. Но трудящиеся в СССР закреплены за производством – переменить службу нельзя. Как же я обрадовался представившейся возможности вырваться из этого ада и выехать на работу в далекий приполярный край! Есть специальное постановление правительства об освобождении от работы в течение трех дней всех тех, кто добровольно подпишет договор на работу на Дальнем Севере.
Хоть и со скандалом на прежней службе, но я все же освободился и через две недели выехал экспрессом в далекую Якутию.
От Москвы до моей станции назначения – 8.500 километров. Экспресс покрывает этот путь в восемь с половиной суток. Выехал я конце сентября в жаркий день, а приехал на станцию Большой Невер 4-го октября, застав там уже зиму. Густая пелена крупного снега покрывала землю.
Когда я выезжал из Москвы, Якутское представительство снабдило меня документами, гласящими о чрезвычайной важности моей поездки и необходимости предоставить мне возможность немедленно выехать со ст. Большой Невер на Алдан. На станции я обратился в контору «Якутзолото» узнать, когда можно выехать. Мне ответили – «дня через четыре-пять». Делать нечего, и я целый день провожу в гараже. Познакомился с шофером, который будет ехать на Алдан. Усиленно ухаживаю за ним, угощаю коньяком, и через три дня мы с ним приятели. Он обещает взять меня в кабинку. А это очень важно: там тепло, а проехать 800 километров на открытом грузовике по морозу – удовольствие небольшое.
Наконец, отъезд. Вместо двенадцати выехали только в три часа дня, уже темнеет, и машина идет с зажженными фарами. Везем на золотые прииски Алдана четыре тонны бензина, бочки с которым заполняют весь кузов и два яруса. И, несмотря на это, наверх взгромоздилось еще шесть счастливчиков. Выехать с Большого Невера на Алдан очень трудно. Желающих выехать много, а ходят только несколько грузовых машин, забирая в первую очередь более важные грузы. Прорвутся две-три машины с людьми, и опять полторы-две недели нужно ждать следующей очереди.
Мы проехали поселок и въехали в тайгу. Крупными хлопьями сыплется снег, густо покрывая деревья. Дорога все время вьется винтом – то вверх, то вниз, и свет фар каждый раз выхватывает из тьмы то ель, то сосну, то лиственницу или кедр. Они густой стеной стоят по бокам дороги, кстати сказать, довольно узкой, на которой с трудом расходятся встречающиеся машины. Правда, ходит их здесь немного, можно проехать сотни километров и ни одной не встретить.
Машина идет со скоростью не больше 25 километров в час. Шоферу приходится беспрерывно тормозить на спусках и крутых извилинах. На одном из поворотов свет фар осветил с левой стороны большую просеку, далеко уходящую в тайгу.
– Что за дорога? – спросил я шофера.
– На Бушуйку, – ответил он. – Много раз пришлось мне ездить по ней. Да теперь по ней никто и не ездит!
– А что это, прииск, поселок или эта дорога соединяет центральную магистраль с какой-нибудь другой дорогой? – продолжал я расспрашивать шофера.
Он немного подумал и потом ответил:
– Что ж, пожалуй, я расскажу вам про Бушуйку. Дорога длинная, времени хватит.
И шофер начал свой рассказ:
– Бушуйка – это бывший лагерь для спецпереселенцев. Пробыл я в нем почти от начала и до самого конца. Начали этот лагерь строить в тридцатом году. План строительства был с широким размахом – на пятнадцать тысяч человек. Должны были быть построены свои пекарни, кухни, баня, электростанция, разные мастерские. Сначала было людей немного, меньше тысячи. В число этих первых попал и я.
– А за что?
– В Первую мировую войну я был солдатом в автомобильной роте. В семнадцатом году посмотрел я, что делается кругом, и поехал к своим в деревню. Семья у нас была крепкая. Отец все держал в своих руках. Земли хоть и немного, всего восемь десятин, но каждый кусочек разумно использован. И поле, и огород, и сад. Жили небогато, но ни в чем не нуждались. Да и семья-то не очень большая: я – старший, за мной две сестры-погодки и меньший брат двенадцати лет. Приехал на село, пришлось повоевать с горлохватами. Ну, да потом все утрамбовалось. Прирезали нам немного сенокоса, и жили мы хорошо. Правда, работали все не покладая рук, с утра до поздней ночи. Тут я женился, жена попалась хорошая, работящая. Живем все одной семьей, не делимся. Но вот началась коллективизация. Стали и нас звать в колхоз. А зачем он нам, живем, слава Богу, хорошо, дружно: переработаем лишнее, так знаем, что это для себя. А там, в колхозе, что? Тот лодырь, тот слабый, а тот лишь бы часы свои отбыть. Да еще и начальства не оберешься. В колхоз пошла голытьба, лентяи. Даже работящая беднота не пошла. Ну, стали нас прижимать налогами. Тяжело, а выплачиваем все сполна, крепимся. А тут попали мы в кулаки… Да какие же кулаки, коли с утра до ночи сами работаем, наемного никого нет? Все нажито своим горбом. Если что и давали кому взаймы, то на отработок во время молотьбы. Правда, отец никогда не давал взаймы лодырям, пьяницам. А они-то сейчас и верховодят, через них и в кулаки мы попали. Но вот пришел нам и настоящий конец…
Явились сельские воротилы, переписали все имущество, передали его в колхоз, стали разбирать все постройки. Крик, свист, песни…
Стоим мы в чем были, ничего не разрешили нам себе оставить. Что делать дальше? Но об этом уж побеспокоились кому следует. И нашу семью, и еще почти треть села – на высылку…
Везли нас в товарных вагонах больше месяца, и вот попали мы на эту самую стройку Бушуйки. От вокзала пошли пешком по тайге. Да тут-то недалеко, всего тридцать пять километров. А потом свернули влево, вот в то место, где вы теперь видели просеку, тогда ее еще не было.
Пришли… Стоит несколько шалашей. Народу человек двести, валят лес. А нас пришло сразу больше полтыщи. Кое-как устроились на ночлег под открытым небом, благо зима еще не наступила, август на дворе. Кругом охрана. Наутро еще затемно всех подняли на ноги. Разбили по двадцать человек артелями. Назначили старших артельщиков, в которые и я попал. Вся семья наша, семь человек, со мной в артели, добавили нам еще до двадцати человек. Дали пилы, топоры, лопаты, отметили участки тайги, которые мы за неделю должны расчистить под постройку. Надо было поваленный лес очистить, годный для постройки обтесать и сложить в штабеля. Задание большое. Но народ подобрался старательный. Хоть и ослабели мы крепко за дорогу, а каждый старался работать. Все ведь раскулаченные – бывшие хорошие хозяева, трудящиеся… От двенадцати до часу – обед и отдых. А потом опять работа до темноты. Валим, чистим деревья, а из веток сооружаем себе шалаши. То же и в других артелях. Охрана попалась терпимая, покрикивают, но не бьют. Через пару дней наша артель уже ночевала в шалаше, хоть и плохоньком, а все не под открытым небом. Свой недельный урок с трудом, но выполнили.
Тут приехало начальство. Накричало, чтобы через десять дней было готово не меньше десяти домов. Везут сюда первый транспорт в 2500 человек. Что тут поднялось – беда! Стали работать и по ночам – при свете костров. Меня сняли с артели и заставили оборудовать механическую пилу, работающую на автомобильном моторе. Со мной еще был один бывший слесарь. Дали сроку два дня. Охрана озверела, там накричит, а того и прикладом стукнет. Пошли несчастья. Того деревом придавило, тот топором ногу рассек, тот сломал ногу на штабелях. Народ стал выматываться. Ночные работы выбивали последние силы. Как мы ни бились, а за десять дней срубили только шесть домов. Моя лесопилка работала день и ночь. Заставили меня строить еще три.
Наконец прибыла ожидаемая партия, но с перевыполнением: не 2500, а три тысячи человек. Началась новая гонка. Скорее строить пекарни, кухни, баню, или, как у нас называли, вошебойку. На следующий день после приезда новой партии всех их запрягли в работу, не исключая и детей. Большая часть людей – на корчевке и строительстве, а часть пошла рубить просеку. Работа по-прежнему продолжалась и при кострах, а все же часть людей жила под открытым небом. Да и из нашей партии не все еще перебрались из дома. А ночи уже холодные. Особенно жалко детишек. Одежонка плохая, ходят они посинелые от холода. Работали уж тут все не за страх, а за совесть, чтобы поскорее перебраться под крышу. Правда, уж одна улица есть, стоит до сорока срубов, хоть и не совсем еще законченных. У нас уже более четырех тысяч человек, а тут еще опять новая партия прибыла в две тысячи человек. Среди них много слабосильных, стариков, больных. А больница еще не готова, селят всех вместе – и больных, и здоровых. Приехал и доктор, отгородили ему в одной из казарм закут. Стал он принимать больных. Жену мою назначили к нему санитаркой, она еще дома прослушала курсы подачи первой помощи. Повалил к доктору народ, беда сколько. Больше все с переломами да ранениями, многие с гангреной. Тут же, в закуте, и операции делали. В первый день пришла жена поздно, измученная. Не нахвалится доктором. Хоть и немолодой он, из старых докторов, а работает быстро и хорошо. С больными обращается по-людски. Беспокоится, что нет еще больницы, некуда класть больных, да и нужных лекарств нет. Многим людям дал освобождение от работы. На другой день поднял он бучу из-за вошебойки. Порядок был такой: заходит партия в пятьдесят человек, раздеваются и всю одежду и белье сдают на вошебойку, а сами идут в баню. Мыться можно только полчаса, а потом назад, в предбанник, и ждать, пока выдадут из дезинфекции одежду и белье. Приходится ждать 2–3 часа, а предбанник холодный, дверь выходит прямо на двор. Приходит через полчаса новая партия, с ней – такая же процедура. Как посидит народ три часа голяком в промерзлом предбаннике, тут тебе хоть сразу иди в больницу. После вмешательства доктора разрешили мыться час, и одежду из дезинфекции стали выдавать тоже через час. Ну, да ненадолго, опять пришел новый транспорт, не успевает вошебойка пропускать всех приезжих…
А тут уже зима легла по-настоящему. Стали приезжих втискивать в жилые дома. Барак рассчитан на 80 человек, а набивают 200. Постройка домов продвигается слабо, так как прибывают люди большей частью с Украины, где деревянных домов не строят, и плотничьего дела они не знают. Работают и днем, и при кострах, а от этого только увеличиваются несчастные случаи. Доктор, несмотря на скандалы со стороны начальства, дает освобождение больным и слабосильным. А однажды жена пришла домой как всегда поздно и сообщила, что доктора нашего, вероятно, снимут с работы. Сегодня комендант лагеря кричал на него и сказал, что если он и дальше будет так давать освобождение от работы, то он его посадит. Больницу на 200 человек к этому времени так-сяк закончили и сразу же почти всю заполнили.
Прорубили уже просеку, которую мы видели. Сняли меня с лесопилки и дали грузовик. Мотаюсь я на нем по 16–18 часов в сутки в Большой Невер и обратно. Как-то утром заставили меня натянуть на машину брезентовую крышку и отправили на станцию забрать там пассажиров. Приехал новый доктор, две сестры и фельдшер. Забрал я их и привез в Бушуйку. Начались теперь новые порядки. Приехавший доктор повыписывал из больницы три четверти больных. Остались там только с переломами и кровавой дизентерией. Старого доктора к приему больных не допускают, принимает новый и всех гонит назад на работу. А через неделю вез я на станцию груз, захватив с собой и старого доктора с чемоданчиком. Сняли его с работы.
Скоро постигло несчастье и нашу семью. Братишке моему было уже 15 лет, здоровый вышел паренек, и работал он как взрослый на корчевке. Однажды валил там громадный кедр. Не уберегся как-то и попал под падающее дерево. Раздавило ему грудную клетку. Помучился несколько дней в больнице да и Богу душу отдал.
Приближаются октябрьские торжества. У нас уже две улицы, стоит 140 срубов, остается достроить до нормы всего 60 срубов. А население уже перевалило за 14000 человек. Скученность везде страшная. По-прежнему идет невероятная гонка в строительстве, начальство хочет к торжествам закончить все постройки. Но вот и 6-е ноября. К этому времени успели поставить еще 40 срубов, которые сразу же заселили. Людям стало посвободнее в помещениях. Но тут к празднику, как с неба, упал подарок! Шестого ноября прибыл новый транспорт в две тысячи человек. К ночи их разместили по баракам.
Ну, а октябрьские праздники устроили торжественные. Арки, обвитые хвоей, красные флаги, трибуна. Выгнали нас всех на площадь слушать речи. Продержали на сорокоградусном морозе два часа. Но зато это был первый день, что мы не работали. Уже на второй день погнали всех на работу закладывать новые бараки.
А потом, как из решета, посыпались транспорты по две, две с половиной тысячи человек. Да приезжают все многосемейные. Хоть и работали теперь две вошебойки, но не успевали всех пропустить, и расселяли прибывающих в большинстве без дезинфекции прямо в жилые дома. Тут уж не пятнадцать тысяч человек по плану, а подходит близко к тридцати тысячам. Морозы стояли лютые, а одежа у всех не приспособленная для таких морозов. Как ни отбрасывал доктор больных, а скоро вся больница была битком набита.
Приходит как-то жена из больницы и сообщает страшную новость. В больницу поступило сразу шесть больных сыпняком. А доктор не унывает:
– Ничего! – говорит. – На тридцать тысяч народу всего шесть больных. Это чепуха. До эпидемии далеко!
Но мы-то хоть и не доктора, но прекрасно понимаем, что при такой скученности, как у нас, и один больной сыпняком – это уже несчастье! А потом и пошло… Почти в каждой казарме сыпняк. Каждый день стали хоронить по несколько человек. Забеспокоился тут и комендант лагеря, стал посылать тревожные телеграммы, я их все возил на станцию. Недели через 3 приехало несколько докторов, фельдшеров, сестер милосердия. Навезли лекарств. Да уж поздно. Теперь стали рыть ямы для покойников не для одного человека, а сразу на полсотню, а то и сотню. А к новому году осталось из тридцати тысяч всего четырнадцать тысяч человек. Наехали комиссии и медицинские, и административные. Доктора и фельдшера нашего отдали под суд. Коменданта лагеря сняли с работы, а лагерь Бушуйку расформировали. Об этом в газетах, конечно, ни слова. Но мы-то, оставшиеся в живых, знаем, да знают и все жители станции Большой Невер. Из моей семьи уцелели я да жена. Родители и сестры умерли…»
Шофер закончил свой рассказ. Невольно мне сделалось жутко. Как мало знаем мы, живущие в Советском Союзе, о том, что делается вне пределов нашего непосредственного взора. В газетах читаем только о больших показательных процессах, в которых фигурируют единицы-десятки «вредителей». Читаем, правда, и о «злостных кулаках» в деревне. Кое-что слышим из разговоров шепотом. Но ведь все это проходит как мелкие эпизоды. А здесь совершенно бессмысленно уничтожено шестнадцать тысяч человек. Как это связать со знаменитым изречением Сталина: «Самое ценное – это человек!..»?
В числе первых десятков тех, кто попал в Бушуйку в 1930 г., была семья Александры Ивановны Шиповаловой. «Началась коллективизация, нашей семье дали час на сборы. Мать успела взять с собой только самое необходимое. Везли нас в наглухо закрытых теплушках дней десять. Питание пришлось растягивать только то, что взяли.
На станции Рухлово (сейчас Сковородино) выгрузили; детей посадили на телеги, взрослых погнали пешком. Когда конвоиры довели до лагеря, то перед воротами всех обыскали, перетрясли вещички. Отобраны были те последние крохи продуктов, которые остались после голодной и тревожной дороги. Забрали вещи, нагло утверждая, что в камеру хранения… За колючей проволокой стояли три барака, вышки, разгуливала охрана. А вокруг – тайга. С этого и началась для меня Бушуйка. В ней, по сути, уместились два лагеря – мужской и женский. Причем в женском был еще подлагерь – детский. Туда-то я и попала, будучи еще маленькой девочкой», – вспоминает Александровна Ивановна.
11 марта 1931 г. ЦК ВКП(б) организовал специальную комиссию во главе с заместителем председателя Совета народных комиссаров СССР А. А. Андреевым для координации широкомасштабной операции по раскулачиванию и направлению кулаков в спецпоселки на лесоразработки и рудники.
Во второй декаде марта этого года состоялось заседание комиссии Андреева, на котором был рассмотрен вопрос «О вселении спецпереселенцев на Алдан, на прииски Цветметзолота (телеграмма Алданского окружкома т. Ступишина)». Члены комиссии (Андреев, Ягода и Постышев) постановили:
«…Обязать т. Серебровского:
– принять всех спецпереселенцев, направляемых на прииски ЦМЗ согласно его заявке от 17 марта с. г.; ввиду неподготовленности Алданского комбината (отсутствие помещений, продовольствия и недостаток транспорта) к немедленному приему семейств спецпереселенцев выстроить в районе Б. Невера временные бараки на 5 тыс. чел., а на Алдан направить пока лишь одних трудоспособных мужчин;
– содержание и обеспечение всем необходимым семей спецпереселенцев, находящихся в Б. Невере, возложить на Цветметзолото;
– отправку семей спецпереселенцев на Алдан из Б. Невера поставить впрямую зависимость от подготовки жилищ и завоза продовольствия Алданским комбинатом, определив для этого срок не позже середины июля 1931 г.»4
В апреле 1931 г. на якутские прииски была направлена вторая партия проживавших в Бушуйке спецпоселенцев – трудоспособные члены 800 семей. Старики, женщины, дети остались на месте. Как планировалось, временно – до тех пор, пока на Алдане не будут созданы условия для воссоединения семей.
Принудительные мигранты содержались в поистине бесчеловечных условиях. Об этом свидетельствуют многочисленные воспоминания бывших спецпереселенцев. Но страшнее всего читать об этом в официальных документах. В Справке от 5 мая 1931 г. «О вселенных и переселенных кулаках в ДВК» оперуполномоченный 2-го отделения СПО ОГПУ Г. А. Штранкфельдт констатировал:
«…Хозяйственное устройство ссыльных кулаков, переданных приискам «Цветметзолото», находится в неудовлетворительном состоянии. Скверно обстоит дело с обувью и одеждой, особенно теплой. Имеется значительное количество кулаков – раздетых и босых. «Цветметзолото», за неимением запасов, удовлетворить потребность кулаков в одежде и обуви не может. Не урегулирован вопрос о снабжении продовольствием. Ссыльные кулаки медицинской помощью не пользуются, медикаментов не хватает…
…Семьи «одиночек» (прибывшие из БССР в ноябре пр[ошлого] года) до отправки на прииски к их главам (пока прииски «Цветметзолото» приготовятся к их приему) были временно размещены в трех поселках (Б.-Неверский – пос. Бушуйка, разъезд 488 км – пос. Свободный и в г. Зея). Часть трудоспособных использовываласъ* на лесозаготовках, а остальные, вследствие отсутствия теплой одежды и обуви, вовсе не использовывались. Из этих трех поселков с ноября 1930 г. по март 1931 г. бежало 1442 чел.»5.
Отметим, что спецпоселок Бушуйка располагался в зоне вечной мерзлоты, зимой столбик термометра в этих местах опускается ниже 40 градусов Цельсия. Естественно, что люди старались вырваться из этого ада.
Известно, что за один только зимний месяц 1930 года из 700 спецпереселенцев Бушуйского спецпоселка, в основном жителей Белоруссии, бежало 22 человека6.
Проверяя осенью 1931 г. поселки спецпереселенцев Дальлага, заместитель начальника УНКВД по Дальневосточному краю Улыбышев отмечал:
Здесь и далее – так в документе.
«Общее состояние спецпереселенческого дела… преступно безобразно… Выборы мест для поселков производились и производятся без всякого учета абсолютно необходимых на данный счет условий – на голых камнях, вечных топях и марях, на абсолютном безлесье или безводии, а в целом, в местах для поселения абсолютно невозможных… И, как следствие такового «строительства», уже ряд намеченных и частично построенных поселков забракованы (Зея, Рухлово).
Расселение по баракам спецпереселенцев крайне скученное. Средняя площадь 1,6 м на человека, местами значительно меньше. Размещение по нарам больше чем уплотненное – кое-где по полторы четверти на человека. Всякие грани семьи, пола, возраста уничтожены. Спят, что называется, вповалку. Воздух отвратительный!.. Насекомые самых разнообразных пород и сортов везде и повсюду…
Продовольственные запасы на местах крайне незначительны… Частичное общее недоедание имеет место исключительно у многосемейных, имеющих одного, а иногда и не одного нетрудоспособного. Снабжение таких семей по нормам нетрудоспособных явно недостаточное, и в части их жалобы на малый паек вполне обоснованные. Мануфактура кое-где (Соловьевское смотрительство) не выдавалась с апреля. Потребность в промтоварах очень большая, особенно для белорусов и украинцев, которых привезли в нашу область практически раздетыми. Среди последних есть семьи, где часть детей ходят совершенно голыми, а новорожденные ребята завертываются в тряпки, сделанные из юбок матерей. Уже сейчас, по не вполне точным данным, до 16 % трудоспособных не могут из-за отсутствия теплой одежды и обуви работать».6
Ужасающее устройство ссыльных «кулаков» в стране было повсеместным. Поэтому одним из своих постановлений «О спецпереселенцах» Политбюро ЦК ВКП(б) командировало пять членов ЦКК – по одному на Урал, в Сибирь, Северный край, Казахстан и на Дальний Восток, – «придав им по одному работнику ГПУ и предложив совместно с хозорганами и крайкомами партии на месте принять все необходимые меры по упорядочению хозяйственного использования и устройства спецпереселенцев». В ДВК был командирован О. Л. Рывкин. Он оставил красноречивые свидетельства о том, как жили семьи спецпереселенцев в Дальневосточном крае, в том числе и на Бушуйке.
В 1931 г. на Оборе, в Бушуйке, Могоче, Зее распространились эпидемии сыпного и брюшного тифа. Ситуация в Бушуйке оказалась настолько тяжелой, что 11 августа здесь было собрано специальное совещание представителей райкома партии, РИКа, ОГПУ и др. Они приняли перечень мероприятий по спецпоселку «Бушуйка», разработанных членом ЦКК ВКП(б) О. Л. Рывкиным и одним из сотрудников ОГПУ. В частности, было рекомендовано:
«…Детей до 14-ти лет перевести на обычные нормы детского снабжения, особо обеспечив в целях борьбы с детской смертностью рисом и крахмалом… В 3-дневный срок провести набивку матрацев для детдома и больницы, а потом остальным… Представлять немедленно по требованию врача подводы для перевозки больных, нуждающихся в операции, в Рухловскую больницу… Срочно перевести выздоравливающих детей из палатки в изолированное помещение в детдоме… После перевода детей на обычное детпитание и организации деткухни перевести детей до 6-ти лет из детдома к родителям…. Провести силами спецпереселенцев необходимый ремонт больниц, детдома (в первую очередь) и бараков, учитывая наступившую погоду.
…Перевести в ближайшие дни из палаток в бараки всех спецпереселенцев…»7
Как следует из «Сводки [№] 22 о медобслуживании спецпереселенцев», подготовленной ГУЛАГом ОГПУ от 22 сентября 1931 г., «за семь месяцев в Бушуйке умерло 308 человек, что составляет 1 % в месяц».8
Всего же, по данным на 1 ноября 1931 года, на Оборе, в Бушуйке и Могоче умерли 1883 человека. «За непринятие своевременных мер борьбы с эпидемиями «несколько лиц привлечено к уголовной ответственности. Создана Краевая ЧК по борьбе с эпидемиями».9
В одном из источников10 сообщаются растиражированные впоследствии сведения о том, что страшный тиф, свирепствовавший в Бушуйке в начале 1930-х годов, унес жизни 16 тысяч человек из проживавших там 30 тысяч. Объективности ради отметим: эти данные некорректны – архивные материалы не подтверждают такого числа узников в Бушуйке в эти годы.
В сентябре 1931 г. в докладе председателю комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по спецпереселенцам А. А. Андрееву «О проверке выполнения решений ЦК по вопросу о спецпереселенцах в Алданском районе «Цветметзолота» Рывкин дал полную картину состояния дел в Бушуйке. Он констатировал:
«…800 семейств спецпереселенцев, направленных на Алдан, были временно размещены на ст. Б. Невер в спецпоселке ОГПУ Бушуйка. Алданские организации категорически отказались принять нетрудоспособных членов семей, мотивируя полной неподготовленностью к приему 4000 чел. В результате на Алдан в апреле 1931 г. были направлены только трудоспособные главы семейств, а члены семейств (старики, женщины и дети), свыше 2-х тыс., оставлены в спецпоселке Бушуйка за 650 км от Алдана. При этом местные организации обязались принять все меры к осуществлению перевода в июле – августе с. г. семей спецпереселенцев на Алдан.
В настоящее время на Алдане находится 3549 спецпереселенцев. 694 из них имеют семьи (2257 чел.) в спецпоселке Бушуйка за 650 км от Алдана.
…Положение в спецпоселке Бушуйка таково. В нем находится сейчас 3306 чел. Из них 2257являются членами семей спецпереселенцев, работающих на Алдане, 997 человек – семьи, находящиеся полностью в поселке, и остальные члены семейств, главы которых находятся в разных районах. Из 3306 чел., живущих в Бушуйке, 1415 детей до 14 лет. Прежде всего на почве скверного питания (полное отсутствие мяса, жиров, молока, питались одной рыбой и крупой) имеет место большая детская смертность. За 8 мес. этого года умерло 184 чел. детей до 5-ти лет. Это составляет 55 % всей смертности в поселке. В результате детей до 3-х лет в поселке имеется 289 чел. (среди них 111 родившихся здесь). Поселок перенес эпидемию сыпного и брюшного тифа. Брюшным тифом переболело 91 чел., умерло 25 чел., сыпным переболело 101 чел., умерло 16 чел. Наибольшие месяцы по смертности были июнь и июль (81 и 99 чел.). Никакой помощи со стороны органов Дальне-Восточного края (на территории которого расположен поселок) во время эпидемии поселок не получил. Имеется больница, где работают два врача; персонал остальной набран из спецпереселенцев в порядке самообслуживания поселка. Медикаментов недостаточно. Постельных принадлежностей не было. Сыпняк занесен в поселок спецпереселенцами, прибывшими со ст. Зея. За первую половину августа эпидемия тифа спала. Однако при обратном проезде из Алдана (28/VIII) нам было сообщено о вновь вспыхнувших заболеваниях сыпняка.
Живут спецпереселенцы в общих летних бараках с двойными нарами. Т. н. «детдом», в котором
живет изолировано от родителей подавляющее большинство детей, также представляет из себя барак с двойными нарами. Персонал детдома (няньки) из самих спецпереселенцев.
В поселке Бушуйка используются: на покосах 234 чел. и в Ларинском агентстве ЦМЗ – 329 чел. Не используется до 500 ч. Слабо используется (только за последнее время, на сборе ягод) труд женщин и подростков. Все работающие получают паек ниже существующих норм. Промтовары и спецодежда не выдаются. Расчетных книжек нет. Часть работающих использовалась бесплатно (покос колхоза «Коммунар», пошивочная мастерская, сбор ягод).
Обращает на себя внимание большое количество имеющихся в поселке спецпереселенцев стариков и старух свыше 60-ти лет. Они наиболее подвержены заболеваниям и дают большой процент смертности.
Оставлять семьи спецпереселенцев в Бушуйке нельзя. Бараки не приспособлены к зиме. Кроме того, содержание семей в Бушуйке обходится Алданскому Госкомбинату около 80 тыс. руб. в месяц. Отсутствие семей тяжело сказывается на производительности труда и настроениях работающих спецпереселенцев. Их просьбы сводились главным образом к переводу на Алдан семей.
Между тем никакой работы по подготовке перевода семей спецпереселенцев на Алдане не ведется.
…Свыше 80 % членов семей спецпереселенцев, которых надо перевести с Бушуйки, являются членами семей спецпереселенцев, работающих на Сталинских приисках (1967 чел. из 2257 ч.). По заявлению руководителей Алд. госкомбината (т. Белый, т. Краукле) район этих приисков будет разрабатываться еще ближайшие 2 года. Ввиду [наличия] кругом леса основная стоимость жилищного строительства здесь – это стоимость рабочей силы. Между тем, как это было нами выяснено, спецпереселенцы сами с большой охотой, без всякой оплаты согласны построить себе для своих семей жилища при условии предоставления им леса и других стройматериалов.
При этом строительство будет проводиться ими в свободное от основной работы время (здесь 6 и 7 час. рабочий день). Т. о., расходы по строительству спецпоселков на Сталинском прииске сводятся к минимуму и составят сумму в несколько раз меньшую, чем стоит хозоргану содержание семей спецпереселенцев в Бушуйке. К 1-му января 1932 г. строительство спецпоселка вполне возможно полностью закончить. На время, пока будет идти это строительство, семьи могут быть размещены (временно) на отработанных приисках (Усмун и Орочон) в 40 км от Сталинских приисков. Помещения там имеются. Учитывая, что Сталинский район будет разрабатываться еще 2 года, все трудоспособные члены семей спецпереселенцев вполне могут быть заняты на подсобных работах.











