Читать онлайн «Изображение рая»: поэтика созерцания Леонида Аронзона
- Автор: Пётр Казарновский
- Жанр: Русская поэзия, Биографии и мемуары
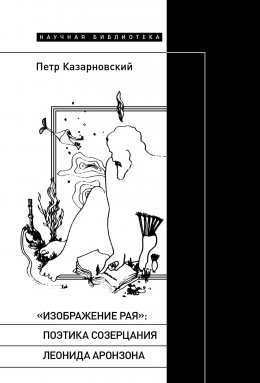
© П. Казарновский, 2025
© К. Панягина, дизайн обложки, 2025
© OOO «Новое литературное обозрение», 2025
Материалом моей литературы будет изображение рая. Так оно и было, но станет еще определеннее как выражение мироощущения, противоположного быту. Тот быт, которым мы живем, – искусственен, истинный быт наш – рай, и если бы не бесконечные опечатки взаимоотношений – несправедливые и тупые, – жизнь не уподобилась бы, а была бы раем. То, что искусство занято нашими кошмарами, свидетельствует о непонимании первоосновы Истины…
Л. Аронзон
Введение
Живые стихов не пишут[1].
С первых шагов освоения творчества Леонида Аронзона о нем утвердилось мнение как о поэте рая[2]. Может показаться, что рай – одна из расхожих метафор для описания различных состояний блаженства, от религиозных до наркотических[3], и буквальная попытка изображения рая может привести в лучшем случае к следованию долгой литературной и художественной традиции, а в худшей – к банальности. Однако рай Аронзона – это прежде всего пространство невозможного, и экзистенциальная важность изображения того, что в приведенном в эпиграфе отрывке названо раем, высший поэтический вызов в следовании этой задаче приводят Аронзона к осмыслению рая как «пространства души», с которым коррелируют базовые концепты его творчества: пустота, ничто и смерть. Ведь рай может быть увиден только тем, кто умер и чье зрение лишилось привязанности к физическому миру, однако сообщить об этом видении может лишь живой человек.
В поэтическом мире Аронзона это обуславливает специфику отношений между автором, лирическим героем и тем, что открывается его/их взгляду. Автор и лирический герой поэзии Аронзона – двойники в почти буквальном смысле слова, и мотивы двойничества и отражения играют в его творчестве важнейшую роль. С одной стороны, этот опыт можно сближать с мистическим просветлением, подобным откровениям Мейстера Экхарта, Якоба Бёме, Иоанна Креста, восточных мистиков. Внутренний мир в таком поэтическом видении безоговорочно преобладает над миром внешним. С другой стороны, Аронзон в первую очередь – поэт, ставящий перед собой сложнейшие художественные задачи, связанные с особыми отношениями лирического героя и того мира, в который тот оказывается помещен волей автора или даже в силу высшей поэтической необходимости. Задача автора – изобразить этот пограничный опыт; задача читателя – быть готовым войти в этот мир; задача исследователя – попробовать понять, по каким законам этот мир начинает существовать в поэтическом произведении. Этой задаче – изображению того, как Аронзон изображает свой рай, – и посвящена данная книга.
Рай в творчестве Аронзона – не продукт воображения; признавать его сверхреальностью – соблазнительно, но чревато ошибками, ведущими к пониманию оптики и организации пространства текстов как сюрреальных, мистических, религиозных и т. п. Аронзон сознает, что передать опыт собственного видения рая невозможно, и оттого всякое поэтическое изображение рая у него обладает вненаходимостью, внеположностью, запредельностью для того, кто его (вос)производит, говорит о нем. Такая вненаходимость есть у души и/или духа, которым можно было бы приписать авторство «видений Аронзона», если бы это не носило либо условный, метафорический, либо метафизический и неверифицируемый смысл. Разумеется, в засмертном пространстве пребывает не совпадающий с говорящим субъект, но, называясь «я», он кажется проекцией «внутреннего человека», которым станет герой или его автор после смерти: «Когда, душа, я буду только ты», – сказано в стихотворении «Душа не занимает места…» (<1968>, № 87[4]). В других произведениях такое «одухотворение» субъекта на уровне поэтического сюжета, кажется, уже произошло, и остается неясным, как из этого состояния может происходить говорение о невыразимом. Аронзон неоднократно употребляет такие словосочетания, как «пространство души» или «мир души», не столько для обозначения внутреннего, лирического, пространства, сколько для называния места пребывания своего персонажа после его смерти. Это «пространство души» и есть рай, где все допущенные в него персонажи и предметы утрачивают свою привычную природу. Лирический текст Аронзона предстает пространством, пустым от знакомой нам физической реальности и ее законов (в том числе языковых) и вместе с тем предельно насыщенным, плотным, обладающим ощутимой фактурой. То, например, как организованы зрелые сонеты, свидетельствует об освоении поэтом одной из самых обогащенных традицией форм, которая становится у Аронзона пустой, нулевой («Пустой сонет»), «нет-со-бытием» (со-нет).
Задача этой игры с традицией, ведущей к радикальному поэтическому эксперименту, видится в том, чтобы описать несуществующее, отсутствующее пространство как зримое, чувственно воспринимаемое, избежав при этом как следования принципу «жизнеподобия», так и характерной для описательной поэзии строгой рациональной композиции. Перед поэтом возникает проблема выражения того, что выражено быть не может: оставаясь главной темой лирической поэзии, «видное» автору пространство нуждается в особом модусе говорения, которое может быть осуществлено только покинувшим эту жизнь, и в особом герое – жителе рая, созерцателе и своего рода трансляторе авторских видений, «видений Аронзона». Этот персонаж, меняясь от текста к тексту, обладает рядом постоянных свойств. Для описания такого лирического героя я ввожу обозначение «автоперсонаж» – как некое органическое соединение автора и его персонажа, наподобие ролевой поэзии, но с тем отличием, что отношения автора и его лирического alter ego характеризуются очень подвижной дистанцией: не всегда возможно с уверенностью сказать, от чьего лица ведется речь. Это отношение можно охарактеризовать как своеобразный транзит непосредственного опыта в поэтический, непрекращающийся переход из одного в другое и обратно. Автоперсонаж – сигнал о сложной идентификации лирического «я» у Аронзона: в нем совмещаются черты и условного героя, и реального автора, которые остаются не проявленными окончательно, до полной определенности. Кто произносит слова: «<..> хоть мало я пишу стихов, / но среди них прекрасных много?» (№ 92) Кому «хорошо гулять по небу, / вслух читая Аронзона» (№ 91)? Колебания говорящего «я» между реальным Аронзоном и фиктивным персонажем свидетельствуют о его частичном отсутствии: автоперсонаж Аронзона схож с хлебниковским лирическим субъектом – мнимой величиной √–1−. Поэтический мир Аронзона не конкретен даже в том смысле, в котором мы обычно говорим о вещном мире стихотворения, хотя ему придаются очертания, пусть и зыбкие: мир этот подвижен и переменчив. Чтобы обрести постоянство, этот мир – рай – нуждается в том, кто мог бы его увидеть, обозреть, сохраняя к этому невозможному пространству позицию лицом к лицу, и сообщить о нем, не впадая в (псевдо)религиозные откровения, символистский пафос или сюрреалистические фантазии. В каком-то смысле речь идет о том, чтобы вернуться в рай, обрести первозданное состояние после смерти и до рождения. В такой парадоксальной сверхзадаче – квинтэссенция поэзии Аронзона.
В 1969 году Аронзон записывает в блокноте: «Все пишут жизнь, а кто опишет смерть» [Döring/Kukuj 2008: 390]. Очевидно, что смерть он понимает как длительность, так же как «пленэр для смерти» – неоднократно появляющийся образ в его поэзии, который следует понимать не событийно, а «бытийственно», как длительное пребывание в засмертном пространстве, в раю; но и это пребывание описывается не как процесс, а как постоянно актуальное состояние. В этом смысле поэтический мир Аронзона основан на ряде констант, присутствующих в его творчестве с самого начала. Безусловно, творчество Аронзона обладает развитием, так же как и его автоперсонаж имеет поэтическую биографию. Однако задача этой работы – описать автоперсонажа и его мир не столько в их становлении, сколько в онтологическом единстве, представленном в творчестве поэта как цельная данность. В силу краткости поэтического пути Аронзона (чуть больше десяти лет), постоянства тем и мотивов и лаконичности поэтического словаря я считаю возможным (понимая методологическую проблематичность такого подхода в принципе) разговор о поэзии Аронзона, вынося диахронное измерение за скобки. При таком подходе все стихотворения Аронзона воспринимаются как бы одновременно: ведь рай обладает пространством, но не знает времени.
В силу уникальности творческого опыта Аронзона главное внимание будет уделено проблемам поэтики и вопросам изобразительности. Борясь с сопротивлением языка, диктующего строгие отношения между означающим и означаемым, Аронзон добавляет к семиотичности слова пространственную компоненту: слово Аронзона устремлено не столько называть, сколько определять, очерчивать, обозначать контур, которого нет и который может быть только помыслен, как и мир, этим контуром ограничиваемый. Проблема изобразительности слова остается для поэта актуальной до последнего его текста, что отражается в постоянном поиске новых способов выразительности. Во многом ориентируясь на лексикон, характерный для поэзии Золотого, пушкинского века, поэтам которого была свойственна тяга к «гармонической точности» и ясности, Аронзон создает мир, хоть и полный узнаваемых реалий, но вместе с тем духовный (если не сказать абстрактный). В известном смысле этот опыт схож с экспериментом русского авангарда, к которому Аронзон испытывал большой интерес (в особенности к поэзии Хлебникова). Конечно, утопичность проекта Аронзона иная и лишена жизнестроительных претензий русского модернизма[5], однако степень его поэтического новаторства при одновременной кажущейся классичности формы представляется экстраординарной. Не случаен позднейший интерес к Аронзону поэтов-трансфуристов: публикуя «Паузы» и другие визуальные стихотворения Аронзона в самиздатском журнале «Транспонанс», его редакторы Ры Никонова и Сергей Сигей подчеркивали значимость поэта для позднесоветского неоавангарда. Связь пустоты Аронзона с вакуумной поэзией Ры Никоновой требует отдельного исследования.
В этой работе я ограничиваюсь анализом ряда проблем, связанных с поставленной Аронзоном в приведенном в эпиграфе высказывании из записной книжки перед собой и читателем задачей. Каким материалом пользуется поэт, чтобы изобразить рай? В каком смысле его поэзия противоположна быту, о каком мироощущении идет речь и как оно может быть выражено в поэтическом тексте? Как поэт избегает – и избегает ли – проблемы уподобления жизни (то есть ложной копии, дурного отражения) раю; как ему удается (если удается) приблизиться к тому, что он называет «первоосновой Истины»?
После краткого портрета автора я перехожу к разговору об автоперсонаже, его месте в поэтическом ландшафте и о том, как организованы сам ландшафт, способ его восприятия и методы его изображения (гл. 1–2).
В третьей главе обозначаются общие антиномические основы поэтического мира Аронзона, в центре которого стоит концепт рая: отношение поэта к традиции и к сонету как одновременно самой традиционной и самой экспериментальной поэтической форме у Аронзона; устремленность к Ничто и поиск диалога; значимое для Аронзона представление об обратной перспективе, выраженное в поэтическом слове; и в заключение – смерть как абсолютное начало. Эти и другие составляющие «поэтики созерцания» Аронзона будут подробно раскрыты в последующих главах книги.
Четвертая глава посвящена красоте как одному из константных состояний поэтического мира: здесь будет обосновано создаваемое – отчасти мыслимое, умозрительное – пространство, созерцаемое персонажем. В конце главы будет предложена интерпретация этого пространства как экфрасиса несуществующей, виртуальной картины.
В пятой главе предлагается имманентный анализ поэмы «Прогулка» (1964), кризисной по своему месту в творчестве Аронзона: именно в ней поэт приходит к одной из своих творческих констант – меняющимся отношениям автоперсонажа и пространства, – а также выстраивает двойническую связь «автор – автоперсонаж», в ходе разворачивания которой автор передает лирическому alter ego дар видения, оформленного в поэтическом слове.
Глава шестая посвящена разворачивающемуся в поэтическом мире Аронзона пространству и модусам его видения. На примере ряда «пейзажных» стихотворений прослежен процесс интериоризации пространства – вплоть до того, как оно становится «пленэром для смерти». Рассматривается присутствие в творчестве Аронзона категории возвышенного, в переживании которого сочетаются счастье и ужас. «Засмертное» пространство с замершим временем – условие, позволяющее автоперсонажу предаться созерцанию.
Введенное в шестой главе понятие «внутренний хронотоп», примененное к поэтическому миру Аронзона, способствует продолжению речи в седьмой главе о пространственных парадоксах в поэзии Аронзона. Пространство в текстах поэта «прочитываемо» посредством принципов обратной перспективы, которые были сформулированы Павлом Флоренским и его учениками и последователями. Вместе с тем в главе уделяется внимание особой театральности в организации «поэтической мизансцены»: всё в охватываемом пространстве аронзоновского мира тянется к игре из желания «не быть собой».
Восьмая глава рассматривает движение в художественном пространстве Аронзона. При преобладающей статичности лирического субъекта динамичен окружающий его мир. Движением, причем часто скрытым, обуславливается пространство, часто умозрительное, а то и несуществующее. Для Аронзона важна позиция его персонажа: определенная поза, особенно вследствие ее статичности, означает паузу, а пауза измеряема позой. Движение, каким бы оно ни было, позволяет автоперсонажу Аронзона занимать место в центре, который, согласно известному афоризму, оказывается везде, тогда как периферия – нигде. «Внутреннее пространство» Аронзона – «пейзаж души», засмертный ландшафт, открытый зрению автоперсонажа, расставшегося с физическим миром.
В девятой главе говорится о тех позициях, из которых автоперсонаж Аронзона осуществляет созерцание, позволяющее никогда не исчерпывать свой объект и оставляющее его всегда потенциально полным. Зрение автоперсонажа оказывается способным видеть невидимые свойства созерцаемого, словно угадывать в дневном свете ангельскую тень[6]. Оптика, предлагаемая Аронзоном, позволяет устанавливать пространственный объем называемого им времени или состояния и пребывать в этом объеме, открытом одновременно и этому свету, и тому. Так создается иероглифичность образности: передаваемые в слове зрительные впечатления принимают форму изменчивых, нестатичных в смысловом отношении образов, подобно иероглифам обладающих как конкретным значением, так и (не)определенной семантикой, которой обозначена «ноуменальная глубина» созерцаемого.
Десятая глава посвящена рассмотрению различных лексико-грамматических комбинаций, производимых Аронзоном в стихотворных текстах с целью наиболее адекватно выразить видимое автоперсонажем. Чтобы сохранить максимальную поэтическую многозначность и вместе с тем «зримую» конкретность, поэт прорабатывает слово на микроуровне в динамике задействования той или иной лексемы, что приводит к тотальной неустойчивости смысла. Аронзон внимателен к внутренней форме слова и использует его парономастический потенциал, позволяющий обозначить трансценденцию.
Одиннадцатая глава предлагает к рассмотрению осуществляемый поэтическими средствами диалог между «я» и «ты», в ходе которого складывается своеобразная поэтодицея Аронзона: страстное желание обрести себя в другом приводит к тому, что в ближнем узнается не Бог, а чужой «он». Однако свойственный поэту диалогизм выводит его автоперсонажа за пределы личного «я» к «ничьему сознанию», которым разные «я» объединены в «мы».
В двенадцатой главе говорится о поэтическом пространстве, где осуществляется поиск другого ради диалога. «Внутренний хронотоп», локально неопределимый, экстериоризуется, но и остается сокрытым; именно там ожидается встреча «я» и «ты», их совпадение, в котором будет обнаружена неисчерпаемая друг для друга глубина. Часто поэт извлекает на свет эту глубину, явленную в слове – не в категоричном утверждении, а в спонтанной фиксации неуловимости предмета высказывания на грани присутствия/отсутствия. Подобное извлечение мерцающего, амбивалентного смысла получает в этом поэтическом мире пространственное воплощение, выливаясь в модус диалога, пусть и не всегда маркированного. Аронзон создает ситуацию «отражения отражения», в которой, как в сферическом зеркале, воспринимаемые предметы то становятся фактами сознания, то отчуждаются от воспринимающего, становясь рядом «дурной пустоты». В создающемся пространстве устанавливаются связи между всеми ипостасями «я» и между «я» и другим. Зримое наделяется лицом и, следовательно, душой, образуя «пейзаж души» – духовное, виртуальное пространство, где возможен диалогический обмен ви́дениями и виде́ниями.
Тринадцатая глава посвящена мотиву двойничества у Аронзона – мотиву, происходящему из диалогичности этого поэтического мира в самом его устройстве. В диалог вовлекаются не только персонажи-конфиденты, но и Бог, проявляющий себя в отражениях, и в ходе этой беседы возникает вопрос идентификации каждого из ее участников, их различимости между собой. В такой беседе реализуется отраженность участников этого поэтического действа друг в друге, отраженность всегда асимметричная и неточная, искаженная, в ходе которой выясняются совпадения или расхождения персонажей.
В четырнадцатой главе рассматриваются сонеты Аронзона и предлагается интерпретация этой самой отрефлексированной поэтом формы. Особое внимание уделено группе сонетов, в которых представлен метатекст, получающий в исследовании название «сонетологии». На основе ряда формальных признаков выявляется принцип, согласно которому число сонетов в творчестве поэта может быть увеличено из-за намеренно расшатываемой Аронзоном сонетной формы: читателю и исследователю предоставляется возможность, вслед за автором, посмотреть на канон свободно. С учетом как производимой поэтом модификации строгой формы, так и обыгрывания им ее названия («со-нет») сделан вывод о трансгрессивной природе сонета у Аронзона.
Пятнадцатая глава подводит своеобразный итог: в ней рассматривается особый модус присутствия и ви́дения «пространства души» – несуществующего места, рая – через смерть. Автоперсонаж пребывает в «нулевой точке» или стремится к ней, чтобы иметь возможность двигаться как по линейному, так и по реверсивному направлению времени. По-разному маркированная, тема смерти у Аронзона предполагает не уничтожение, а путь к существованию или осуществлению, не знающему закрепощенности в телесном и материальном. Смерть мыслится поэтом скорее в пространственных, чем во временны́х координатах; в «пленэре для смерти» время оказывается нейтрализованным в своей смертоносности. Само творчество представлено как приуготовление к смерти: как сказано в эпиграфе к этому введению, «живые стихов не пишут». Одной из целей главы, как и всей предлагаемой работы, является попытка показать, что смерть у Аронзона – особый модус, из которого он утверждает жизнь.
В Заключении я еще раз останавливаюсь на основных исходных положениях своего исследования и делаю вывод о значимости и новаторстве радикального поэтического эксперимента Леонида Аронзона в «изображении рая».
Эта книга основана на защищенной мной в 2024 году в Женевском университете диссертации, которая писалась трудно и долго. За эти годы не стало Владимира Эрля, который бережно сохранил как творческое наследие Аронзона, так и память о нем и без участия которого невозможно представить себе двухтомное собрание произведений поэта в том виде, в каком оно было осуществлено в 2006 году и с тех пор не раз переиздавалось. 24 февраля 2022 года ушел из жизни Виталий Львович Аронзон, старший брат поэта, который оказал неоценимую помощь при подготовке собрания и до последних дней очень внимательно следил за тем, как происходит изучение творчества Леонида; он читал отдельные главы диссертации, и мне очень жаль, что я не могу с ним поделиться итогом своих размышлений… Памяти В. Л. Аронзона я хотел бы посвятить эту работу.
На протяжении ряда лет мне помогали советом, рекомендацией и словами поддержки Ф. И. и М. Ф. Якубсоны, Т. Л. Никольская, Н. А. Таршис и Б. Ванталов (Б. Констриктор), Ю. Б. Орлицкий, Е. В. Надеждина, Н. В. Козловская, С. Е. Бирюков, В. М. Кислов, А. В. Скидан, А. М. Мирзаев, Ю. В. Галецкий (Ушаков), Е. А. Лазарева, которым я приношу глубокую благодарность. Благодарю также членов диссертационного жюри, благосклонно отметивших мою работу и в ходе ее обсуждения высказавших ряд ценных наблюдений и давших рекомендации: Т. Смолярову, К. Амашер, К. Ичин, Ж. фон Цитцевитц, Й. Херльта. Отдельно спасибо моей жене Людмиле Дорониной, на глазах которой происходила борьба со многими трудностями, связанными с облечением моих размышлений в связную форму. Эти трудности не были бы преодолены, если бы не помощь моего друга и, наряду с Владимиром Эрлем, многолетнего «подельника» по Аронзону Ильи Кукуя, беседы с которым и обсуждение написанного на протяжении последних лет помогали мне прояснять различные аспекты исследования; произведенная Кукуем работа при научном редактировании книги в процессе подготовки ее к изданию имеет для меня огромную ценность. Особую благодарность я хочу высказать моему научному руководителю Жан-Филиппу Жаккару, терпение, деликатность и точность в рекомендациях которого мне невероятно помогли. Всем названным людям я глубоко признателен и прошу прощения у тех, кого забыл упомянуть.
Глава 1
Образ автора
Жизнь и наследие Леонида Аронзона
1.1. «Жизнь дана, что делать с ней?..»[7]: биографические основы мифопоэтики Аронзона
Леонид Львович Аронзон родился 24 марта 1939 года в Ленинграде в интеллигентной еврейской семье: отец – Лев Моисеевич (1903–1975) – инженер-строитель, мать – Анна Ефимовна (урожденная Геллер, 1902–1989) – врач. Леонид был вторым ребенком в семье: первый – Виталий – родился 17 октября 1935 года. Семья жила на 2-й Советской улице, 27, в огромном доходном доме, занимавшем целый квартал между Невским проспектом, Дегтярным переулком, проспектом Бакунина и 2-й Советской улицей. Семья Аронзонов размещалась в поделенной на две части комнате, бывшей когда-то кабинетом владельца купеческой квартиры. Когда родился Леонид, вместе с родителями в квартире проживали также братья матери – Исаак и Михаил Геллеры. Исаак Ефимович (Хаимович) Геллер (1905–1980) был физик-теоретик, преподаватель Ленинградского университета. В 1930-е годы он подвергся репрессиям и отбывал срок в Воркуте. На его даче в Барвихе под Москвой Леонид отдыхал в начале 1960-х, что отразилось в его раннем творчестве[8]. Михаил Ефимович (Моисей Хаимович) Геллер (1904–2001) – геодезист, перед войной аспирант Института теоретической астрономии Академии наук СССР. Во время войны попал в окружение и немецкий плен. Бежал, воевал в составе партизанского отряда в лесах под Лугой. 8 августа 1945 года был приговорен по статье 58–1б УК РСФСР «Измена Родине» к 10 годам лагерей и 5 годам поражения в правах; освободился в 1954 году и вернулся к семье в Ленинград, жил на 2-й Советской; реабилитирован в 1959 году. Судя по всему, Михаил был ироничным человеком, склонным к философской рефлексии и острому скепсису; беседы с ним почти наверняка послужили позднее для племянника толчком к созданию поэтической прозы «Ночью пришло письмо от дяди…» (1969, № 299).
Когда началась война, отец был прикомандирован к эвакуированному на Урал Всесоюзному проектному алюминиево-магниевому институту. Мать, военный врач, осталась в Ленинграде, а детей в августе 1941 года эвакуировали к отцу в поселок Лёнва недалеко от города Березники (тогда Молотовская, ныне – Пермская обл.), куда они прибыли с бабушкой. Через год туда приезжает их мать, чтобы сформировать военный эвакогоспиталь. С воссоединением семьи улучшаются бытовые условия, налаживается жизнь: Виталий в 1943 году идет в школу, Леонид остается на попечении бабушки. Летом 1944 года Анна Ефимовна уезжает в Ленинград, и в сентябре 1944 года вся семья, кроме отца, оставшегося в Березниках, возвращается в квартиру на 2-й Советской.
После войны жизнь возвращалась в нормальное русло: дети ходили в школу (Леонид окончил среднюю школу № 167 в 1957 году), некоторое время вместе занимались музыкой, приобретали друзей, много читали; безусловным увлечением обоих была поэзия: будучи с раннего детства приобщенными к творчеству Пушкина, Лермонтова, они открывали для себя Есенина, Маяковского, Блока, Брюсова – это сказалось на первых, еще очень подражательных опытах Леонида. Как предполагает брат поэта Виталий Львович Аронзон, «к написанию стихов Леню подтолкнул Есенин» [Аронзон В. 2011: 218][9]; согласно утверждению Александра Степанова, Аронзон начал писать стихи с 6 лет [Степанов А. И. 2010: 15]. Старший брат посещал занятия в Эрмитаже, рассказывал Леониду об античной истории, мифологии, много читал вслух; вообще, семейные чтения вслух были излюбленным времяпрепровождением; телевизор в доме появился значительно позже. Вместе с тем в их жизни – как и у многих послевоенных детей – немалое место занимала улица, что формировало характер, привычки общения, особенно у Леонида, которого в десятом классе чуть не исключили из школы за непочтительное отношение к некоторым учителям; в компании закадычных друзей подросток начал курить, дерзить учителям, посредственно учиться. Леониду на протяжении всей жизни было свойственно обостренное чувство «невписанности» в существующие социальные и бытовые структуры, недоверие к авторитетам и желание противопоставить им собственную независимость. Так, сдав один или два экзамена в Технологический институт, на следующий экзамен не пошел, мотивировав это неприязнью к волнениям абитуриентов.
В итоге он поступает, по настоянию матери, на биолого-почвенный факультет Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена. Доучившись до конца семестра и получив стипендию, он со школьным другом Геннадием Корниловым, впоследствии известным художником-керамистом, отправляется на строительство Волжской электростанции – «узнать жизнь». Побег из дома закончился в Москве, где дядя Исаак урезонил добравшихся до столицы на электричках «зайцами» юношей и отправил домой. В Ленинграде Леонид переводится на историко-филологический факультет, сдав все экзамены за первый семестр. На первом курсе филфака Аронзон знакомится с Ритой Моисеевной Пуришинской (1935–1983). После стремительного романа летом 1958 года молодые студенты в день рождения Риты, 26 ноября, втайне от родителей зарегистрировали брак. Свадьбу отмечали уже в начале 1959 года. В Рите Аронзон обрел свою музу: человек щедро одаренный жизненно и эстетически, она умела разглядеть неординарность в окружающих, почувствовать подлинное в искусстве, по достоинству оценить независимость в жизни и взглядах. Рита стала вдохновителем и героиней лирики Аронзона; ее исключительный жизненный талант, чувство естественности, врожденные благородство и такт, артистизм, музыкальность оказались созвучны ему; ей было свойственно безукоризненно точное чутье к прекрасному. Леонид и Рита первоначально вынуждены были жить с его родителями, но богемная обстановка не способствовала гармоническим отношениям двух поколений: «непрекращающийся поток молодых людей <..> музыка, громкие разговоры, записи на магнитофоне продолжались нередко и ночью» [Аронзон В. 2011: 223]. Аронзон и Рита переселились в снятую для них комнату в доме на Зверинской ул., 33. Они оказались на иждивении родителей, тем более что Рита была больна: у нее был комбинированный порок сердца, приобретенный в годы блокады Ленинграда. Материальное положение тяготило Леонида, и он перевелся на заочное отделение.
Вместе с Аронзоном учился поэт Леонид Ентин, способствовавший расширению литературных связей поэта: благодаря Ентину Аронзон познакомился с Алексеем Хвостенко и Анри Волохонским, во многом определившими становление его эстетических предпочтений. Спустя несколько лет дух художественного поиска и абсурдизма, воплощенный в плодах коллективного творчества содружества «Верпа», образовал один из полюсов творческого кредо Аронзона (хотя к этому кругу Аронзон не принадлежал).
К рубежу 1950–1960-х относится знакомство и дружеское общение Аронзона с Иосифом Бродским: этому способствовал ближайший друг Аронзона Александр Альтшулер, учившийся в Технологическом институте и общавшийся с поэтами-«технологами» Дмитрием Бобышевым, Анатолием Найманом, Евгением Рейном. При посредничестве Бродского Аронзон в 1960 году с целью заработка устроился рабочим в геологическую экспедицию на Дальний Восток, откуда был срочно возвращен вследствие заражения крови и начавшейся саркомы. Только вмешательство матери – опытного врача – спасло тогда Аронзону жизнь, но он стал инвалидом, вынужденным время от времени проходить профилактику в больнице; осталась хромота. Наверное, во многом это предопределило последующую жизнь Аронзона и внесло начальные поправки в его мироощущение. Позже поэт Александр Миронов, еще совсем молодым общавшийся с Аронзоном, высказывал предположение, что пережитая тогда близость смерти обусловила уникальность поэтического сознания автора[10]. Инвалидность и хромота иронически или остраненно осмысляются и в стихах[11], и в рисунках Аронзона. Но именно они позволили Аронзону, не работая, избежать преследований за тунеядство (как было позже в случае Хвостенко и Бродского). Пока же со съемной квартиры на ул. Зверинской пришлось съехать: Леониду требовалось постоянное наблюдение врача, и они с женой возвращаются на ул. Советскую.
Литературная атмосфера Ленинграда самого начала 1960-х кажется вполне благоприятной и для свободного творчества, и для взаимодействия молодых поэтов. При дворцах культуры организовывались так называемые ЛИТО, где под руководством, как правило, доброжелательного поэта-наставника молодые люди должны были развиваться, хотя это и не происходило бесконтрольно[12]. Известна история турнира поэтов, состоявшегося в феврале 1960 года в Малом зале ДК им. Горького: чтение происходило без предварительной цензуры, принимать участие мог каждый желающий. Судя по всему, Аронзон в этом мероприятии участия не принимал. По результатам турнира лучшими были признаны Глеб Горбовский, Виктор Соснора и Александр Кушнер, из-за чего жюри во главе с Натальей Грудининой получило служебные взыскания за проявление инициативы в формате конкурса, а Бродскому и Александру Мореву было запрещено публично читать стихи[13]. Вместе с тем в Ленинграде негласно приветствовалась другая инициатива – чтения поэтов в кафе, явное свидетельство хрущевской оттепели, когда поэтическое слово получило возможность звучать в относительно неформальной обстановке, тем более что атмосфера кафетерия вносила привкус чего-то богемного – то ли на западный манер, то ли на манер легендарного кабаре «Бродячая собака»[14]. Так, известно, что Аронзон со своими молодыми друзьями некоторое время практиковал чтения в «Кафе поэтов» на Полтавской улице, выступал по приглашению студентов разных вузов. Вот каким запомнилось чтение в кафе на Полтавской Евгению Звягину, впервые увидевшему Аронзона среди других поэтов:
На свободную площадку рядом с огромной бело-синей китайской вазой вышел спортивно сложенный, коротко стриженный человек лет двадцати пяти и сказал: «Я прочту поэму „Прогулка“». И вот, сквозь звякание ножей и вилок, в желтом свете вечерних ламп, в колыхании грязноватого тюля оконных занавесок, скрывающих глухой питерский вечер, раздался голос поэта, как бы ансамбль старинной музыки зазвучал, и звучание это было полным и мелодичным [Звягин 2011: 199][15].
Из-за болезни Аронзон институт закончил позже и в 1963 году защитил диплом по творчеству Николая Заболоцкого[16]. Молодежь эпохи оттепели активно осваивала опыт Серебряного века и раннесоветского авангарда, стремясь восстановить связь с культурой прошлого, не искореженной безликим и обезличивающим официозом. Эпиграфы к ранним стихам Аронзона говорят о его внимании к поэзии Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой, след влияния на этих текстах вполне заметен. Известно, что Аронзону был подарен первый в России посмертный сборник Цветаевой[17]; в домашней библиотеке долго хранился первый посмертный сборник Бориса Пастернака, были разрозненные тома из собрания произведений Велимира Хлебникова под редакцией Юрия Тынянова и Николая Степанова[18]. Кроме того, не следует забывать, что на рубеже 1950–1960-х годов у букинистов можно было найти первоиздания поэтов Серебряного века, а крупные библиотеки еще не убрали все «проблематичные» книги в спецхран.
В мае 1962 года, благодаря участию кузины матери, бывшей тогда заведующей кафедрой педагогики Ташкентского педагогического института, в газете «Комсомолец Узбекистана» было опубликовано стихотворение «Кран» – единственное «взрослое» произведение поэта, увидевшее свет в легальной печати[19]. Далее были лишь две публикации в самиздате – в машинописных альманахах «Сирена» (1962) и «Fioretti» (1965). Больше публикаций при жизни не было. Поэт остро переживал отсутствие широкого читателя; известны факты его безуспешного обращения к Константину Симонову и Илье Эренбургу с целью найти в их лице своего рода покровителей, без прямого участия которых в то время вхождение в официальную литературу было почти невозможно.
В 1963 году Леонид и Рита переехали от родителей в комнату дома на Владимирском проспекте, 11/20, известного как «дом Достоевского». Близкое соседство со зданием, где в период нэпа располагалось игорное заведение, и мифологическое восприятие «фантастичности» и топики этого дома позднее отразились в поэме «Прогулка» (№ 269) и в повести «Ассигнация» (№ 288–289).
Аронзон не сразу отказывается от публичных выступлений, еще возможных в период поздней оттепели и последующего времени: видимо, он довольно активно участвовал в различных чтениях в кафе, ЛИТО и студенческих клубах до 1967–68 года, что, однако, тоже не стало «входным билетом» в официальный литературный мир. Так, совместное выступление Аронзона с Владимиром Эрлем было клеветнически карикатуризировано в фельетоне «Когда Аполлон нетребователен. Киносценарий с натуры», опубликованном в газете «Смена» за 15.02.1965 за подписью «Б. Бельтюков». Помимо приведенного выше впечатления Е. Звягина о чтении в «Кафе поэтов», стоит упомянуть и о других: для совместного выступления в педиатрический институт были приглашены Аронзон, Хвостенко и Эрль; там поэтов «развлекали» демонстрацией человеческих органов. В коридоре морга, проходя мимо цинковых ящиков, Хвостенко приподнял крышку одного из них и с содроганием увидел лежащий в нем лицом вниз обнаженный труп стриженного под ноль мужчины с пулевым отверстием в затылке (Т. 2. С. 251)[20].
Сохранились короткие свидетельства о чтении Аронзоном стихов в ЛИТО Союза писателей в ноябре 1966 года, где присутствовали Бродский, Эрль, Василий Бетаки, Виктор Кривулин, Сергей Стратановский. Известно также о выступлении Аронзона совместно с Андреем Гайворонским[21], Михаилом Юппом, Тамарой Буковской, Владимиром Эрлем в Студенческом клубе ЛГПИ им. Герцена (его следует отнести, вероятно, к 1965 или 1966 году). Борис Иванов свидетельствует, что зимой 1969/70 года Давид Дар устроил совместное чтение Аронзона и Виктора Ширали[22] в районной библиотеке Смольнинского района Ленинграда. Поскольку никакого оповещения не было, слушатели приходили по личным приглашениям. Мемуарист считает это последним публичным выступлением поэта.
Читал он тихо, отстраненно. Главным лицом чувствовал себя Виктор Ширали, который в то время часто встречался с Аронзоном и воспринял уроки любовной лирики мэтра [Иванов 2011: 234].
Можно предположить, что на участие в этих чтениях Аронзон согласился, чтобы поддержать молодого поэта, с которым приятельствовал.
Не исключено, что одна из причин вынужденного «изгнания домой» (отчасти форма внутренней эмиграции) – злополучная статья «Окололитературный трутень», направленная главным образом против Бродского. Статья появилась в газете «Вечерний Ленинград» 29 ноября 1963 года, и в ней был упомянут Аронзон, причем в уничижительной манере: «…некий Аронзон перепечатывает их <стихи Бродского. – П. К.> на своей пишущей машинке»[23]. Если это и имело место, то явно раньше, в период дружбы с Бродским, до 1962 года. Известно письмо Бродского главному редактору газеты, где, помимо многочисленных опровержений, которыми оклеветанный старается выгородить вовлеченных в скандал пасквилем людей, сказано: «Леонид Аронзон – больной человек, из двенадцати месяцев в году более восьми проводящий в больнице» [Гордин 2010: 40].
В феврале 1964 года происходит беспрецедентный на тот момент суд над Бродским[24]. Доподлинно не известно, как реагировал Аронзон на эти карательные меры[25], но важно другое: его связь с будущим нобелевским лауреатом, не став прочной дружбой, почти прервалась еще до государственного давления на Бродского; правда, разные источники сообщают о нескольких встречах поэтов уже во второй половине 1960-х, когда Бродский вернулся из ссылки. Связь с ним осталась запечатленной Аронзоном в посвящении «Серебряный фонарик, о цветок…» (1961); сохранилось несколько магнитофонных записей с чтением Бродского, сделанных Аронзоном у себя дома. Ставшая почти общим местом практика сравнения Аронзона с Бродским – сравнения, порой доводящего до крайних и несправедливых оценок и выводов, основанных на пристрастии[26], – имеет под собой тем не менее серьезную основу. Складывавшиеся вокруг Бродского обстоятельства почти диктовали молодому поэту определенный тип поведения; Аронзона ничто отчетливо не подталкивало к тем или иным решительным действиям, но все равно заставило сделать свой выбор – предпочесть самоизоляцию, окружив себя ограниченным кругом единомышленников, которым с течением времени предстояло стать адресатами и персонажами его стихов. Писатель и теоретик неподцензурных процессов в литературе предложил следующий вариант оценки создававшейся расстановки сил к середине 1960-х:
Теперь становится ясным, как правильно поступил Бродский, что не замкнулся в своем кругу (который, впоследствии расширившись, получил наименования «второй культуры», андеграунда, подпольной, неофициальной литературы), как это сделал также несомненно очень талантливый Леонид Аронзон, застрелившийся в 1970-м, да и многие из последующего поэтического поколения. Он репрезентировал намного более широкое пространство и не ошибся, получив то, на что рассчитывал [Берг 1996].
Неожиданную аналогию ситуации Аронзона можно найти в той трактовке творческого развития Л. Толстого, которую предлагает Б. Эйхенбаум: готовясь к созданию будущего романа «Война и мир», «сопротивляясь современности», Толстой «всё решительнее и сознательнее» выдвигает «домашнего человека» «против человека исторического, общественного» [Эйхенбаум 2009: 466]. Разумеется, ситуация Аронзона была исключительно иной, как и цель такого ухода – сделаться незаметным, чуждым любой социальной ангажированности. Слова С. Довлатова о Бродском, что тот «жил не в пролетарском государстве, а в монастыре собственного духа» [Довлатов 1995: 23], вполне могут быть отнесены к Аронзону. Комментируя свидетельство Довлатова, современный антрополог А. Юрчак интерпретирует карательные меры государства в отношении Бродского:
Невовлеченность Бродского в смысл авторитетных высказываний была настолько очевидной, что государство в конце концов осудило его за «тунеядство» – официальный синоним этой невовлеченности [Юрчак 2014: 256].
Видимо, исследователь отнес бы случай Аронзона к той или иной категории ухода от «политической составляющей жизни», тогда как во «вненаходимости» он видит «особые отношения с системой, которые были видом именно политических отношений <..> подрывом смысловой ткани системы» [Там же: 564].
Особенность макабрического рисунка Аронзона (ил. 1.) не столько в том, что здесь «высмеивается» советская реальность, сколько в том, откуда направляется взгляд невовлеченного в регулярность социального энтузиазма, а сам смотрящий пытается «осилить» «молчание страшного мира» с его неподвижностью и разобщенностью и находит для этого особую позицию – вненаходимости, отрешенности, благодаря которой обнаруживает в себе состояния интенсивной жизни и глубокого обмирания.
Расхождения с Бродским, наметившиеся после 1961 года, имели и более глубокий, поэтологический характер. В своих стихах, начиная уже с раннего периода, Аронзон всячески избегал дидактического измерения, превращая высказывание в игру или медитацию. Такой подход, далекий от культивируемого в советской литературе принципа прямого высказывания, делал Аронзона чужим общей ситуации, асоциальным. Приведу обезоруживающее своей прямотой и ясностью суждение друга и исследователя Аронзона Владимира Эрля:
Для Бродского было важно сказать что. Конечно, довести это до виртуозной формы, но все-таки – что. Для нас же было главное как сказать. В этом смысле подход у Бродского, условно говоря, европейский и упертый, а для Аронзона и меня ближе было восточное мировоззрение – точнее, дальневосточное (Индия, Япония, Китай). В восточной поэтике есть термин «чхая», который означает недосказанность… [Эрль 2011: 101]
В дневнике Риты Пуришинской запечатлен также – видимо, в обработанном варианте – характерный спор двух поэтов, произошедший в 1966 году:
Бродский: Стихи должны исправлять поступки людей.
Аронзон: Нет, они должны в грации стиха передавать грацию мира, безотносительно к поступкам людей.
Бродский: Ты атеист.
Аронзон: Ты примитивно понимаешь Бога. Бог совершил только один поступок – создал мир. Это творчество. И только творчество дает нам диалог с Богом.
[Цит. по: Степанов А. И. 2010: 14][27]
После дела Бродского гораздо бо́льшим и оставившим глубокий след в творчестве потрясением для Аронзона стало дело Владимира Швейгольца, с которым поэт дружил. Весной 1965 года Швейгольц убил свою подругу и совершил попытку самоубийства, и после полтора года тянувшегося следствия состоялся суд (осень 1966-го). В качестве свидетелей на допросы вызывали многих знакомых подследственного (среди которых были Леон Богданов, Юрий Гале́цкий, Элла Липпа), в том числе Аронзона. В «Отдельной книге» (1966–1967, № 294) он пишет:
Забавно, что когда нас всех допрашивали по поводу несчастного убийства, все в один голос показывали, что жена моя не только что без упреков, но и вообще изумительная.
Следствию знать это было нужно для того, чтобы выявить причастность каждого и всех разом (Т. 2. С. 105).
Иллюстрация 1
Установить подлинную картину этого страшного события не представляется возможным, но ленинградская художественная среда отреагировала на нее по-разному и неоднозначно: наряду с явно осудительно-брезгливым стихотворением Бродского «Здесь жил Швейгольц, зарезавший свою…» (1969), философско-психологическая реставрация события была предпринята Борисом Ивановым в повести «Подонок» (1968). В интервью, данном Кривулиным Станиславу Савицкому для будущей книги об андеграундной культуре, убийство представлено совершенным «по взаимному согласию как акт религиозной жертвы – ради обретения убитой блаженства в другом мире» [Савицкий 2002: 27–28][28]. Для Аронзона, судя по всему, это событие стало в чем-то поворотным; склонный видеть в произошедшем не сугубо уголовное дело, а нечто безвыходное в духовных поисках, приводящих к необратимым последствиям, Аронзон многократно в прозе и пьесах обращается к мотивам невиновности в совершенном убийстве – в поисках необъективных, персональных и эстетических причин страшного события. Вот еще цитата из «Отдельной книги» (1966, 1967; № 294):
Суд не был в замешательстве – кого судить? потому что у суда мало времени и совсем нет его на решение литературно-психологических проблем. Убил Ильин <так автор называет Швейгольца. – П. К.>, но ведь перед тем была длинная предыстория, в которой с ним произошла метаморфоза, и он уже от себя отделился и вряд ли, может быть, помнил, что он – Ильин, а не ***, потому что все его жесты, манеры были теперь точь-в-точь как у того[29], не говоря уже о мыслях и помыслах, так что судить, возможно, следовало и не этого, а если и этого, то перед тем задуматься. Да и как можно судить, когда всё рассматривается с точки зрения. А точек можно наставить сколько угодно. Точка – это концентрация тьмы. Мелочь (Т. 2. С. 106).
В начале 1965 года Аронзон сближается с Эрлем и группой поэтов с Малой Садовой. Тесные творческие и человеческие контакты с Эрлем и будущими Хеленуктами (Дмитрием Макриновым, Александром Мироновым, а также с Тамарой Буковской, Андреем Гайворонским) продолжались два года и были прерваны самим Аронзоном. Будучи старше всех «малосадовцев», Аронзон держал себя с ними на равных[30]. Из круга поэтов Малой Садовой рядом с Аронзоном остался только Роман Белоусов, за которым закрепилось звание единственного «ученика Аронзона»[31]. Несмотря на ссору и болезненный для обоих разрыв, Эрль после гибели Аронзона помогал Рите с первыми публикациями и произвел копирование всего творческого наследия поэта со всей текстологической подготовкой; ему же принадлежит полная библиография произведений Аронзона по 2006 год [Döring/Kukuj 2008: 505–534][32].
Как свидетельствует Татьяна Никольская, Аронзон как-то сказал ей: «Нас всех сплотила неудача» [Никольская 2002: 277]. В передаче мемуаристки подразумевалось, что публичные выступления для поэтов этого круга были исключены из практики и это привело к занятию творчеством как «домашним делом» [Там же]. Видимо, Аронзон остро чувствовал, что эпоха публичности заканчивается и наступает иное состояние, требующее от неофициального литератора выстраивания определенной позиции в складывающейся расстановке сил. Пришло время, после которого, как показывает история, уже сложились основные группы тогдашнего неподцензурного Ленинграда. Однако вместо позиционирования себя в гетерогенном ландшафте неофициальной литературной сцены Аронзон выбирает уход в сугубо личный мир своего домашнего круга и еще глубже – в творчество, где никакие внешние обстоятельства не мешали сосредоточенной беседе с постоянными лицами (вернее, их образами).
Во многом ограниченность общения узким кругом лиц была сознательной, сродни своеобразному подполью – разумеется, без какой-либо политической коннотации. Вот свидетельство самого Аронзона из его прозы:
Круг наших общений со временем сужался, потому что нам незачем было интересоваться внешней жизнью, которая всегда сводилась к выяснению каких бы то ни было взаимоотношений. Некоторое время с людьми нас связывали (и это сохранилось до сих пор) утилитарные запросы нашего интеллекта и культуры, но жена моя была больна, и здоровье ее ухудшалось, так что мы приучались удовлетворять свою духовную цивилизацию только теми вариантами, которыми общая цивилизация обставляла одинокое существование современного человека (1966. № (294). Т. 2. С. 212–213).
Жизнь Леонида и Риты была бы безмятежна, если бы не ее смертельно опасная болезнь. Несмотря на инвалидность и помощь родителей с обеих сторон, супруги искали самостоятельности, в том числе и материальной. Дабы как-то свести концы с концами – поправить безденежье, не быть безработным, – Аронзон работает учителем русского языка и литературы в вечерних школах, короткое время подрабатывает даже на мыловаренном заводе, ходит по редакциям; в один из летних сезонов он с приятелем Ю. Сорокиным, художником и поэтом, пробовал заработать в качестве фотографа в Крыму. С 1966 года Аронзон стал внештатным сценаристом на студии «Леннаучфильм» – это было хорошее средство заработать, хотя и не регулярно, немалые деньги, чтобы чувствовать себя независимым (к такому способу заработка прибегали многие представители неподцензурной литературы, в частности Рейн и Бродский); главный редактор студии Валерий Суслов охотно предоставлял многим неподцензурным литераторам возможность поправить свои финансовые дела[33]. Работа на киностудии не принуждала к присутствию по месту службы и давала много свободного времени, что позволяло Аронзону вести во многом богемный образ жизни, недоступный для большинства советских граждан, вынужденных рано утром идти на работу к строго определенному часу.
Ситуация с жильем тоже решилась: сменив несколько адресов, в результате сложного обмена в 1967 году Леонид и Рита поселились на углу улицы Воинова (до 1918-го и после 1991 года ул. Шпалерная, д. 22/2) и Литейного проспекта, в здании с парадной ровно напротив угла «Большого дома», монументального здания управления КГБ Ленинграда, воздвигнутого в начале 1930-х. Ближайшее соседство с этим зловещим местом можно воспринимать как «черный юмор» судьбы. Хотя Аронзон, насколько можно судить, был далек от политики и всего того, что волновало многих его сверстников, его также коснулось пристальное внимание власти, помимо допросов в качестве свидетеля по делу Швейгольца: во второй половине 1967 года в доме Аронзона был обыск, официальной причиной которого были названы наркотики, но, скорее всего, он был связан с делом Гинзбурга – Галанскова[34] (или «процесса четырех», в том числе А. Добровольского и В. Лашковой): у Галанскова были изъяты стихи Аронзона, якобы предполагавшиеся для очередного издания журнала «Феникс» [Аронзон В. 2011: 236]. По случаю этого обыска поэт записывает в блокнот: «Запрятал в косточку от вишни – не нашли! / Там не ройтесь, я там уже вчера смотрел» [Döring/Kukuj 2008: 327]. Из дневника Р. Пуришинской известно, что в начале декабря 1967 года Аронзона вызывали по повестке на Литейный, 6, где «спрашивали про наркоманов, стихи и т. д.»[35].
И все же это была первая отдельная квартира в жизни поэта, в которой он живет вместе с Ритой и ее родителями до конца жизни. Именно здесь наконец складывается круг постоянного общения Леонида и Риты – круг весьма узкий и в известном смысле закрытый. Его участники были близки в жизненных установках и эстетических пристрастиях – много читали вслух, в том числе произведения собственного сочинения, слушали музыку, вместе ходили в кино. Беседа была излюбленной формой совместного времяпрепровождения, что нашло отражение в творчестве Аронзона (см. вариант драматического стихотворения «Беседа», 1967, – «Парк длиною в беседу о русской поэзии…», № (75); «Запись бесед», 1969, № 169–174).
При этом нельзя сказать, чтобы Аронзон жил отрешенной жизнью эстета, исповедующего эскапизм[36]: он прекрасно понимал, какая обстановка его окружает (вполне вероятно, тут не обошлось, в том числе, без разговоров с дядей Михаилом). В 1969 или 1970 году он создает стихотворение «Отражая в Иордане…» (№ 135), которое можно воспринимать как реакцию на внешнюю политику СССР в отношении арабо-израильского конфликта, а еще раньше, в 1965 году, предложил Эрлю:
Володя, ведь понятно, что нам ничего не светит. Пока все это делается <имея в виду советскую систему, – поясняет мемуарист>, нам все равно не удастся ни напечататься, ни жить по-человечески. Давай напишем коллективное письмо: пускай нас расстреляют к чертовой матери. Все равно мы будем внутренними врагами до конца своих дней [Эрль 2011: 103][37].
Аронзону были чужды как советская общественная жизнь, так и деятельное противостояние системе. Об этом по-разному говорили почти все писавшие об Аронзоне. Так, Степанов в начале своего исследования справедливо утверждает:
Если магистральному пути поэзии 1960-х была присуща социальная острота и рациональная ясность, то Аронзон избрал свой, с годами все более непохожий на другие маршрут <..> Вне зависимости от объектов непосредственного изображения в центре <его> внимания находятся состояния не реального мира, а мира собственного сознания… [Степанов А. И. 2010: 13–14]
Однако вряд ли можно до конца согласиться с мнением Ж. Сизовой, будто, сопротивляясь обыденному сознанию, поэт избирает «чувство красоты как некий эстетический императив» [Сизова 2018: 94][38]. Думается, что эта теория страдает изначально неверно установленным вектором: поэт Аронзон не ставил перед собой задачи сопротивляться чему-либо, в этом смысле он уходит от экзистенциальной остроты, как бы устраняя противоречие между «сущностью» и «существованием»/«экзистенцией»[39]. Здесь уместно привести еще одно высказывание исследователя – на этот раз И. Кукуя:
Высочайшей поэтической заслугой Аронзона представляется <..> то, что он оставил пространство творчества свободным как от отпечатков взаимоотношений, так и – за редкими исключениями – от своих кошмаров [Кукуй 2008: 29–30].
Можно сказать, что, сосредоточенный на создании в творческом акте своеобразной полноты, Аронзон сторонился выражения чего-либо отрицательного, неприязненного; исключением из общего контекста его поэтических произведений является стихотворение «Как часто, Боже, ученик…» (1968, № 323), в котором резко изобличается неблагодарность вчерашнего ученика и друга. Стремлению к поэтической и жизненной полноте для Аронзона способствовала атмосфера любви и дружбы.
С 1966 года и до конца короткой жизни Аронзона продолжалось его интенсивное общение с художником-абстракционистом Евгением Михновым-Войтенко: Михнов стал для Аронзона, как и Альтшулер, ближайшим другом и собеседником, героем его произведений. Приблизительно тогда же в круг Аронзона вовлекается художник Юрий Гале́цкий, в 1960-е принимавший участие в литературных проектах Хвостенко и его круга «Верпа». В доме Аронзонов частыми гостями бывали поэты Юрий Сорокин, Олег Григорьев, Виктор Кривулин, Виктор Ширали, Роман Белоусов, художник и писатель Леон Богданов, режиссер и теоретик театра Борис Понизовский, друзья по институту Лариса Хайкина, Юрий Шмерлинг, Игорь Мельц, кинорежиссер Феликс Якубсон…
К концу 1960-х годов в душе поэта начал назревать разлад. В записных книжках встречается все больше записей о безвыходности, в стихах все отчетливей проступают контуры другого мира, в который устремлен его персонаж. Одна из навязчивых идей этого времени – забытье, тщетность всего земного. В записной книжке за 1968 год есть запись: «Стоит кому-то отличиться мыслью, как начинается ее эпидемия, а я хочу, чтобы меня забыли» [Döring/Kukuj 2008: 384][40]. По воспоминаниям близких, усиливалась депрессия.
Круг друзей и единомышленников не решал основной проблемы Аронзона: остро ощущавшейся поэтической невостребованности. Отсутствие возможности свободного высказывания при сознании ценности создаваемого болезненно отражалось на общем психологическом состоянии:
Условия страны лишали меня оплаты за то, чем я удовлетворял свою потребность трудиться, и вынуждали заниматься промыслом, который был мне отвратителен («Сегодня был такой день…», № (294). Т. 2. С. 213).
По свидетельству брата, Аронзон не раз повторял: «…признание имеет значение» [Аронзон В. 2011: 227]. Схожим образом ситуацию post-factum, уже в 1979 году, оценивала Пуришинская: «Стихи его при жизни не печатали никогда. Настроение было плохое»[41]. По настоянию жены в 1969 году Аронзон проходит курс лечения от депрессии. Осенью следующего года он признается брату, что очень тяготится работой на киностудии:
Л<еонид> сказал, что писание сценариев не его дело, а его дело – это стихи, но два дела одновременно хорошо делать не может, должно быть либо то, либо другое [Аронзон В. 2011: 227].
Тревожностью особенно проникнут последний год жизни Аронзона: ему все теснее становилось в сложившихся рамках быта, не подразумевавших осуществления как поэта… Об этой тревоге свидетельствуют письма Риты тех дней, адресованные к ее подруге Ларисе (опубликованы в 2019-м)[42].
В ноябре 1970 года, несмотря на запланированную совместно с Альтшулером поездку, Аронзон выехал в Узбекистан один; вслед за ним отправились жена и друг. Трагедия произошла ночью с 12 на 13 октября в горах под Газалкентом: Альтшулер нашел друга раненным в живот, рядом валялось ружье. В больнице не было достаточных возможностей для оказания необходимой помощи потерявшему много крови. Когда в Узбекистан приехала мать Аронзона Анна Ефимовна, Леонида уже не было в живых. Его похоронили на кладбище Памяти жертв 9 января в Ленинграде. Впоследствии на могиле было воздвигнуто надгробие работы скульптора Константина Симуна. Официальная версия – самоубийство – была принята матерью Аронзона и Ритой, чтобы снять абсурдные подозрения в адрес Альтшулера. Многие младшие современники, согласившись с таким вариантом кончины, стали строить миф о поэте на шатком фундаменте предположений. Часть лично знавших погибшего отвергала версию самоубийства, отнесясь к событию как к несчастному случаю: уж слишком любил Аронзон жизнь, слишком нелеп был способ уйти из жизни, выстрелив себе дробью в живот…[43]
Можно предполагать, что если не смерть, то весь образ жизни и способ поэтической самореализации явились экзистенциально осознанным выбором Аронзона. В схожем русле формировалась «метафизическая» (по определению Кривулина – «спиритуальная» [Кривулин 2000]) направленность ленинградской поэзии последующей эпохи. В. Кривулину слышится в стихах Аронзона слабый осенний шорох, перерастающий в органное звучание потаенной музыки смыслов, недоступной обыденному сознанию, но открывающейся как психоделическое озарение, как пространство продуктивных повторов и постоянных возвращений к уже сказанному – чтобы снова и снова обозначать новые уровни метафизического познания того, что на языке современной философии именуется отношением Бытия к Ничто [Кривулин 1998: 155].
В интервью, данном В. Полухиной, Кривулин так определяет путь формирования своей поэтики, которую расценивает близкой поэтике Аронзона:
Существование на границе бытия и небытия, «я» и не-«я», это есть и у Бродского, но чего, на мой взгляд, нет у него – стремления к анонимности, растворения «я» в «другом». А меня интересует именно эта анонимность [Кривулин 1997: 178].
Борис Иванов так представил значение фигуры Аронзона для последующей ленинградской поэзии:
Благодаря его творчеству поэзия семидесятников не остановилась ни на тривиальности контркультурных демаршей, ни на плоскостных сексуальных переживаниях. Высокий строй его поэзии стал введением в культуру плоти. Аронзон чувствовал себя среди поэтов-сверстников «запоздавшим», а ушел из жизни как провозвестник нового культурного проекта. Этим объясняется скептическое отношение к его творчеству «шестидесятников» (в том числе Бродского) и его культ у «семидесятников» [Иванов 2011: 239].
Литературовед, публикатор наследия Льва Пумпянского, а в 1960-е поэт круга Малой Садовой и историограф этого движения Николай Николаев запомнил высказанную Аронзоном в разговоре о славе мысль: «…хотел бы добиться славы, а потом уйти в неизвестность…» [цит. по: Аронзон 2006: I, 16]. Судьба распорядилась иначе: из почти полной неизвестности при жизни творчество поэта на протяжении пятидесяти с лишним лет после 1970 года постепенно обретает своего читателя.
1.2. «Пойдет кино про Аронзона»[44]: наследие поэта на пути к читателю
Ярким свидетельством роли Аронзона в становлении ленинградской «второй культуры» является история освоения и публикации его наследия. Этот процесс начался уже в первые годы после его смерти: активизировавшийся к середине 1970-х годов литературный самиздат города большое внимание уделял публикациям поэтов, которые ушли из жизни, так и не дождавшись заслуженного прочтения, – в первую очередь Роальда Мандельштама (1932–1961) и Аронзона. Не случайно их стихотворениями должна была открываться литературная антология «Лепта», состоявшая из произведений тридцати двух неофициальных авторов и поданная составителями в 1975 году к публикации в секретариат Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР[45]. Творческое наследие Роальда Мандельштама и Аронзона, только вводимое в обиход, представляло собой после смерти авторов законченное целое и требовало выработки подхода как к текстам, так и к судьбам поэтов.
Первые «независимые» посмертные публикации Аронзона, дающие более или менее обширное представление о его творчестве, появились в 1974 и 1975 годах благодаря усилиям и энтузиазму «рыцаря ленинградской поэзии»[46] Константина Кузьминского в его антологиях «Живое зеркало» и «Лепрозорий–23», в чем ему оказывали содействие вдова поэта Пуришинская, а также поэт и текстолог Эрль – составители подборки Аронзона в «Лепте». 18 октября 1975 года, когда Кузьминского уже не было в СССР (он эмигрировал летом 1975-го), в ленинградском Политехническом институте прошел вечер памяти Аронзона, дневниковые записи Юлии Вознесенской о котором станут впоследствии предварением блока, посвященного поэту в томе 4А антологии «У Голубой Лагуны»[47]. В 1977 году появились публикации Аронзона в недавно созданных самиздатских журналах «Часы» (№ 7) и «37» (№ 12). Творчество поэта, присутствовавшего до тех пор в пространстве ленинградской неофициальной культуры скорее в качестве мифологемы[48], начало путь к читателю – пока в рамках сам- и тамиздата[49]. В официальной печати в тот же период, кроме нескольких стихотворений для детей, была опубликована лишь небольшая подборка стихов Аронзона в журнале «Студенческий меридиан» (1976, № 4), сопровожденная немногословными сведениями об авторе.
В 1979 году в приложении к журналу «Часы» вышло «Избранное» поэта, составленное Еленой Шварц и впоследствии ставшее основой для первой типографской книги Аронзона, выпущенной в Израиле [Аронзон 1985], а затем с небольшими изменениями напечатанной в России (СПб.: Камера хранения, 1994). Важное место в библиографии поэта занимает публикация его текстов в антологии «У Голубой Лагуны», составленная и прокомментированная Кузьминским [Кузьминский 1983б: 84–131][50]. В 1985 году в приложении к журналу «Часы» вышел большой самиздатский том «Памяти Леонида Аронзона (1939–1970–1985)», составленный Эрлем и Степановым и на тот момент являвшийся самым обширным изданием поэта. В 1990 году стараниями Эрля в издательстве Ленинградского комитета литераторов был опубликован первый официальный сборник стихотворений Аронзона, а в 1998-м в издательстве Gnosis Press вышло избранное поэта «Смерть бабочки» с параллельными переводами на английский язык, выполненными Ричардом Маккейном (сост. Виктория Андреева и Аркадий Ровнер).
В годы перестройки сочинения Аронзона публиковались во множестве газет, журналов, альманахов, антологий[51]; появлялись различные исследования его поэтики, высказывания о нем. В 2006 году усилиями В. Эрля, И. Кукуя и П. Казарновского было выпущено собрание произведений поэта в двух томах (Издательство Ивана Лимбаха, СПб.; переиздано в 2017 и 2024 годах; далее как Собрание произведений). В 2011 году вышла книга детских стихотворений поэта «Кому что снится и другие интересные случаи» (М.: ОГИ; иллюстрации Анны Флоренской). В последующие годы прошло несколько конференций, где поэзия Аронзона обсуждалась наряду с крупными явлениями 1950–1980-х (например, проведенная в 2020 году под эгидой РГГУ международная конференция «Восемь великих: Айги, Алексеев, Аронзон, Бродский, Некрасов, Сапгир, Соснора, Холин»[52]). Причисление Аронзона к числу великих не кажется преувеличением, как и на первый взгляд нескромные слова вдовы поэта, переданные Ирэной Орловой: «В русской поэзии есть Пушкин и Аронзон»[53].
Осмысление творчества Аронзона происходило параллельно с публикацией его произведений. На первом вечере памяти поэта в Политехническом институте 18 октября 1975 года. Поэт Олег Охапкин предложил рассматривать творчество Аронзона как начало «бронзового» века русской поэзии, «который является „продолжением“ „серебряного“ века» [Вечер памяти 1975: 38], а Кривулин охарактеризовал его «поэтом-в-жизни, т. е. необычайно артистичным, необычайно острым человеком», и отметил существенную черту восприятия Аронзона современниками: «<..> он был окружен мифом, мифом, в котором поэзия была центром, но центром скрытым» [Там же: 41]. В том же выступлении Кривулин высказал важные мысли о том, что в поэзии Аронзона, наряду с обэриутским «„распредмечиванием“ мира за счет того, что каждая вещь в стихе до отвращения приближена к глазам читателя, стоит перед вами как данность» [Там же: 42], присутствует движение «каждого стихотворения», «каждой строчки» «к молчанию, растворению» [Вечер памяти 1975: 41]. Этот тезис впоследствии ляжет в основу первопроходческой работы А. Степанова «Главы о поэтике Леонида Аронзона» (1985), до сих пор сохраняющей свою остроту и актуальность в силу поставленных перед «аронзоноведением» задач и ряда ценных наблюдений.
Степанов дает четкую, хотя и не бесспорную, периодизацию творческого развития Аронзона. Первый период, продлившийся примерно до 1964 года, характеризуется «освоением предшествующих литературных традиций» [Степанов А. И. 2010: 15], но и включает в себя предварение дальнейшей эволюции; второй – с 1964 по 1967 год – знаменуется, по мнению исследователя, приходом Аронзона к темам, которые станут основными для всего его творчества: «восхищение красотой, любовь, смерть, природа, Бог, плоть, дружба, одиночество, тишина, отражение» [Там же: 16], окончательно оформляется узнаваемый стиль; в третий, заключительный, период творчества обострились трагические мотивы, традиционное и авангардное сталкиваются решительнее, в словесное искусство проникают методы других видов искусства. Исследователь резонно предполагает, что «начинался новый, четвертый период», черты которого в достаточной мере обозначились определенно, но в силу трагической гибели Аронзона всего в 31 год не успели реализоваться [Там же: 18]. Степанов довольно подробно намечает вписанность поэта в русскую поэтическую традицию (Пушкин, Баратынский, Лермонтов), рассматривает свойственные Аронзону тяготение к диалогу с традицией, к простоте, снижению (профанированию) серьезности и «высокого стиля», к цитатности. В «совмещени<и> и столкновени<и> того, что прежде казалось непреодолимо различным», Степанов справедливо усматривает новаторство Аронзона. В основу центральной для всей работы главы «Особенности художественного слова в поэтике Аронзона» легло рассмотрение таких важнейших для этой системы поэтических концептов, как «молчание» и «время». Глава «Мотив отражения» целиком посвящена этому смыслообразующему принципу поэтики Аронзона: он не только вызывает к жизни такие устойчивые образы, как зеркала, двойники, но и влечет за собой «расщепление реальности» [Там же: 63]. В главе «Эстетическая позиция» рассмотрены экзистенциальные составляющие преимущественно любовной лирики как средоточия жизнечувствования Аронзона: переплетение Эроса земного и Эроса небесного в этой поэзии приводит к нераздельному сплетению высокого и низкого, серьезного и фривольного, трагичного и комичного, когда уже не отличить, не вычленить одного чистого субстрата. Глава «Формы и функции концепта в произведении» посвящена кристаллизации «философичного», «развоплощенного» мира Аронзона; здесь исследователь обращает внимание на роль парадокса, алогизма, иронии, тавтологии в воссоздании поэтом «иррациональных зигзагов» противоречия и конфликтов живой личности с «безличными постулатами разума» [Там же: 80]. Глава «Мифологические и религиозные черты творчества Аронзона» рассматривает присутствие «признаков сакрального, в том числе мифологического, мышления» [Там же: 83]. Для этого автор использует широкий арсенал античной и библейской мифологии: приводя строки не только из произведений поэта, но и из его записных книжек, исследователь деликатно определяет сложность, неортодоксальность отношения Аронзона с Богом, с творением: «Человек испытует глубину небес <..>, переживает свою отъединенность от них и в этой деятельности утверждает себя как творца» [Там же: 88]. Заключительная глава «Существование и небытие» подводит итог всем наблюдениям, сделанным в работе, и суммирует их в новом аспекте – в «фокусе» смерти, о которой поэт размышлял очень много на протяжении всего недолгого творческого и жизненного пути. Степанов, не боясь самоповторов, воспроизводит сквозные положения создаваемого Аронзоном «мифа», имманентно ищет единства творческого и жизненного в таком непростом явлении, как Леонид Аронзон; именно здесь, в финальной части работы, исследователь много места уделяет рассмотрению поэтического и философского (отчасти даже эзотерического) концепта «пустоты», тяготеющего к центру – сердцевине творческого континуума Аронзона.
Если Степанов в основном сосредоточен на имманентном анализе творчества Аронзона, то Борис Иванов в большой статье «Как хорошо в покинутых местах…» [Иванов 2011], помещенной в монографическом сборнике «Петербургская поэзия в лицах» под его общей редакцией, сосредоточен на культурологическом и социальном аспектах и самой поэзии Аронзона, и ее отражений в сознании читателей. Избранный Ивановым метод кажется далеко не всегда оправданным: некоторые его выводы представляются по меньшей мере странными, тенденциозными. Так, критик, – а именно с позиций нравственно-философской публицистики, сформировавшейся в недрах журнала «Часы» во второй половине 1970-х – начале 1980-х годов, автор и высказывает свои суждения, – немало внимания уделяет общим для начала 1960-х веяниям в ленинградской неподцензурной поэзии и утверждает с неизбежной долей обобщения:
Отделив человеческую телесность от социума, он <Аронзон. – П. К.> создал культурное тело оппозиции, с образованием которого высеивались внутри советской социальной ткани инородные клетки, открытые свободным культурным изменениям [Там же: 238].
Разумеется, следует иметь в виду, что Иванов, в силу сложившейся еще в 1970-е годы (если не раньше) традиции, воспринимал любую форму неподцензурности как метод противостояния режиму, а то и борьбы с ним. В нашем случае такой подход кажется слишком односторонним и не учитывающим специфики творческого процесса Аронзона: поэт писал в стол, рассчитывая (отчасти вынужденно, отчасти сознательно) быть понятым только ближайшим окружением, тогда как распространение его текстов – дело его близких и друзей, осуществлявшееся без учета желаний автора. Трудно себе представить автора, отчужденного от широкого читателя и одновременно ставящего цель произвести какие-то изменения в обществе… Часто создается впечатление, что, пытаясь разобраться в феномене Аронзона (не столько поэтическом, сколько социально-культурном), критик злоупотребляет навязыванием миру поэта своих мерок, как будто осуждая игнорирование Аронзоном социально-политических и этических доктрин и мотивов. Вместе с тем в статье Иванова содержится немало интересных наблюдений. Как современник и активный свидетель описываемого времени, он находит весьма убедительное обоснование уходу Аронзона «в природу» – литературным контекстом, создавшимся во второй половине 1950-х – начале 1960-х: публикация произведений Михаила Пришвина, вступление в литературу Юрия Казакова, Рида Грачева, молодые герои которых решительно рвут с городской цивилизацией (в этом ряду упомянут и Сергей Вольф, бывший с Аронзоном в приятельских отношениях). Тяга Аронзона к почти руссоистской естественности, «мировоззренческий сенсуализм», созвучные декларируемым поэтом Александром Кондратовым (тоже знакомым Аронзона) «трем способам сохранить свое „я“ – творчество, секс, наркотики» [Там же: 160], позволили Аронзону, по мнению критика, как мало кому из его поколения, достичь в своем творчестве «той цели, которую поставило перед собой поколение, – чувственной раскрепощенности» [Там же: 220]. Открытие «двойного сознания», разработка «эстетики тождественности», «поэтики изоморфизма», убежден Иванов, способствуют замыканию поэзии Аронзона на «эго-мифе» с главным «другим» – Природой. Именно таким критику предстает замысел поэта – «достичь единства „всё во всем“» [Там же: 195], что в итоге приводит к «редуцированию до голого состояния, в котором мы узнаем <..> музыку без музыки, сонет без слов – все в свернутом виде, названном, но несуществующем» [Там же: 215]. Иванов приходит к выводу, что Аронзон – «поэт, который спустился в подземелье, в котором спят эмбрионы всех человеческих инстинктов, и с ними поднимался, когда они просыпались к дневной жизни» [Там же: 217]. Восхищаясь поэзией Аронзона и отдавая должное его первооткрывательской миссии, Иванов ищет философского (экзистенциалистского) объяснения, как и почему «миф слился с <..> личностью» [Там же: 223], правда в основном игнорируя слова поэта из позднего текста: «…я не люблю таких людей, как я» (1970; № 299; т. 2, с. 121), где довольно отчетливо декларируется освобождение от личного. Большой этюд старейшего деятеля самиздата, бессменного редактора журнала «Часы» сочетает в себе аналитическое и беллетристическое начала, что вызвано очевидной задачей автора – представить Аронзона с его творчеством как закономерное явление нарождавшейся тогда «второй культуры».
Работы Степанова и Иванова – самые большие по объему исследования, непосредственно связанные с Аронзоном. Здесь нельзя также обойти стороной статьи, которые писались с середины 1970-х годов, и выступления на вечерах памяти. Хотя эти тексты грешат ошибками и неточностями, в условиях там- и самиздата вполне объяснимыми, некоторые соображения, в них высказанные, до сих пор кажутся важными и заслуживают внимания. Так, например, в легендарном «Аполлоне–77» Виктория Андреева, отмечая в поэзии Аронзона «большую интенсивность вхождения в себя», говорит о «беспощадном наблюдении границы, где находится сфера нашего „я“, или где наше „я“ становится вторым, третьим» [Андреева 1977: 95][54]. Здесь важно обращение к теме самоидентификации поэтического «я» поэта. Впоследствии Андреева вернется к фигуре Аронзона и выскажет ряд ценных наблюдений[55].
Среди многих статей, написанных о поэзии Аронзона знавшими его лично, следует обратить особое внимание также на труды Д. Авалиани, А. Альтшулера, В. Кривулина, К. Кузьминского, В. Эрля[56]; из последующих свидетельств важно написанное Е. Шварц, Р. Топчиевым, В. Никитиным…[57] Показательно, что в некоторых случаях авторам оказывается тесно в рамках традиционной статьи, и они избирают жанр художественной рефлексии. Такова, например, «Статья об Аронзоне в одном действии» (1981) Елены Шварц[58] – небольшая абсурдистская пьеса с элементами миракля. Особое место в процессе освоения творчества Аронзона заняли стихи, посвященные ему поэтами-современниками и представителями последующих поколений; недаром составители самиздатского тома «Памяти Леонида Аронзона» включили в книгу раздел произведений круга поэта, где, наряду со стихами поэтов, «жизненно и творчески связанных с Аронзоном»[59], – С. Красовицкого, А. Альтшулера, Л. Ентина, В. Хвостенко, В. Эрля, В. Ширали – было напечатано посвященное Аронзону стихотворение Тамары Буковской.
С 1990-х положение изменилось; выход новых изданий поэта повлек за собой довольно большое количество обзорных статей в периодике, а затем и статей исследовательского характера. Так, заметным событием стала статья Владислава Кулакова «В рай допущенный заочно» (1994), вошедшая в книгу «статей о стихах» «Поэзия как факт» [Кулаков 1999]. В кратком, но насыщенном обзоре критик обозначает основные константы поэтического мира Аронзона: смерть, красота, любовь – и предлагает свое прочтение их тесной, «интимной» связанности друг с другом: недаром в статье автор прибегает к оксюморонным выражениям, подводящим близко к двойственному миру поэта: «смертельная красота жизни», «небесная красота земли», «гибельность бытия». Важным наблюдением автора статьи следует назвать неразличимость фундаментальных оппозиций в творчестве поэта, вследствие чего они оказываются обратимыми и снимаются, «растворяясь в красоте». Ценным наблюдением, сделанным Кулаковым, надо признать сопоставление миров Аронзона и его старшего современника Красовицкого – миров друг другу противоположных, как «два зеркальных варианта одного и того же универсума»: оба мира обратимы – от райской красоты к распаду и от распада к красоте.
С начала 1990-х в альманахе «Камера хранения», издававшемся О. Юрьевым и О. Мартыновой, наряду с публикациями ряда значительных поэтов, были напечатаны и стихи Аронзона [Камера хранения 1996: 112–114]. Впоследствии на сайте «Новая камера хранения» был создан раздел, посвященный поэту, куда вошли его тексты, исследования о его творчестве, посвященные ему стихи[60]. В 2019 году вышла антология «Петербургская хрестоматия», над составлением и комментированием которой работал в последние годы жизни поэт О. Юрьев; туда вошло и стихотворение Аронзона «Как хорошо в покинутых местах…». Составитель, несколько утрируя, говорит о творчестве Аронзона, уделяя внимание многим узловым моментам истории освоения его наследия, и мифу о поэте:
…при жизни Аронзон был центром своего рода небольшой секты (не в прямом смысле, ни в коем случае! но иногда было очень похоже на своего рода хлыстовский корабль с Ритой – «богородицей» и Аронзоном верховным жрецом) [Юрьев 2021: 203][61].
В 1990-е – начале 2000-х поэт и критик В. Шубинский создает ряд статей, в которых предлагает свою интерпретацию творчества Аронзона как своего рода продолжения обэриутской традиции[62]. Наблюдения Шубинского всегда глубоки и вместе с тем полемичны, ряд из них будет прокомментирован мной в дальнейшем.
После выхода Собрания произведений журнал «Критическая масса» посвятил творчеству поэта весьма содержательный раздел, открывающийся статьей Д. Давыдова [Давыдов 2006: 52–54], в которой критик говорит об антириторичности многосоставной, многостилевой поэтики Аронзона, где незаметно соединены классическая, авангардная, графоманская стратегии письма; представление критика о методе Аронзона как сокрытом, маскирующем «обнажении приема» выглядит весьма продуктивным. В 2008 году вышел том «Венского славистического альманаха» (Wiener Slawistischer Almanach, Band 62), где были опубликованы неизвестные тексты поэта, в том числе его записные книжки почти в полном объеме, переводы стихов на другие языки, блок статей, посвященных разным аспектам его творчества. Рецензируя это издание, Илья Кукулин отметил, что авторами исследовательских статей на современном уровне произведен «всесторонний имманентный анализ поэтики Аронзона», и предположил, что дальнейшее «отдельное» исследование его творчества само по себе не слишком перспективно: для того чтобы поэзия Аронзона могла быть описана не как музейное, а как живое явление, она нуждается в дальнейшей контекстуализации [Кукулин 2019: 51][63].
Не оспаривая мнения исследователя, я тем не менее постараюсь в этой работе все же охватить поэзию Аронзона как самоценное и цельное явление, к которому возможен имманентный подход.
Глава 2
Образ персонажа
Лирический субъект поэзии Аронзона
…продолжая рассматривать свой портрет.
Л. Аронзон. Из повести «Ассигнация»
2.1. «Лирический герой» в существующих теориях: основные тенденции и проблемы
Во введении уже говорилось о новой категории, предлагаемой в этой работе для обозначения центрального персонажа поэзии Аронзона, – «автоперсонаж». Выбор этого термина вызван тем, что традиционное понятие «лирический герой» для адекватного описания центрального персонифицированного образа в рассматриваемом поэтическом универсуме нуждается в уточнении. Аронзон достаточно рано начал осваивать поэтику, с помощью которой сумел выявить черты исключительно оригинального индивидуального мира и суммарно разработать[64], «сконструировать» особое отражение себя в лирическом alter ego. Поднимая «лицо свое, как тост / за самое высокое изгнание // в поэзию» (1961, № 191), очень близкий автору герой, здесь – тоже поэт, совершает бегство в себя ради открытия внутреннего пространства как самостоятельного мира, индивидуальной утопии поэта[65]. О сосредоточенной погруженности в себя как «состоянии лирической концентрации»[66] говорит первая строка стихотворения «Февраль» (1962, № 211; т. 1. С. 288): «В себе – по пояс, как в снегу – по пояс»; здесь не только открывается множественность «я», нашедшая выражение в склонности поэта тавтологизировать, включать одно в другое по принципу тождества[67], но и отстраненно представлена двойственность положения героя, наполовину увязшего в себе, отчего острее чувствуется одиночество.
Сам по себе лирический эскапизм не является чем-то исключительным, однако в случае Аронзона интересно, как именно он определяет границы внутреннего мира и возможности его охвата словом: вспомним, что в зрелый период творчества он определил «материал» – то есть тему, направление – своей «литературы» как «изображение рая». Поэзия Аронзона, уводя от внешней действительности, вела в место (или состояние) чистого созерцания, недоступное для насущных тревог современности. Этим поэт открыл путь постижения красоты и истинности своего мира, отчего его короткая жизнь и сравнительно небольшое творческое наследие, особенно в силу концентрированности последнего, стали притягательны для создания мифа «второй» культуры советского Ленинграда. Привлекательным оказалось и то, что Аронзон говорит о рае, о внутреннем мире, который называет «миром души», «пространством души». В формировании мифа о поэте немалую роль сыграло сближение до неразличения жизни и искусства, доставшееся в наследство от эпохи модернизма, но вместе с тем характерное для отождествления лирики и жизни: для многих современников и последующих читателей основная направленность творчества Аронзона нашла созвучие в фактах его биографии, воспринятой исключительно сквозь призму поэзии, отчего произошло слияние реальной судьбы и сотворенной. Создалась красивая своей идеальностью картина, в которой сам поэт будто отразился в своем главном герое, как в зеркале, без всякого изменения и искажения; в контексте этого мифа лирический персонаж настолько слился с автором, что стал «диктовать» ему post factum обстоятельства своего бытия, мироощущения. Соотношение автора и его героя в качестве субъектных инстанций у Аронзона, как в традиционной поэзии, очень соблазнительно охарактеризовать как «не смешение, а отсутствие различий» [Веселовский 1939: 3] и как «дополнительность и едино-раздельность „я“ и „другого“» [Бройтман 2004: 258], что встречается при художественном неосинкретизме в поэзии XX–XXI веков. Действительно, всему творчеству Аронзона в высокой степени свойствен «субъектный синкретизм»[68], то есть неотграниченность друг от друга автора (повествователя) и героя, выражающаяся во внешне немотивированном переходе от первого лица ко второму и третьему и наоборот [Малкина 2008: 257].
В отношении понятий «лирический герой» и «лирическое „я“» теоретическая поэтика не выработала единой, четкой и устраивающей всех исследователей классификационной системы. Возникновение этих понятий было продиктовано потребностью отделить литературного персонажа от биографической личности автора, дабы выйти из наивных отождествлений творца и его творения и создать гибкую картину многоуровневой субъектности, в которой «я» создается по принципу, близкому к связи между прототипом и созданным на его основе художественным образом, где прототипом служит сам автор.
Только в начале XX века было осуществлено решительное размежевание лирического «я» и биографического «я» поэта. Ин. Анненский в статье «Бальмонт-лирик» (1904), говоря о стихотворении «Я – изысканность русской медлительной речи…», оказался чуть ли не единственным из критиков, кто отчетливо разглядел, что «я – это вовсе не сам К. Д. Бальмонт под маской стиха» [Анненский 1979: 98]. Уточняя свою мысль, Анненский говорит, что лирическое «я» не есть ни «личное», ни «собирательное» [Там же: 99] и что это интуитивно восстанавливаемое нами я будет не столько внешним, так сказать, биографическим я писателя, сколько его истинным неразложимым я, которое, в сущности, одно мы и можем, как адекватное нашему, переживать в поэзии [Там же: 102–103].
Интерпретируя последнюю строку бальмонтовского шедевра «Я – изысканный стих», критик самое важное видит в том, что поэт слил здесь свое существо со стихом <..> Стих не есть созданье поэта, он даже, если хотите, не принадлежит поэту. Стих неотделим от лирического я, это его связь с миром, его место в природе [Там же: 99].
Интересно здесь не только отождествление лирического «я» с неживым плодом творчества, но и отмеченная Анненским принадлежность этого плода к своему – не-своему – к «я» и не-«я». Иначе говоря, современник Бальмонта проницательно заметил, как поэт преодолевает собственную узкую субъективность, используя лирическое «я», предоставляя в нем пристанище для чего-то над- или межличностного.
Поворотные моменты в обнаружении водораздела между автором и героем были спровоцированы модернизмом, искавшим адекватного выражения множественности конкретного «я». Но история русской литературы дает примеры недоумения или раздражения, высказываемых по поводу отождествления автора и его героя и в более ранний период. Так, К. Н. Батюшков в 1821 году негодовал на элегию «Батюшков из Рима», созданную П. Плетневым, и иронизировал над теми, кто «умеет отличить поэта от честного человека» (в оригинале по-французски: «sait de l'homme d'honneur distinguer le poète»):
…мой прадед был не Анакреон, а бригадир при Петре Первом, человек нрава крутого и твердый духом. Я родился не на берегах Двины… Скажи бога ради, зачем не пишет он биографии Державина? Он перевел Анакреона – следственно, он прелюбодей; он славил вино, следственно – пьяница; он хвалил борцов и кулачные бои, ergo – буян; он написал оду «Бог», ergo – безбожник? Такой способ очень легок [Батюшков 1934: 429–430].
П. А. Вяземский замечал по поводу эротических элегий всё того же Батюшкова:
О характере певца судить не можно по словам, которые он поет… Неужели Батюшков на деле то же, что в стихах? Сладострастие совсем не в нем[69].
В эпоху раннего русского романтизма разрушалась система жанров, которой прежде, при главенстве классицистических принципов, был обусловлен герой того или иного лирического произведения. Не потому ли отчасти и вызывало недоумение у критиков отсутствие у А. Пушкина единого лирического образа «я», отчего за поэтом закрепилось прозвание «протей»? Соотнести жанровую заданность (пусть бы она проявлялась на уровне «памяти жанра») с задачей поэта – задача историка литературы. И потому И. Семенко обоснованно утверждает, что именно Батюшков впервые в русской литературе создал лирического героя как такового [Семенко 1977: 444]. Исследовательница показывает, что поэт сознательно создает, «строит» свой «авторский образ» [Там же: 443], избегая при этом прямой исповедальности («Батюшков – решительный противник „исповеди“» [Там же: 442]), как позже конструировал Пушкин в «Евгении Онегине» образ автора[70].
Важной вехой в разграничении внутри- и внетекстовых инстанций стала статья Ю. Тынянова «Блок» (1921), написанная вскоре после смерти поэта, где осторожно сформулирована концепция лирического героя с предостережением от наивного отождествления автора и субъекта речи (ученый замечает, как в читательском восприятии смешались такие далекие понятия, как герой, поэт и человек [Тынянов 1977: 118]). Однако довольно скоро выражение «лирический герой» не только превратилось в общеупотребимый термин, но и утратило конкретность. Тынянов остро ухватил ситуацию, которой оказался свидетелем: оплакивая поэта, печалятся о человеке, так как «все полюбили (человеческое) лицо, а не искусство»[71]. Воздействие поэзии Блока на читателя оказалось столь сильным, что произошло наивное отождествление искусства и жизни – почти то, что входило в программу романтизма и впоследствии символизма.
Л. Гинзбург в исследовании «О лирике» (1964) утверждает, что лирический герой – одна из возможностей воплощения в лирике личности автора, когда автор передает своему герою «устойчивые черты – биографическими, сюжетными» [Гинзбург 1997: 146]. Исследовательница настаивает на том, что образ лирического героя определяется «единством личности, не только стоящей за текстом, но и наделенной сюжетной характеристикой, которую все же не следует отождествлять с характером» [Там же: 148]. «Единство авторского сознания, сосредоточенность его в определенном кругу проблем, настроений является необходимым условием возникновения лирического героя» [Там же: 149], – говорит Гинзбург о герое лирики Лермонтова, видя в ней выражение личности – «не только субъекта, но и объекта произведения, его тему, и она раскрывается в самом движении поэтического сюжета» [Там же: 150].
В рецензии на второе издание книги Гинзбург «О лирике» (1974) Б. Корман, сетуя на превращение термина «лирический герой» в «достояние массовой литературоведческой продукции, популярных книг и методических пособий», отчего он «стал утрачивать признаки термина» [Корман 1992а: 87], напоминает, что лирический герой – это единство личности, не только стоящей за текстом, но и воплощенной в самом поэтическом сюжете, ставшей предметом изображения, – причем образ его не существует, как правило, в отдельном, изолированном стихотворении: лирический герой это обычно единство если не всего лирического творчества поэта, то периода, цикла, тематического комплекса [Там же].
Следуя за логикой рецензируемой книги, автор указывает и на другой способ выражения авторского сознания, при котором поэт присутствует в своем творчестве как известный взгляд на действительность (призма, через которую преломляется мир), но не становится главным предметом изображения (творчество Пушкина, Фета, Тютчева) [Там же].
Пожалуй, можно говорить, что в творчестве Аронзона концепции жизнетворчества, жизнестроения оставили достаточно глубокий след – таково сильнейшее воздействие поэзии Блока, Маяковского… Отзвук жизнетворческой программы в реплике Аронзона из приведенного выше разговора с Бродским: «…только творчество дает нам диалог с Богом» – одно из веских тому подтверждений. В поэтической практике Аронзона нет такой декларативности, но в ряде случаев поэт выражает программу своего творчества, как это посредством императивных инфинитивов сделано во вступлении к поэме «Качели» (1967, № 279; т. 2, с. 61):
- …идти туда, где нет погоды,
- где только Я передо мной,
- внутри поэзии самой
- открыть гармонию природы…
Автором этих строк ставятся исключительно поэтические задачи, и здесь очень сложно ответить на вопрос: кому принадлежат эти слова? кто говорит это? – автор? лирический герой? Наряду с этим здесь обозначена специфика говорения, в перспективе подразумевающего автокоммуникацию: «только Я передо мной», а значит – указывающего на персонификацию различных ипостасей «я» для разворачивания диалога между ними[72]. Именно это и побуждает прибегнуть в отношении лирического субъекта Аронзона к новому термину – «автоперсонаж»: созерцая пейзаж или лицо, этот тип лирического героя видит себя, свое отражение, что можно сказать и о его конфидентах. Что бы ни «делал» автоперсонаж Аронзона (а он преимущественно смотрит), его действия направлены на него самого. Мысль «только Я передо мной» отозвалась в более позднем стихотворении – маленьком шедевре «Боже мой, как всё красиво!..» (1970, № 143): «…что ни есть – передо мной» (в первоначальном варианте: «всё что есть – передо мной», т. 1, с. 483). Автоперсонаж независимо от позиции в пространстве и позы воспринимает окружающее фронтально и нечасто поворачивается к миру, а значит и к себе, спиной, как это происходит в стихотворении 1967 года «Была за окнами весна…» (№ 62). Мир, спроецированный Аронзоном вовне и предстающий перед автоперсонажем, необъятен, как неисчерпаема и красота этого мира; и вместе с тем автоперсонаж необъятен сам для себя, заключая в себе окружающую его безмерность.
Пожалуй, эти характеристики нельзя отнести к биографическому А. Аронзону. Поэтому автоперсонажем я называю поэтическое отражение автора в собственном творчестве и преображение автором некоторых присущих ему черт в фигуре лирического двойника. Кратко говоря, автоперсонаж – это тот же лирический герой, отделенный от автора, но сохраняющий некоторые обстоятельства его биографии, вплоть до имени, и, будучи освобожденным от житейской рутины, открывающий в себе невозможное в обычных условиях существования. Автоперсонаж живет вне времени и в особых отношениях со смертью, а говорит за него поэт, берущий на себя функцию транслятора, глашатая, толмача, «переводчика». В силу специфической знаковости, которая делает возможным функционирование образности в литературе, когда личность автора и образы его поэзии максимально совмещены, в стихах Аронзона появляется именно персонаж, и Аронзону как визионеру важно сохранить как эту связь-совмещение, так и подвижную дистанцию, учитывая которую можно говорить об этой связи автора и персонажа.
Случаи прямого высказывания, не предполагающего разграничения на инстанции созерцателя и говорящего, у Аронзона довольно редки – как, например, в четверостишии 1968 года:
- Как стихотворец я неплох
- всё оттого, что, слава Богу,
- хоть мало я пишу стихов,
- но среди них прекрасных много!
Пожалуй, это исключительный случай в наследии Аронзона, наряду с также коротким стихотворением «Мой мир такой же, что и ваш…» (№ 125): здесь мы «слышим» его собственный голос, и поэт, признаваясь в том, что пишет стихи, дает им оценку, пряча под иронией так называемый авторский этикет («стыд лирической откровенности»[73]). Вместе с тем Аронзон соположением двух типов рифмовки – ассонансной («неплох – стихов») и точной («Богу – много»)[74] – намекает на какой-то иной, невысказанный смысл, указывающий, видимо, на его гораздо более высокую оценку своего творчества: словом «неплох» делается заявка на рифму «бог», однако второе слово открывает другой ряд рифм, что почти исключает его употребление и вынуждает автора иначе сказать о себе как творце красоты, а неточной рифмой намекнуть, что и в прямом высказывании едва ли не больше осталось утаено. Одновременно в этом четверостишии предстает явление, близкое к сфрагиде: Аронзон может употребить свою фамилию в стихотворении, совершив отчуждение от авторского «я». К текстам, в которых автор прибегает к такому приему, следует отнести «Душа не занимает места…» (1968, № 87: «С участием Ален Делона / пойдет кино про Аронзона»), «Хорошо гулять по небу…» (1968, № 91: «Вслух читая Аронзона»), «Видение Аронзона»; но во всех названных стихах степень отчуждения от своего имени разная, так что не ясно, из какой инстанции ведется речь.
История поэзии знает немало таких загадок, кажущихся неразрешимыми: какова дистанция между лирическим субъектом, произносящим имя автора, и самим автором? Так, например, кто говорит в стихотворении Пушкина:
- …Сам Александр Сергеич Пушкин
- С мосье Онегиным стоит?[75]
Этот редкий случай крайнего дистанцирования от себя демонстрирует балансирование на грани реальности и вымысла. Такого у Аронзона нет, он приписывает автоперсонажу, как и всему его (и своему) окружению, самостоятельное существование, поэтому прямое лирическое высказывание, как оно представлено в четверостишии «Как стихотворец я неплох…», нехарактерно для его лирики.
Вопросу о субъекте говорения посвящена статья Виллема Г. Вестстейна «Как назвать „говорящего“ в стихотворении?» [Вестстейн 2009], где дается богатый обзор исследований западных специалистов по вопросу воплощения лирического «я» и соотношения его с автором. Исследователь безусловно прав, указывая на общую для всей европейской поэзии последних полутора веков тенденцию создать многомерный, многоуровневый, неопределенный, неопределимый, непознаваемый образ героя. В частности, много внимания Вестстейн уделяет истории укоренившегося в англо-американской традиции термина persona (или personae) [Вестстейн 2009: 32–33, 35–36]. Он придерживается довольно осторожной позиции:
Поэт не сам напрямую говорит в своем тексте, но он создает говорящую инстанцию, которая рассказывает о своем опыте, обращаясь к другой инстанции, адресату, выражает свои чувства и мысли и т. д. [Там же: 36].
Обращаясь к полемике вокруг лирических инстанций, ведущейся в России вот уже век, Вестстейн склоняется к тому, чтобы видеть в лирическом субъекте «фиктивную инстанцию» [Там же] или «фиктивную личность» [Там же: 59]. Утверждая, что «говорящий существует в практически любом поэтическом тексте, иногда только как инстанция, формулирующая некую сентенцию, иногда как фиктивная личность – лирическое „я“» [Там же], исследователь не учитывает, что двойничество поэта и его персонажа, как оно представлено у Аронзона, может получать обратимость, порождаемую автокоммуникативным актом, и тогда приходится признать «фиктивным» и самого поэта. Для условного поэтического мира Аронзона, где каждая лирическая ситуация стремится утратить конкретность, такая эфемерность характерна и способствует порождению путаницы, характерной для лирического «маскарада», который разыгрывается в стихах поэта.
Аронзон далек от того, чтобы сообщать своему герою психологическую убедительность, достоверность: автоперсонаж то ли уже преодолел границы конкретного «я», то ли еще ждет будущего «я» как воплощения, в любом случае наслаждаясь непринадлежностью и неопределенностью, свободой быть то тем, то другим, то вовсе переставая быть, становясь прозрачным. Вместе с тем, сам себе двойник, автоперсонаж Аронзона болен одиночеством, заставляющим играть с собою в прятки, и рад проникновению в свой маскарад тех, кто избавил бы его от тотальности бытия. Внутренний сюжет творчества Аронзона разворачивается в онтологической незавершенности («еще») и в то же время окончательной воплощенности («уже»). Строками «Всюду так же, как в душе: / еще не август, но уже» заканчивается сонет «То потрепещет, то ничуть…» (1970, № 144), и между «еще» и «уже» – этими полюсами одновременности – совершается непрерывная кульминация[76], в ходе которой, по мысли Аронзона, «я» приобретает «непрерывность»[77], отмеченную «многосубъектностью» (термин Б. Кормана)[78].
Основывая свое понимание возможностей проявления субъектности в лирике на идеях Бахтина о полифоническом романе, Корман говорит о многосубъектности, возникающей при сближении «собственно автора» и «автора-повествователя», и особенно в «ролевых стихотворениях» («драматической лирике»).
Герой ролевого стихотворения выступает, следовательно, в двух функциях. С одной стороны, он субъект сознания; с другой стороны, он объект иного, более высокого сознания [Корман 1992 г: 176–177].
Рассматривая образцы русской классической поэзии, Корман за многосубъектностью, представленной в тексте, закономерно видел воплощение убеждения в том, что никто не может претендовать на монопольное владение всей истиной и что истина в каждом конкретном своем выражении есть чья-то, то есть субъектно ограничена [Там же: 177].
Это наблюдение очень важно в применении к поэзии Аронзона, где все персонажи, и автоперсонаж в первую очередь, предстоят, соотносят себя с чьим-то «более высоким сознанием». Можно говорить, что автоперсонаж Аронзона не имеет постоянной дистанцированности от авторской инстанции и может как представать героем ролевой лирики, так и почти сливаться с автором. В последнем случае его субъектная неопределенность, меньшая выявленность (сравнительно с лирическим героем и героями ролевой лирики) связана с необъятным содержанием его сферы – не частной ситуации, а всего мира [Корман 1992б: 104].
Герой Аронзона, конечно, связан исключительно с автором, персонифицирует, а иногда и объективирует в нем факты своего сознания, и это сближает его с героем ролевой лирики, являющимся, «в сущности, персонажем: субъектом речи, чье высказывание для автора – не средство, а предмет изображения»[79].
Применительно же собственно к лирическому герою уместно привести наблюдение Бройтмана, определяющее его как образ, «намеренно отсылающий к внелитературной личности поэта» [Бройтман 1999: 148]. О «субъекте автора в текстовом отражении» говорит Хенрике Шталь в статье «Типология субъекта в современной русской поэзии: теоретические основы» [Шталь 2009], обосновывая многослойность субъекта поэтического текста на основе понятия, введенного в философский оборот Кантом, – «трансцендентальный субъект», и поясняя, что стоящее за этим термином «не является явлением или каким-либо данным предметом и поэтому принципиально непознаваем<о>» [Там же: 5]. Единство, должное обеспечивать трансцендентального субъекта посредством апперцепции, эмпирически остается кажущимся, мнимым, в противостоянии чему, как пишет Шталь, швейцарский философ Генрих Барт противопоставляет восприятию субъекта как предрассудку и кажущемуся единству созерцание субъекта. Лишь созерцание открывает субъект как «интегрирующий момент» «актуализирующейся экзистенции» [Там же: 6].
Барт расширил «оппозицию трансцендентального и эмпирического субъектов третьим субъектом: эстетическим („самостью“)» [Там же: 7], что, по мнению Шталь, позволяет изучить специфику создания автором «образа самого себя». Вместе с тем Шталь указывает, что не следует отождествлять «поэтического субъекта автора с автором ни как с эмпирическим, ни как с эстетическим субъектом, так как речь идет не о реальном авторе с его биографией, но об образе субъекта автора в текстовом отражении», а также и с imago автора («последнее является социально действующим образом поведения автора, созданным не в текстах, а посредством текстов») [Там же: 8][80].
Думается, принципиально расхождение двух позиций, одна из которых сосредоточена на отсылке к личности автора, другая – на «отражении» субъекта-личности в тексте. Первая возводит текстовую реальность в степень абсолюта, а центрального участника этой сверхреальности понимает как квинтэссенцию творческого импульса автора, постоянно преображающую реальную личность. Вторая склонна видеть в тексте сложные преломления авторского «я», силящиеся оторваться от «оригинала» – автора. Фигура аронзоновского автоперсонажа представляется находящейся посередине между этими инстанциями. Субъект автора отражается в тексте, но это отражение отсылает обратно – к субъекту автора. В этом условном взаимоотражении приоритет не должен принадлежать никому – ни лирическому герою, ни автору: образ первого максимально приближен к авторскому «я», тога как образ второго предельно эстетизирован, даже мифологизирован.
2.2. Об отношениях лирического героя и автора
Как видно из далеко не полного экскурса по исследованиям отечественных и зарубежных специалистов, проблема соотношения автора и лирического персонажа, а также многоуровневости, многослойности самого лирического «я» продолжает волновать ученых, так что порой кажется, будто высказанное Бахтиным в середине 1920-х годов актуально и по сей день:
В лирике автор наиболее формалистичен, т. е. творчески растворяется во внешней звучащей и внутренней живописно-скульптурной и ритмической форме, отсюда кажется, что его нет, что он сливается с героем или, наоборот, нет героя, а только автор. На самом же деле и здесь герой и автор противостоят друг другу и в каждом слове звучит реакция на реакцию [Бахтин 2003: 77].
Именно растворенность Аронзона-автора в видениях своего персонажа – alter ego, для чего привлекается широкий арсенал выразительных средств, и создает иллюзию тождества автора и героя и не всегда способствует узнаванию именно «реакции на реакцию», а не просто реакции как таковой. Парадокс лирического героя заключается в том, что он совмещает в себе несовместимое: он и герой, изображенный субъект, не совпадающий с автором, и «постулируемый в жизни двойник» автора (Л. Гинзбург), «самого поэта» (Б. Корман).
В уже цитированной ранней работе М. Бахтин, исходя из истории развития лирики, утверждает, что в ней «целое героя не являлось основным художественным заданием, не являлось ценностным центром художественного видения» [Бахтин 2003: 233–234]. Будучи «только носителем переживания», «не закрывающего и не завершающего его», герой лирики выступает только «центром видения». Бахтин основывает свои наблюдения на том, что ему дает поэзия Пушкина, главным образом – стихотворение «Для берегов отчизны дальной…», где широкий мир мыслится общим для всех инстанций текста – автора и героя, недаром в том же месте работы читаем: «Важен и героя и автора равно объемлющий мир, его моменты и положения в нем» [Там же]. Но можно ли применительно к Аронзону говорить, что и его героя, и самого автора объемлет, окружает один и тот же мир? Автор создает для своего персонажа пространство, сам оставаясь внеположным этому пространству и сохраняя это пространство для себя умозрительным; а помещен в него (авто)персонаж как персонифицированный орган зрения.
Поэтому термин «лирический герой» не всегда оказывается достаточно адекватным для описания лирического субъекта – персонажа Аронзона. При всей традиционности (по крайней мере внешней) лирического «я» в поэзии Аронзона, его «лирическому взгляду» свойственно преображать невидимое в видимое – совершать открытие того, чего не может быть. Если лирическое «я» у Аронзона традиционно, то инстанция автора в отношении его персонажа трансформирована.
Лирическая личность, по мысли Гинзбург, существует как форма «авторского сознания, в которой преломляются темы <..>, но не существует в качестве самостоятельной темы» [Гинзбург 1997: 150] – такова личность в поэзии Фета, тут она выступает как «призма авторского сознания» [Там же], сквозь которую преломляются немногие темы. Помимо воспевания красоты, у поэзии Аронзона есть существенное сходство с фетовской: «для понимания лирического субъекта поэзии Фета термин лирический герой является просто лишним; он ничего не прибавляет, не объясняет» [Там же: 149–150]; но у Аронзона, оставаясь органом преломления впечатлений, образ персонажа не только не оказывается постоянной темой поэзии, но и растворяется в видимом, трансцендирует в него. Не сам лирический субъект выступает темой поэзии Аронзона: главная тема, как уже говорилось, – тема рая, неисчерпаемая и превращающая в неисчерпаемое смотрящего на рай. Именно в этой взаимосвязи смотрящего и предстоящего ему пространства, причем внутреннего для автора, и проявляется композит «автоперсонаж».
Основываясь на очень точном замечании Л. Гинзбург, что «говорить о лирическом герое имеет смысл тогда, когда она <лирика. – П. К.> облекается устойчивыми чертами – биографическими, сюжетными» [Там же: 146], можно возразить, что это вполне относится и к лирическому субъекту Аронзона: ведь, действительно, он ограничен весьма небольшим количеством действий, им совершаемым: «Я созерцал, я зрил и только» (1964, № 8), – сказано довольно рано, но относится ко всему творчеству. Это обстоятельство едва ли может быть отнесено к биографии Аронзона: оно находится в сфере желаемого, осуществимого лишь в творчестве. Названное действие – созерцание – совершает именно та ипостась «я», которая хоть и свободна от жизни автора, но не может себя проявить без его сосредоточенности: ведь текстовое «я», когда мы подразумеваем в нем и авторскую инстанцию, – это, так сказать, «внутренний человек» Аронзона, сама сущность личности, «ядро души» (выражение Бахтина).
Как замечала Л. Гинзбург, художественной системой поэта может быть создана лирическая личность, воспринимая которую читатель «одновременно постулировал в самой жизни бытие ее двойника»:
Этот лирический двойник, эта живая личность поэта отнюдь не является эмпирической, биографической личностью, взятой во всей противоречивой полноте и хаотичности своих проявлений. Нет, реальная личность является в то же время «идеальной» личностью, идеальным содержанием, отвлеченным от пестрого и смутного многообразия житейского опыта [Гинзбург 1997: 151].
Гинзбург, а за нею Корман склонны были видеть в фигуре лирического героя объект, что можно объяснить наследием психологической лирики XIX – начала XX века: центральное лицо произведения выступает предметом авторского изучения.
Так, Корман предложил видеть в лирическом герое и субъекта, и объекта в прямо-оценочной точке зрения. Л<ирический> Г<ерой> – это и носитель сознания, и предмет изображения: он открыто стоит между читателем и изображаемым миром [Корман 1992 г: 179].
Заметим, что никакой прямой оценки у Аронзона нет, и сомнительно видеть в фигуре его лирического «я» стоящего «между читателем и изображаемым миром». Персонаж Аронзона балансирует между внесубъектной формой авторского сознания, характерной для повествования или описания (пейзажа), и устремленностью в собственное ви́дение, всегда лирическое, субъективное и, в определенном смысле, недосягаемое для читателя – как сферу, в которую никто, кроме самого (авто)персонажа, попасть не может.
Первоначально работа имела задачей исследовать поэтическую идентификацию, осуществляемую Аронзоном, но в процессе постижения устройства мира поэта замысел был уточнен, конкретизирован, в известном смысле – сужен. Внимание переместилось с того, каким представлен и предстает лирический персонаж, на осмысление того, что он, будучи дистанцирован от автора, оказывается как бы самостоятельной фигурой, преобладающим занятием которой является созерцание. Этот мотив сопровождает всю поэзию Аронзона, недаром в начале 1968 года он создает «начало поэмы» «Видение Аронзона» (№ 85), словно выдвигая себя самого на роль визионера. Здесь важно не только использование приема сфрагиды, который у Аронзона встречается не раз, но и обнаружение образа «ясновидца, т. е. лица, при посредстве коего содержание видения становится известным читателю» [Ярхо 1989: 21]. Созерцатель у Аронзона типологически приближается к роли такого ясновидца, о котором говорит Б. Ярхо: «он становится частью самого видения» [Там же: 28]. Кроме того, Аронзон-автор демонстративно отождествляет себя с alter ego, усложняя ситуацию посредничества. Наконец, перед Аронзоном-поэтом вовсе не стоит задача «поучать» (именно к дидактическим жанрам и относят средневековые видения). В «Видении Аронзона» он создает поэтически-условную ситуацию, ключевыми моментами которой являются выход из комнаты, отмеченной присутствием в ней прекрасной жены («дом изумительной роскоши» присутствует в «Видениях из диалогов Григория Великого» и означает, так же как и сад, «исконный элемент в описаниях рая» [Там же: 44, 54]), в освещенную луной зимнюю ночь и восхождение на пустынный заснеженный холм, что, конечно, можно интерпретировать почти в соответствии с тем, как происходило развертывание видений ясновидцев в Средние века: сопровождаемый мыслями о смерти, персонаж стихотворения «с трепетом и сокрушением» [Там же: 28] прикасается к миру мертвых, чтобы поставить поминальную свечу. Здесь в чувственных образах (формах) заложено духовное содержание («материал»), что также вполне созвучно средневековым видениям-откровениям. В рассматриваемом стихотворении названные действия совершаются исключительно Аронзоном-созерцателем – автоперсонажем, особой модификацией лирического героя, которому дано, согласно авторской интенции, видеть и быть видимым, выступать и как субъект созерцания, и как объект созерцания одновременно. И здесь непросто определить, сколь велика (или мала) дистанция между этим персонажем и тем, кто биографически носил фамилию Аронзон.
Как уже отмечалось, вопрос дифференциации эмпирического автора и образа, который возникает в его лирике, не может считаться решенным, и поэзия последних ста с лишним лет предлагает читателю самые изощренные формы «нераздельности – неслиянности» автора и лирического героя. Говоря о развитии лирики по особому, в отличие от эпоса и драмы, пути и о близости автора и героя в ней, С. Бройтман объясняет это отказом от объективации героя, вследствие чего лирика не выработала четких субъектно-объектных отношений между автором и героем, но сохранила между ними отношения субъектно-субъектные [Бройтман 1999: 142].
Может показаться, что Аронзон представил своего героя неотличимым от себя, и это во многом справедливо вследствие «автопсихологичности» [Хализев 1999: 136] лирики вообще. Однако, полностью отождествляя поэта и «я» в его стихах, мы неминуемо лишаем этот мир его диалогичности, которая осуществляется не только на вербальном уровне. Наверное, можно говорить, что такую ошибку совершали некоторые представители «второй» культуры Ленинграда, писавшие о поэзии Аронзона; отчасти эта ошибка объясняется тем, что они строили свою культурную (и культурологическую) модель, включающую и поведенческий аспект, который находили и в стихах Аронзона.
Если мы составим перечень действий, которые субъект лирики Аронзона совершает, то их будет очень ограниченное количество. Его жизнь проходит преимущественно в созерцании, и задача поэта – поставить читателя в исходную точку этого взгляда, чтобы читатель увидел то же самое, но не отождествил себя с этим персонажем; последний остается уникальным, единственным, одним. Анна Вежбицкая указывала, что «обязательным участником ситуации 'X видит Y' является Место: вижу – обязательно „Где?“; а тогда и „Откуда?“»[81]. Несмотря на звучащий у Аронзона (его автоперсонажа) вопрос: «Здесь ли я?» (№ 134) – место в пространстве обращенности к другому или автокоммуникативности очень важно для него, и предполагается, что он видит, способен видеть себя.
Аронзон-автор сосредоточен на зрении своего героя, и для сохранения характера этого ритуализированного процесса необходима неподвижность этого лирического лица: созерцателю, наблюдателю до́лжно оставаться статичным. Этой статикой знаменуется стабильность – аналог «вечности» (кстати, это коррелирует и с постепенным отказом поэта от экспрессивности, ярких, броских поэтизмов). Статика-стабильность отражена в метрико-ритмической организации стихотворных текстов, в которых преобладает однородность. Метрическая изоморфность у Аронзона не отменяет диалогичности текста и характерного для диалога переключения из одного «геройного» плана в другой. Гомогенность формы на уровне метра и ритма не столько уравнивает говорящие инстанции, сколько заключает их в «раму» общего для всех ритма, обретающего определенный смысл – семантизирующегося. Как автоперсонаж всматривается в ночные окна «лица единого для тел» (1965, № 35), так и стихотворный метр (и ритм) приноровлен к тому, чтобы не отвлекать от воплощения в слове единого, цельного мира, предстающего глазам созерцателя[82]. Сам же созерцатель, как автор (по Бахтину), «творчески растворяется» в видимом, перекодируя свое «я» в «другого» или вовсе размывая его в «анонимности», отчего снижается «эгоцентричность» лирики – «самой эгоцентрической деятельности в мире» [Руднев 2003: 580].
Своему автоперсонажу Аронзон передоверяет те мысли, которые этот alter ego поэта в основном только видит в зримых образах. В отличие от известных в классической поэзии случаев, представленных в мирах, например, Лермонтова или Блока, где лирический герой сохраняет преимущественно сущностные компоненты своего автора, Аронзон-поэт всегда до неразличимости близок к своему персонажу и разделяет с ним имя, но, вопреки обыденной логике, не принадлежит физическому миру, находясь в каком-то пороговом состоянии сознания. Однако эта лиминальность представлена настолько достоверно, что этот представляемый мир становится буквально ощутим. Автоперсонаж Аронзона, получив возможность переживать свою смерть как длящееся состояние, объемлет тот предел, на который удостаивается посмотреть с обеих сторон. Так увеличивается присутствие вечности в ограниченной, обреченной концу жизни.
Поэзия Аронзона в высшей степени мистична. Поэт преображает засмертное существование, пребывание своего автоперсонажа в ином мире. Преображенная смерть у Аронзона связана с Ничто, пустотой, областью творящего молчания. Идея и образ пустоты очень важны для Аронзона, он понимает их позитивно и как предварение множественности, и как ее предотвращение. Словно по мысли Николая Кузанского: «В едином боге все свернуто, поскольку всё в нем; и он развертывает все, поскольку он во всем» [Николай Кузанский 1979: 104], Аронзон поэтически воплощает движение к свернутости, сжатости, компрессии до точки Ничто. И смерть становится пространственным и временным вместилищем со своими горизонтами, со своей необъятностью, очень напоминающими «этот мир». «Здешнее», посюстороннее существование, нередко наблюдаемое «оттуда», окрашивается в макабрические тона, вызывающие то смех, то тревогу и страх. «Здесь» и «везде» (или «здесь» и «там»), «мгновенье» и «вечность» – эти полюса уподобляются друг другу, утрачивают различия, путаются, отчего и появляются двойники, и категория «ничто» оказывается приложима едва ли не к любому наличествующему. Так, пространственные подобия у Аронзона становятся подобиями темпоральными, как будто поэт странно реализует утверждение Э. А. По: «Пространство и Длительность суть одно» («Эврика», 1848). Потому в рисованном полуабстрактном портрете, создаваемом рукой, которая в свою очередь создается другой рукой (на манер Эшера), – своего рода мета(авто)портрете – идея подобия – тождества дана в динамике, в развернутом виде. И возникает вопрос: можно ли здесь говорить о становлении в привычном смысле этого слова? Ведь если оно и совершается, то в границах вполне определенной заданности: всякая рука почти невольно воспроизводит то, что уже есть, совсем по словам одного из стихотворений: «Всё, что мы трудом творим, / было создано до нас» (1967, № 78). Таков же и автоперсонаж Аронзона – он есть и создается, обнаруживается каждый раз для возникающей ситуации созерцания, что не исключает определенной автоматичности.
Иллюстрация 2
При этом автоперсонаж подобен Гамлету, монологи которого натыкаются на тишину, пока он сам не отдаст себе отчета, что «дальнейшее – молчание», только «дальнейшее» здесь почти исключено, так как оно уже произошло, уже наступило. В автоперсонаже Аронзон изображает себя мертвым – то есть таким, для которого времени уже нет. Разумеется, это изображение засмертного дается в тенденции, в пределе и получает разные модусы пребывания в этом состоянии. Но так или иначе, все эти модусы конечной своей целью имеют положение божественного – недостижимое и невозможное.
Засмертное состояние автоперсонажа, когда сознание внушается еще присутствующему во времени, дает ему ви́дение неразличимости в окутывающем его безмолвии: безмолвны и Бог, и смерть. «…всюду так же, как в душе: / еще не август, но уже» (1970, № 144), – так говорится о «содержании» души: «еще не, но уже» – неухватываемый, невозможный момент. Здесь можно говорить, что понимание времени Аронзоном близко к тому, как понимал время Блаженный Августин: есть только настоящее, а прошлого и будущего нет, они могут быть видны и узнаны только через настоящее, тогда как само настоящее не имеет продолжения и потому не длится. О настоящем можно сказать, что оно настолько же есть, насколько его еще или уже нет.
Как же мы говорим, – размышляет Августин в «Исповеди», – что оно (настоящее) есть, если причина его возникновения в том, что его не будет! Разве мы ошибаемся, сказав, что время существует только потому, что оно стремится исчезнуть? [Августин 1991: 292]
Для Аронзона очень свойственна такая «вечная повторяемость этого процесса»[83] – процесса переживания бездлительного настоящего, где и сконцентрирован максимум бытия, становящийся всем – вездесущностью и вненаходимостью, повторениями и циклическими возвращениями «я». Это и есть «содержание» души – «содержание», которое заключено и которое заключает в себе. То же совершается и с молчанием: оно обрамлено и оно обрамляет. Царящее молчание если не отменяет пространство вовсе, то способствует его сжатию, в результате чего возникает двойник – в большей или меньшей мере обладатель души, нежели «оригинал»; одновременно двойничество у Аронзона утверждает уникальность оригинала.
Наконец, поэтический мир Аронзона предполагает отсутствие говорящего (как было замечено, «появление возникает только в форме собственного исчезновения» [Янкелевич 1999: 187]), его непринадлежность к миру живых. Это делает проблематичной интерпретацию концепции смерти у Аронзона в ключе мифо- или даже жизнетворчества: можно было бы, конечно, представить ее средством, благодаря которому преодолеваются жизненные помехи ради обретения радости в загробной жизни. Однако такой подход представляется слишком внешним, особенно если учитывать, что поэт преодолевал процесс неминуемой объективации образов своей поэзии построением особой логики и грамматики своего поэтического языка, уводящей от одноплановых толкований. Все творческое наследие Аронзона указывает на метафизические, эсхатологические глубины, интересовавшие и привлекавшие поэта, уводит читателя от злобы дня к надмирности и бессобытийности в определенном смысле этого слова.
2.3. Автоперсонаж: понимание термина
Автоперсонаж Аронзона – это молчаливая, созерцающая и созерцательная ипостась лирического героя как многосубъектного целого. В суммарном виде – в объеме всего корпуса текстов – автоперсонаж Аронзона в своей подчеркиваемой субъектности если не заключает в себе внеличностное (межличностное) сознание, то зримо – позой или жестом – обращается к нему. Возможность видеть его глазами предоставлена читателю Аронзоном-автором, облекающим видения автоперсонажа в слово.
Термин «автоперсонаж» применительно к творчеству Аронзона в том аспекте, как оно рассматривается в этой работе, представляется уместнее, чем «лирический герой», еще и потому, что содержит в составе слова два корня, первый из которых указывает на принадлежность исключительно к внетекстовой личности автора (как отражение облика художника в автопортрете) и на его направленность на самого себя; второй же корень указывает на объективность того лица, которое находится в условном пространстве рая, им созерцаемом. Как, по мысли Тынянова, «Блок – самая большая лирическая тема Блока» [Тынянов 1977: 118], так самая большая лирическая тема Аронзона – рай. Конечно, нельзя утверждать, что лирический субъект у Аронзона имеет только служебную функцию, но его первичная роль – созерцать, видеть. В поэтическом мире Аронзона для того, чтобы созерцать, нужен созерцатель – он обусловлен видимым, и без него видимого нет. В этом и заложена принципиальная особенность автоперсонажа как типа лирического героя, отодвинутого с центрального места, – взаимообусловленность созерцателя и «объекта» его созерцания: без одного нет другого. Созерцатель, будучи «фиктивной» фигурой, все же не делает фиктивным видимое; более того, с его возможным (а часто и желаемым) исчезновением видимое должно проступить отчетливее. Так можно сформулировать главную апорию, лежащую в основе поэтической оптики Аронзона.
Кроме того, обозначенная двусоставность лирического субъекта Аронзона (auto как указание на направленность на самого себя и persona как «маска», «принятая роль» или «действующее лицо» [Вестстейн 2009: 33]) сюжетно проявляется еще и в том, что «я» этого субъекта свидетельствует о его присутствии в текстовой действительности, тогда как для автора это иногда вряд ли возможно.
Так, например, кто сообщает о своих полетах в рай, как это делается в стихотворении «На стене полно теней…» (1969, № 127): «…я летал в него (в рай) во сне»? Если это передача сновидческого опыта, то лирический субъект Аронзона ничем не отличается от других «лирических героев», в пределе отделяющихся от своего автора и живущих самостоятельной жизнью. Говорящий «я» здесь объединяет в этом местоимении близкого автору героя (если не самого автора) и того, с кем автор не может быть сближен или отождествлен; здесь под «я» скрывается и субъект созерцания, и объект изображения – не «заочно допущенный», не во сне летавший в рай и проснувшийся «среди ночи». Но о нем автор может сказать только: «заочно» – иначе это будет выдумка, фантазия, плод воображения.
Не будь летавшего в рай, «я» не смогло бы поделиться этим опытом; не будь способного этот опыт объективировать в словах, полета в рай не произошло бы, пусть и заочного. Для автоперсонажа Аронзона характерна ситуация смотрения в зеркало и невозможности отличить, где оригинал, а где отражение, «двойник». Но значительнее то, что если персонаж настолько полон ощущением красоты, что не может об этом говорить, то автор как создает такую ситуацию для персонажа, так и говорит за него, выстраивая наиболее адекватную видимому форму поэтического высказывания.
Заметим еще одну важную особенность: находящийся в замкнутых пределах жилья персонаж ближе к автору, тогда как оказавшийся в открытом пространстве, он более удален от автора, может быть – в силу широкой перспективы. Здесь уместно привести наблюдения В. Вацуро об элегическом герое начала XIX века. Противопоставляя такового герою романному (готического романа), для которого «„замок – средоточие посмертной жизни“, сверхъестественного» [Вацуро 1994: 59], исследователь обнаруживает в первом, предающемся созерцанию и размышлениям, «требование открытого пространства» [Там же: 57], где только и возможна медитация: «…элегия – не действие, а медитация» [Там же: 59]. Автоперсонажу Аронзона так же противопоказано действие, как и элегическому герою «золотого века» русской поэзии.
В той же степени ему свойствен порыв к тому, чтобы быть объятым пространством, стремящимся к бесконечности, неохватности, что особенно заметно в таких стихотворениях, как «Была за окнами весна…» (№ 62) и уже упоминавшееся «Видение Аронзона» (№ 85). Сад в сознании Аронзона, несмотря на ограниченность, также обладает безмерностью (ср.: «И в этой утренней дали, / как некий чудный сад, / уже маячили земли / хребты и небеса»; 1969 или 1970, № 138). И автоперсонаж хочет наблюдать со стороны это воплощение необъятности; иначе, если он в это пространство будет вовлечен, он не сможет наблюдать, он почти вынужден будет действовать.
Процитированный выше фрагмент стихотворения «Душа не занимает места…»: «С участием Ален Делона / пойдет кино про Аронзона» – имеет продолжение: «…где будут все его друзья / (которым так обязан я)». Если первые три строки произносит автоперсонаж, дистанцированный от автора, то последняя часть высказывания, графически отделенная от основного скобками, наподобие ремарки, произносима автором[84]. Можно ли применительно к этому случаю говорить об «<образе> субъект<а> автора в текстовом отражении» [Шталь 2009: 8]? Скорее, здесь представлен диалог, в разворачивании которого автор позволяет себе поправлять своего мысленного собеседника.
В статье «Трансформация субъектности» (2018) поэт и теоретик поэтического авангарда Сергей Бирюков цитирует труд хорватского филолога Йосипа Ужаревича, который, развивая мысль о «лирическом парадоксе», утверждает, что лирическое Я в тематическом и структурном смысле также является объектом лирики (а не только и не столько «субъектом»), как и все многообразные его состояния[85].
Стоящий посреди неопределенного (и даже неопределимого) пространства и обращенный в своих видениях к другу, возлюбленной или Богу, лирический субъект Аронзона оказывается объектом собственной медитации. Свойственная поэту медитативность, предполагающая автокоммуникацию с характерными для нее трансформацией, переформулировкой и возрастанием информации[86], использует принцип повтора (секвентности), не боящегося даже штампа как аналога «стабильности», «вечности». Ю. Лотман так объяснял акт автокоммуникации, очень важный для культуры вообще:
Когда мы говорим о передаче сообщения по системе «Я – Я», мы имеем в виду в первую очередь не те случаи, когда текст выполняет мнемоническую функцию. Здесь воспринимающее второе «Я» функционально приравнивается к третьему лицу. Различие сводится к тому, что в системе «Я – ОН» информация перемещается в пространстве, а в системе «Я – Я» – во времени [Лотман 1992: 76–77][87].
Факт, что «сообщение, передаваемое в системе „Я – Я“, <..> приобретает какую-то дополнительную новую информацию», ученый объясняет качественной трансформацией в канале «Я – Я», приводящей «к перестройке самого этого „Я“» [Лотман 1992: 77][88]. Этот тип общения и обращения очень созвучен модели микромира Аронзона, лирический герой которого автокоммуникативен (отсюда и одна из мотивировок термина «автоперсонаж»), что сказывается на его высокой духовной активности и в то же время на сниженной динамичности в плане социальном[89].
Если медитативной лирике в целом свойственно преобладание «автокоммуникативности», снижение коммуникативной направленности[90], то в нашем случае это не вполне так: напряженная медитация лирического субъекта у Аронзона, кажется, способствует диалогичности, а не притупляет ее, не мешает ей; погруженность в себя как будто способствует более глубокому обнаружению адресата, места его созерцания и обращения к нему автоперсонажа. Как будет показано ниже, автоперсонаж Аронзона пребывает в ситуации окруженности кем-то или чем-то, что не мешает ему смотреть на себя со стороны, извне, но сама образующаяся замкнутость на самом себе (проявляющаяся, в том числе, на уровне многократных повторов в рамках одного текста, автоцитат в объеме всего творчества, «перечитывания себя», цитирования любимых текстов, наряду с музыкальными: «партита номер шесть», № 170, т. I, с. 237), создает особый модус автокоммуникативности. Здесь сохраняется индивидуальность не только поэтического стиля Аронзона, но и его лирического «я» – субъекта высказывания, в процессе созерцания превращающегося в объект, отчего происходит углубление как самой «личности» созерцателя, так и созерцаемого им адресата, будь то другое лицо или целый мир (жизнь). Почти без оговорок Аронзона можно отнести к той группе поэтов, о лирических «я» которых говорит В. Новиков (Г. Айги, В. Кривулин, Е. Шварц, А. Парщиков, А. Драгомощенко):
Данные поэты тяготеют к тому, чтобы репрезентировать не социальную группу («мы»), но мироздание в целом. «Лирический герой» говорит не от имени многих читателей – он выступает посредником между читателем и миром [Новиков 2018: 73–74].
Однако и «потенциальная обобщенность, „интегрированность“» [Там же: 73] лирических «я» названных исследователем поэтов выражается иначе, нежели у Аронзона: его лирическое «я» осциллирует между сугубо индивидуальным и общим ближайшего окружения, участники которого становятся полноправными персонажами его творческого мира; в этих колебаниях лирическое «я» доходит до неразличимости и одновременно парадоксального стирания личностного. В этом отношении Аронзону оказываются очень созвучны слова А. Рембо, сознательно дерзнувшего «исследовать незримое»:
On devrait dire: On me pense. Pardon du jeu de mots. JE est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon, et Nargue aux inconscients, qui ergotent sur ce qu'ils ignorent tout à fait![91]
«Поэт не столько мыслит сам по себе, сколько <..> „его мыслят“ или „им мыслят“», – комментирует этот знаменитый пассаж Н. Балашов, и это созвучно поэтическому миру Аронзона, центральный персонаж которого оказывается медиумически неволен в своих виде́ниях: несмотря на преобладание в поэзии Аронзона активного залога, указывающего на наличие грамматико-синтаксического субъекта, сам этот субъект поставлен в речевую ситуацию подчиненности чему-то большему, что реализуется как косвенными падежами личного местоимения «я» (яркий пример – первая строка сонета «Лебедь», 1966, № 38: «Вокруг меня сидела дева»), так и поставленностью субъекта в пассивную, страдательную позицию (см. устойчивый для всего творчества Аронзона мотив «гонимого», как, например, в 1-й главе неоконченной поэмы «Качели», 1967, № 279, т. 2, с. 62; или мотив «объятости» лирического субъекта чем-то).
Было бы неоправданно и даже рискованно применять «теорию ясновидения» Рембо к Аронзону. Тем не менее приведенные интуиции французского поэта важны, потому что благодаря им можно провести ту невидимую черту, которая проходит между автором и его героем: изображенный самостоятельным в своем внутреннем движении, автоперсонаж Аронзона несет на себе след авторского присутствия, авторской воли, отчего при его представлении возникает впечатление объемности, стереоскопичности того совмещения, в котором, как говорилось выше, внешнее и внутреннее образа сходятся почти на равных правах, никогда не совпадая. В большой степени стихотворение «Послание в лечебницу» (№ 6) носит на себе черты автокоммуникации: призыв к неназываемому адресату (к душе?): «В пасмурном парке рисуй мое имя» (т. 1, с. 63), переходит в размеренное совершение акта письма-рисования: «ты рисуешь ручей, вдоль которого после идешь и идешь» (с. 65), создающего ландшафт парка. Так иероглифический почерк предшествует возникновению ландшафта с ручьем и продолжает этот ландшафт, чем создается своеобразный автопортрет-автограф, но не застывший, а движущийся вместе с ручьем и письмом.
Таким образом, автоперсонаж – это лирический герой, переставший быть темой стихотворения, как бы уступивший первый и главный план тому, что вне его, и тому, в чем он не может быть, – недосягаемому, которое он не мог бы видеть, находись он в нем. Но особенность зрения автоперсонажа-созерцателя и в том, что ему тем явственнее предстает внутреннее, чем ощутимее, очевиднее его присутствие снаружи. Находясь вне какого-то пространства, автоперсонаж способен переживать свое присутствие там – это особый род антиципации, частой в поэтике Аронзона: «поза, приобретенная / взятая напрокат» (1964–1966; № 285, 287). Потому и возможен у Аронзона такого рода «юмор стиля», как в строках варианта стихотворения «Мое веселье – вдохновенье…» (1969, № (115), <1>; т. 1, с. 365): «И долго я смотрел на это, / не зная, как мне хорошо». Здесь выражено не просто не сознающее себя блаженство; здесь взгляд извне переносит смотрящего в центр, а не будь именно такого взгляда, не было бы и блаженства.
2.4. Автоперсонаж как наблюдатель
Приводя постулат А. Вежбицкой об обязательности места в речевой ситуации 'X видит Y', Е. Падучева систематизирует употребление термина «Наблюдатель», вошедшего в научный обиход в 1960-е годы и узаконенного в 1986 году Ю. Апресяном. Утверждая, что «Наблюдатель – лицо, которое во многих отношениях подобно Говорящему», ученый различает их на том основании, что «говорящий называет себя „Я“, а наблюдатель назвать себя не может никак» [Падучева 2008]. Сводя роль Наблюдателя к модусу семантики («Наблюдатель – это семантическая роль» [Там же]), Падучева склонна видеть в нем «не представленного на поверхностном уровне участника ситуации» [Там же], сохраняющегося как «субъект сознания» [Падучева 2006]. Именно такие отношения характерны для тех инстанций, которые представлены в поэзии Аронзона: «говорящий» – поэт – говорит «я», тогда как автоперсонаж-«наблюдатель» безгласен и может быть обозначен любым из трех лиц. Это интуитивно почувствовал Кривулин как «существование на границе бытия и небытия, „я“ и не-„я“», «стремление к анонимности, растворение „я“ в „другом“» [Кривулин 1997: 178]. Действительно, здесь, по мысли Бахтина, «благодаря известному овеществлению» «сознание <..> дано как нечто объективное (объектное) и почти нейтральное по отношению непроходимой (абсолютной) границы „я“ и „другого“» [Бахтин 1997: 347].
Однако думается, что принципиальным для Аронзона было сохранить определенную форму «нераздельности – неслиянности» внутри поэтического двойничества; более того, для Аронзона в инстанциях его «я» не происходит конфликта, раскалывающего нечто цельное на «я» и «не-я» – Аронзон все отчетливее осуществляет программу, выраженную в Записных книжках кратким словосочетанием «Непрерывное Я» [Döring/Kukuj 2008: 317], что в поэзии выразилось в строках из поэмы «Качели»: «Идти туда, где нет погоды, / где только Я передо мной».
То «непрерывное Я», о котором и за которого проективно записывает Аронзон, воплощается в автоперсонаже его лирики, находящемся перед самим собой в другой ипостаси – поэта, передающего всё, что происходит с безмолвным созерцателем. Внутреннее и внешнее в мире аронзоновского автоперсонажа взаимозаменяемы и устремлены друг к другу, но никогда, пожалуй, полностью не совпадают. Это свойство мира Аронзона можно определить термином «апория», который подразумевает логически, словесно возможную ситуацию, невозможную, однако, в действительности (тогда как «парадокс» предполагает возможность в действительности и невозможность логическую). Апория – это ситуация невозможного, в которой пребывает автоперсонаж, созерцая неисчерпаемую красоту и испытывая переживание предельной интенсивности. Следя за развертыванием мира Аронзона, надо все время помнить, что это пространство, находящееся в поле зрения автоперсонажа, – апорическое, невозможное. Попадание внутрь этого пространства лишило бы автоперсонажа возможности созерцать, и поэтому он эту роль скорее отводит своим адресатам, как это выражено в «Пустом сонете» (1969, № 118): «Чтоб вы стояли в них, сады стоят». В этой строке наиболее четко выразилась аронзоновская апория – обусловленность появления его лирического субъекта, автоперсонажа: условием присутствия как его самого, так и его адресата является некая стабильность, константа, которой на самом деле как бы нет. Строка «Чтоб вы стояли в них, сады стоят», где вместо союза «чтобы» потенциально читается союз «если», в пределе могла бы содержать местоимения первого лица – да она их скрыто и содержит, так как говорит о представшем взору автоперсонажа, перед которым разворачивается «непрерывное Я».
Бахтин в «Заметках» 1961 года утверждает, что «у человека нет внутренней суверенной территории <..> смотря внутрь себя, он смотрит в глаза другому или глазами другого» [Бахтин 1997: 344]. Если вторая часть наблюдения философа полностью подтверждается диалогической природой творчества Аронзона, то первую часть Аронзон, кажется, старается частично опровергнуть, представляя в качестве этой «суверенной территории» «ядро души» (выражение Бахтина) – не то «я», которое может быть передано содержательно, а то «я», которое может быть увидено в идеальном зеркале, «отражающем не видимость, а сущность» [Левин 1988: 11].
Сосредоточившись на изображении такого сущностного внутреннего, Аронзон не делает это пространство сознания окончательным «объектом для другого и для себя самого» [Бахтин 1997: 314], а выражает свое отношение к этому мгновенно проявляющемуся внутреннему пространству-сознанию посредством внеположного себе автоперсонажа. «При этом собственное слово <у Аронзона скорее иероглиф. – П. К.> становится объектным и получает второй – собственный же – голос. Но этот второй голос уже не бросает (от себя) тени, ибо он выражает чистое отношение, а вся объективирующая, материализующая плоть слова отдана первому» – взгляду (у Бахтина – «голосу») [Там же]. Автоперсонаж Аронзона несет собственный объективирующий взгляд на остающееся «без начала и конца» субъективное (субъектное) «я»-пространство – на мир, предстоящий взору созерцателя и остающийся миром-субъектом, «миром души». Этот взгляд превращает зримое автоперсонажем в достояние другого, как это происходит с открытием, совершенным художником из стихотворения «Стали зримыми миры…» (1967, № 78): художник «проявил / на доске такое чудо, / что мы, полные любви, / вопрошаем: взял откуда?», но представил своим творением в объективированном (объектном) виде то, что до конца объективировано быть не может. Как увиденное автоперсонажем-созерцателем, так и слово поэта об этом увиденном его не объективирует, оставляя свободным от окончательного, сформировавшегося отношения. Образы художника, «проявившего на доске чудо», и поэта, извлекшего недостающие для сонета шесть строк (см. «Забытый сонет», 1968, № 97), представляют ипостаси творца искусства, который посредством «звуков, красок и слов, / сочетаний их и тем» (№ 78) делает сотворенное Богом доступным «иконы свите» – зрителю, слушателю. Но о том, «взял откуда» (этот вопрос звучит в стихотворении «Стали зримыми миры…» и не находит ясного ответа), как «проявляются» или «извлекаются» краски и слова, автор умалчивает: ответ находится вне поля зрения автоперсонажа. Оставаясь обозначаемым местоимением «я», автоперсонаж так и не превращается в субъект-для-себя (собственную тему, по Бройтману) и видим объективно; видимое же им не существует ни для кого, кроме автора, и то в «умном зрении» последнего. Автоперсонаж, видимый автору, продолжает созерцать внутреннее пространство, то есть всегда обращен «лицом» к автору; но сам он видим и читателю, который «узнает» в нем Аронзона-персонажа, «как-бы-Аронзона».
Так, в двух катренах «Забытого сонета», датированного «май, день» (<1968>, № 97), представлен автоперсонаж, находящийся в промежуточном состоянии бессонницы-неумирания – очень характерном для него в широком контексте всего творчества Аронзона: «Весь день бессонница. Бессонница с утра. / До вечера бессонница. Гуляю / по кругу комнат. Все они, как спальни, / везде бессонница, а мне уснуть пора». Но каждый раз он заново попадает в это состояние, словно не сохраняя памяти о предшествующих в нем пребывании: «Когда бы умер я еще вчера, / сегодня был бы счастлив и печален, / но не жалел бы, что я жил вначале. / Однако жив я: плоть не умерла». Это лишний раз свидетельствует о том, что поэзии Аронзона не свойственна идея становления (в этом поэзия Аронзона противоположна поэзии Блока, в ней нет «идеи пути»[92]).
Если лирический субъект есть выразитель сознания своего автора как первичной инстанции, то автоперсонаж, сам не выражая ничьего сознания и не будучи фактом непосредственного и наивного исповедального самоотношения автора, находится на сложном пересечении нескольких сознаний-взглядов. Применительно к творчеству Достоевского Бахтин писал о раскрытой писателем сложности простого феномена смотрения на себя в зеркало: своими и чужими глазами одновременно, встреча и взаимодействие чужих и своих глаз [Бахтин 1997: 346].
Это наблюдение можно отнести и к персонажу Аронзона: он есть зеркальное отражение своего автора и одновременно отражение сущности автора, неисчерпаемой и неуяснимой ни для кого. Эксплицитно или имплицитно присутствующее «я» автоперсонажа – тот случай омонимии, который зорко описан Г. Шпетом в работе «Сознание и его собственник» (1916)[93]. Это «я» овеществляется как объект изображения, но при этом может исчезнуть (умерев или попав в какое-то пограничное состояние), что позволяет видеть в нем подобное тому, что Мандельштам назвал у Данте «гераклитовой метафорой»:
Иногда Дант умеет так описывать явление, что от него ровным счетом ничего не остается. Для этого он пользуется приемом, который мне хотелось бы назвать гераклитовой метафорой, – с такой силой подчеркивающей текучесть явления и такими росчерками перечеркивающей его, что прямому созерцанию, после того как дело метафоры сделано, в сущности, уже нечем поживиться [Мандельштам 1990: 232].
Так, в «Мадригале» (1965, № 33) автоперсонаж, сливаясь с поэтом, рисует «на глине полдня» голос возлюбленной и стирает его, чтобы «завтра утром вспомнить» – то есть возобновить, начать снова это вписывание одного из свойств адресата в ландшафт и снова есть «стереть». Такой персонаж живет «в пустых домах» (1966, № 57) или, гуляя среди людей, оказывается «заметно одинок» (1967, № 64), или «взирает на свечу, которой нет» (1968, № 83); он может быть представлен пережившим смерть и обретшим свое «я» в окружающем его пейзаже или – парадоксально – автопортрете[94], что становится мотивом таких, например, стихотворений, как «Ты слышишь, шлепает вода…» (1963, № 253, «Когда я, милый твой, умру…»), «Послание в лечебницу» (№ 6, «Сквозь меня прорастает <..> трава»), «Там, где булыжник тряс повозкой» (№ 36, «я умер, реками удвоен»). Но и в таком случае автоперсонаж продолжает пребывать в своем мире, пусть и бесплотно, как выражено в грустном размышлении: «Когда, душа, я буду только ты…» (1968, № 87) – высказанная мысль приходит к собственному опровержению, подвергается сомнению; по этому же принципу построено стихотворение «О, как осення осень! Как…» (1969, № 111). Сама же метафора у Аронзона предполагает потенциальную возможность преобразиться, превратиться во что-то иноприродное, как в стихотворении «Люблю смотреть, когда моя тоска…» (1966, № 41) тоска, смех, любовь, недоумение персонажа воплощаются в лесных зверей.
Эта идея воплощения реализуется у Аронзона в особой театральности, присущей его поэзии. Некоторые произведения обладают чертами «ролевой лирики»: их герой примеряет маски и говорит сообразно принятой роли (это можно видеть в отдельных репликах «драматического» стихотворения «Гобелен» или в сонете «Горацио, Пилад, Альтшулер, брат…»). По Корману, такой персонаж выступает в двух функциях: «С одной стороны, он субъект сознания; с другой стороны, он объект иного, более высокого сознания» [Корман 1992 г: 177], – именно во второй ипостаси двусубъектного сочетания я и предлагаю видеть автоперсонажа. Можно сказать, что, в свете строгой концепции лирического героя, персонаж Аронзона «обгоняет» автора, словно заставляя его в биографии поступать по сценарию поэтического, лирического развития. Это, кажется, нечастый случай в литературе, и удержаться в следовании такой логике от мифологизирования очень трудно. При этом герой поэзии Аронзона обладает единством во всем целом его творчества, в нем воплощены глубокие раздумья Аронзона о сущности искусства, вынесенные мной в эпиграф к этой работе.
2.5. Автоперсонаж как лирический автопортрет
Автоперсонаж – своего рода лирический автопортрет. В. Эрль и А. Альтшулер писали о поэзии состояний у Аронзона, но, как утверждает классическая эстетика, «лирика всегда изображает лишь само по себе определенное состояние» [Шлегель 1983: 62], квинтэссенцию состояния. Если принять это наблюдение, то надо согласиться и с тем, что основная тема лирики Аронзона – он сам, его лирический герой. Но это не совсем точно. В пределе Аронзон говорит о высшем напряжении при восприятии красоты – важнейшего для него атрибута Божественного. И основной темой тогда следует признать не самого персонажа, а то, что предстает его взору, – рай, его «изображение». Состояния же, переживаемые лирическим героем, выступают следствиями созерцания, пусть бы они сопровождали это созерцание или возникали из-за недоступности видения.
Лирический автопортрет у Аронзона запечатлевает взгляд, как правило, обращенный не на «зрителя». Это сопоставимо с теми персонажами картин Каспара Давида Фридриха, которые повернуты к зрителю спиной. Яркий пример представлен в финале стихотворения «Была за окнами весна…» (1967, № 62): «…я обращен был, как кобыла / к тому, кого она везет», хотя эта поза может показаться и нехарактерной: автоперсонаж здесь отвернулся от мира, скорее всего – «к небу обратясь» или «лицом к небытию». Пожалуй, в этом «автопортрете» мы узнаём Аронзона по направлению взгляда, в котором сознание готово к диалогу с видимым.
Историк искусства М. Фабрикант определяет сущность автопортрета совмещением в одном лице «заказчика» и «автора», не исключающим взаимной неудовлетворенности, чем и объясняется длинный ряд автопортретов Рембрандта: «…элемент исканий преобладает над законченными решениями, которые художник мог бы представить как официальный „Портрет“ Рембрандта» [Фабрикант 2005: 11]. Разумеется, в силу громадного различия между пластическим и словесным искусством объяснять всё новые и новые обращения поэта к лирическому «я» поиском наиболее адекватного выражения личностной субстанции – значит упрощать не только творческий процесс и многообразие его результатов, но и никогда не завершимую личность. Лирическое «я», кажется, более отчетливо может высказать себя, нежели «я» художника, ищущего проникновения к глубинному через собственные внешние черты, в момент вглядывания отчуждающиеся от смотрящего.











