Читать онлайн Поклонение невесомости
- Автор: Вадим Месяц
- Жанр: Стихи и поэзия
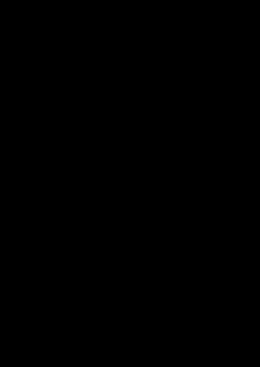
© В. Месяц, текст, 2024
© Ю. Казарин, предисловие, 2024
© Д. Борисов, фото, 2024
© Р. Рубанов, рисунок, 2024
© Кабинетный учёный, 2024
«Ленту белую свою…»
Несколько слов о стихах Вадима Месяца
Бог подарил мне дружбу с поэтом Вадимом Месяцем, которая длится и укрепляется более 40 лет. Этот поэтический говоритель и песенный мечтатель – с учётом времени планетарного и социального – за долгие годы ничуть не изменился: уникальный голос свободного разума, открытого сердца и чистой души работает в лингвопоэтическом космосе по-прежнему вольно, напряжённо (энергийно) и с вызовом. Иосиф Бродский писал когда-то о ранних стихах этого ни на что и ни на кого не похожего автора: «Стихи эти вызывают во мне зависть не столько даже к тому, как они написаны (хотя и к этому тоже), сколько к внутренней жизни, за ними происходящей и их к жизни внешней вызывающей». Об этой внутренней жизни и о том, насколько она внутренняя, мне бы и хотелось поговорить. Произносителей своих, как сегодня любят говорить, «текстов» – много. А поэтов, которые бросают вызов бытию, инобытию, интербытию, – единицы.
Языковая, текстовая, художественная, поэтическая личность многомерна и стереоскопична. Проще говоря, в человеке уживаются человек и поэт, а в поэте – поэт и человек. Две эти сущности постоянно и неизбежно находятся в отношениях то тождества, то взаимоисключения, то в состоянии родовидовой партитивности (когда человек «включается» в поэта и наоборот), то в ситуации пересекаемости, а иногда – очень редко – они живут и работают в ограниченном (или неограниченном) поле «абсолютной» свободы (друг от друга). Поэт мучает, изматывает человека в себе, а порой человек не даёт поэту слушать, слышать, плакать и петь, думать и переживать прошлое, настоящее и грядущее. Человек обусловлен и детерминирован своей антропологичностью, своей биологической жизнью, социальным существованием, эмоциональными перегрузками, психологической напряжённостью, разрушительной энергией прагматичности истории, географии, эпохи, государства, своей амбициозностью и амбициозностью общества, практицизмом урбанистической цивилизации и т. д. и т. п. Человек по определению должен ненавидеть в себе поэта. Он должен убить его в себе.
- В чистом небе лёгким птицам нет числа.
- Прошлогодний под ногами мнётся лист.
- Знает только половецкая стрела:
- наша жизнь – всего лишь долгий свист.
- Знает только москворецкая хула,
- что мне сердце без печали не болит.
- Улыбнёшься ли – привстанешь из седла,
- а по Волге лёд уже летит.
Союз страшного и прекрасного в поэзии Вадима Месяца держится на чудовищно противоречивом соединении, единении, единстве человека и поэта.
Помнит ли человек, что в нём есть поэт? Вспоминает ли поэт, что в нём есть человек? Асимметрия художественной личности – феномен очевидный: двойственность, множественность поэтической личности – явление уникальное, к шизофрении никакого отношения не имеющее. Человек в человеке может быть верующим и воцерковлённым, а поэт в человеке этом – язычник (и наоборот: вспомним Пушкина и Мандельштама). Такая антрополичностная, антропохудожественная и антропоонтологическая бинарность (как минимум) настораживает общество, пугает обывателя и разочаровывает государство. Даже женщина не знает, кого она любит: человека? поэта? Или человека и поэта одновременно (вспомним, как Марчелло Мастроянни оставляли и бросали все женщины, которых он любил). Не знаю ни одного поэта (среди иных художников такие бывали), прожившего социально и духовно целостную счастливую семейную жизнь.
Драматизм двойственного существования человека пишущего – феномен очевидный. Такая «драма» чревата трагедией и, наконец, катастрофой. Назову цифры, которые номинируют рубежи биологического возраста человека-поэта, переживающего смерть (как материализованную, так и состоявшуюся «частично», когда в человеке-поэте умирает поэт): 22 года, 27 лет, 30 лет, 33 года, 37 лет, 40 лет, 44 года, 55 лет и т. д. (см. мою книгу «Последнее стихотворение»). Человек и поэт (в человеке), как правило, существуют в разные стороны: векторы двух субстанциональных процессов (чаще всего) разнонаправленны. Но если человек не знает тайного пути поэта (в себе), то поэт предвидит одновременно две судьбы – свою и человека, в котором он вынужден существовать.
- Приносили в горницу дары:
- Туеса берёзовой коры,
- молоко тяжёлое, как камень.
- Я смотрел на ясное крыло,
- говорил – становится светло.
- Голову поддерживал руками.
- Мама в белой шали кружевной
- пела и склонялась надо мной.
В этом стихотворении В. Месяц – как автор и лирический субъект – создаёт уникальный образ совокупного и цельного человека-поэта, когда человек адекватен поэту, а поэт адекватен жизни, до-жизни и после-жизни. Счастливый случай: стихотворение смотрит во все стороны жизни, смерти и любви – глазами жизни и поэзии.
РЫБАЦКАЯ СЧИТАЛКА
- Одеялом фиолетовым накрой,
- нежно в пропасть мягкотелую толкни.
- Я бы в бурю вышел в море, как герой,
- если справишь мне поминки без родни.
- Верхоглядна моя вера, лёгок крест.
- Не вериги мне – до пояса ковыль.
- По ранжиру для бесплодных наших мест
- причащеньем стала солнечная пыль.
- Только спящие читают как с листа,
- злые смыслы не упавших с неба книг,
- вера зреет в тёмном чреве у кита
- и под плитами томится как родник.
- Возле виселицы яблоня цветёт,
- соблазняя на поступок роковой —
- небесами тайно избранный народ
- затеряться средь пустыни мировой.
- Рвётся горок позолоченных кольцо,
- сбилась в ворох сетка северных широт,
- раз за мытаря замолвлено словцо,
- он с улыбкой эшафот переживёт.
- Присягнувшие морскому янтарю,
- одолевшие молитву по слогам,
- я сегодня только с вами говорю,
- как рыбак твержу унылым рыбакам.
- Трепет пальцев обжигает тело рыб,
- мы для гадов – сгустки жаркого огня.
- Если я в открытом море не погиб,
- в чистом поле не оплакивай меня.
Месяц здесь – герой в древнем романтическом смысле этого слова. Мифологический, бессмертный, божественный (в основном значении этого прилагательного), как все подлинные поэты. Месяцевская просодия уникальна: она – как поле, где с одной стороны дорога, с другой – река, с третьей – лес, а с четвёртой – небо. Просодия Вадима Месяца – это не голос, но голоса многие, бóльшая часть которых неслыханная, однако бывшая когда-то и будущая, грядущая из слоёв времени земли, жизни, смерти, любви и поэзии. Эта просодия – явление не только акустическое, но и хронотопическое: время находит своё место в звучании этих стихов и не просто остаётся в нём, а и продолжает разрастаться, разрывая строфические сосуды текстов, и переходит в сказ, в миф, в песню, в плач, в песнь, в тишину и в шёпот – в воздух, которым дышат не только люди, звери и птицы, но и ангелы – ангелы памяти и ангелы вечности. Птица, зверь и человек здесь говорят одновременно, и такое трио акустически дарит свой звук всему, что (кто) лишено слуха и что (кто) начинает слышать. Слышать – это одно из базовых качеств поэта.
ЛЮБОВЬ ГНОМА
- Синица, синица, давай жениться.
- Открою форточку – жду невесту.
- Я подарю тебе белую нитку.
- Ты мне – зёрнышко манны небесной.
- Нитка – это твои наряды.
- Зёрнышко – наше с тобой угощенье.
- Свадьба – это моё утешенье.
- Понятно?
- Лапкой ты отпечатаешь крестик.
- Пальцем я отпечатаю нулик.
- Не улетай после свадьбы, невеста.
- Песенку спой, чтобы я улыбнулся.
Слышать и чуять свой путь. Свой тайный путь: от жизни к мифу, от мифа к жизни.
Вадим Месяц – автор более чем трёх десятков книг стихотворений, прозы, эссеистики, лауреат многих литературных премий. Его стихи и проза были высоко оценены Иосифом Бродским, Александром Зиновьевым, Михаилом Леоновичем Гаспаровым, Вячеславом Всеволодовичем Ивановым и др. Стихи и проза переведены на все основные западноевропейские языки. В 2004 году В. Месяц совершает свой главный «паралитературный» поступок: он организовывает и открывает Центр современной литературы и издательский проект «Русский Гулливер», печатающий стихи и прозу авторов, по какой-то причине «не получивших должного приёма в нашей культуре». Он обращается к «нераскрученным» поэтам и писателям в надежде, что на них обратят внимание, так же как и он обратил на них внимание сам. 20 лет работает на свой страх и риск. Его «поэзия действия» и есть поиск того тождества между литературой и жизнью, о которой я заговорил ранее, а лозунг «Русского Гулливера» – «Поэзия или смерть» – означает лишь то, что жизнь и есть поэзия, и наоборот. Широк русский человек, широк – и «сужать» его по-достоевски нельзя: по-другому он не может. Не выживет. Помрёт. Есть в Вадиме Месяце, человеке и поэте, две черты – щедрость и ненасытность; он щедр во всём: и в работе, и в жизни, и в писательстве, и в поэзии, и в познании мира, себя и ближних-дальних своих; он ненасытен во всём: и в мышлении, и в писаниях своих, и в любви, и в дружбе, в сотворении мифа и мира своего, и в говорении, и в вербализации всего сущего – физического, метафизического и интерфизического. Месяц – художник и деятель, деятель и поэт – прежде всего отыскивает и создаёт связь и связи между эстетикой и этикой, нравственностью: связи между красивым и страшным, между ужасом и счастьем, которого нет, но есть где-то покой и воля.
Я ЦАРЮ В СТОЛИЦЕ ПОВЕРИЛА
- Я царю в столице поверила,
- пожелала ему быть царём всегда.
- В лес вошла, а там скрипит дерево,
- так скрипит, что стынет в реке вода.
- И в дубравах с распростёртыми кронами
- нет покоя, а скрыта в глуши беда:
- облетевшими обагрёнными
- листопадами плачет, как от стыда.
- Я искала его, воздух слушала,
- прислонялась щекою к глухим стволам.
- И могилы с уснувшими душами
- удивлялись словам моим и делам.
- Я нашла его там, где не ходит зверь,
- где синица падает замертво.
- Среди леса стоит и скрипит, как дверь,
- то ли дерево, то ли зарево.
- И увидела я тёмную страну,
- где столица горит ярким пламенем.
- Вот и вспомнил мой царь давнюю вину,
- огню теперь грозит чёрным знаменем.
- Половецкою стрелой – червоточиной
- сверлит сердце ему, как алмаз нефрит.
- И лицо его моею пощёчиной
- уж который год на ветру горит.
Призрак сюжета, фабулы этого стихотворения сначала облекается в звук (просодия), затем слова (в основном коренная, исконно русская лексика общеупотребительного и генерально-смыслового характера) образуют вербально ассоциативный, фоносемантический и фабульносмысловой конструкт, который под воздействием зоо-, фито-, вообще натур- и антропоморфии расширяется (как зрачок Бога) в жизнь, и лицо у неё вечно горит от пощёчины познания, страдания, счастья, руки и воздуха – горит!..
Книга стихотворений «Поклонение невесомости» представляет собой выборку из поэтических книг Вадима Месяца: от «Календаря вспоминальщика» (1992) до «Убеги из Москвы» (2023). Это собрание характеризуется прежде всего тройной (и в целом множественной) синергетичностью: во-первых, антропологического («возрасты» автора и текстов), во-вторых – этико-эстетического характера, когда эстетика песни тяготеет и трансформируется в этику и нравственность жанра, который назову «песнь», и в третьих, жанровый синтетизм и жанровая универсальность становятся в этой книге особым, объединительным и уникальным способом поэтического познания, который можно определить как песнь песней, не библейской жанрово-тематической природы, а природы иной – мифолого-онтологической. Повторная публикация стихотворений дает им не просто вторую жизнь – освежительную, но и воскрешает тексты в ином интенциональном, смысловом и этикоэстетическом отношении, когда «Песенка» (сквозняка) трансформируется в сказ и нарратив. Здесь возрождаются тексты молодости Вадима Месяца, переосмысляется «дикая этика» его «раннемифологических» «Мифов о Хельвиге», приводятся образцы виртуозных «сонетов к Леруа Мерлен» и нежный абсурд «Пани Малгожаты», жесткая любовная лирика последних лет. «Поклонение невесомости» – это знак прежде всего вертикального движения души поэта.
Поэта разного и разнообразного, каких в России нет: здесь дантовский замах, от которого леса пригибаются, как травы и воды, не пожелавшие и не смогшие востечь в небеса. Многообразие и разнообразие предметов поэзии, звуков, мелодий, ритмов и смыслов книги не приводят в смятение слух, потому что за этим богатством у поэта всегда чувствуется монастырь. Монастырь как одиночество певца, творца, пловца и поэта. Монастырь Месяца – не крепость, не скит, не пещеры, а нравственный, этико-эстетический топос, где душа и дух поэта говорят не то, что нужно чиновникам и рынку, а то, что превращает пространство во время, в вечность, в историю, в культуру, в миф, внутри которого хранится, живёт и движется бессмертие мысли, образа и музыки.
В ЛАВКЕ ПЛЯШЕТ ЗАЗЫВАЛА
- В лавке пляшет зазывала.
- Сторож ходит третий круг.
- Нас на свете не бывало —
- это выдумки, мой друг.
- Мы ещё – снега в дороге
- из галактики иной.
- Скоро рухнем на пороге
- по ступеням сединой.
- И во тьме, ещё до снега,
- в колыбели на лету
- пух неправдашнего века
- закружится в пустоту.
Хорошая иллюстрация к понятию невесомости. Предметы поэзии здесь – до-бытие, здесь-бытие, после-бытие и, наконец, инобытие. Онтологический монастырь поэта – это пространство немереное: из него во все стороны света, тьмы и души видно. Вот – русский традиционализм, который выражается не силлаботоникой, а неизменным объектом и предметом поэзии: непознаваемое, ненарекаемое, невыразимое, то есть то, что мы называем по привычке жизнью, смертью, любовью, Богом, душой и Духом, историей, временем, вечностью, человеком, пространством, бездной.
Вадим Месяц – поэт бездны. Бездны, которая есть и в мифе, и в памяти, и в истории, и в душе, и в языке, и в голосе, и в ритме. Месяц – традиционер. Не модернист, не традиционалист, а традиционер. Поэт не «следует традиции», а сам есть традиция (из русского языка с его акцентологией, фонетикой, силлабикой и свободным синтаксисом – не выбежишь; от него не отбежишь, не отпрыгнешь, а если ты и «выпрыгиваешь» из него, то оказываешься уже не в зауми (это – свойство языковой семантики), но в без-умии). Традиция природы русского языка «ведёт» Месяца сквозь речь – в миф, в духовность, в культуру. Традиция языка и традиция стихосложения – разные сущности: первая – для великих, вторая – для стихотворцев-реформаторов. Месяц «следует» прежде всего традиции природы. Природы языка и природы поэзии. Природы текста и природы культуры. А главное – «природы природы». Поэтическое познание Месяца – естественно. Естественность, то есть – неизбежность, неотвратимость, такого познания (не себя, любимого, но поэзии, красоты, ужаса и невыразимого) требует от поэта использовать оптимальные методы познания: поэт «использует» себя (самоистребление) – и впадает, целиком, в традицию, созданную астрономическим, космическим порядком и хаосом; именно порядок и хаос, а короче – хаокосм, «показывает» поэту «традицию» – по голосу его, по душе его, по сердцу его, по уму его и по голосу. Грех не замечать этого. Месяц создаёт и пересоздаёт свою книгу, воссоздавая и себя молодого, и себя зрелого, и себя – до-себя, и себя – после-себя.
Эволюционная метаморфоза предметов поэзии В. Месяца (с учётом всех его книг) такова: историко-генетическое → историческое → социальное → этико-эстетическое → интимное → нравственное → онтологическое; данная парадигма параллелизируется и пересекается с парадигмой смысло-тематической природы: мифологическое → социомифологическое → индивидуально-мифологическое → автомифологическое → онтомифологическое (бытийное, глобальное) – эти поэтические, поэтологические и текстовые парадигмы (системы) формируются и распространяются энергией поэтической интенции Месяца. Интенциональный вектор его поэзии таков: опыт → текст → архетекст; или: архетекст – текст – опыт. Вектор данной интенции – вертикален и спиралевиден (но – не круг!); точка разрыва/взрыва (появление стихотворения), или точка встречи поэзии и языка, – в «я», в интимном, трансформирующемся в бытийное, в онтологическое.
Современное стихотворчество страдает просодической мимикрией: просто есть поэты, которым нечего сказать (нет предмета поэтического познания), вот они и экспериментируют – ищут доноров просодических; сегодня самые щедрые доноры – Бродский и Феномен Верлибра (сложное имя). Просодия Месяца соприродна русскому языку, русскому пению-говорению-плачу, русскому нежаркому воздуху; с другой стороны, она соприродна веществу поэзии и жизни: в России нет поэта с такой разнообразной просодией, вобравшей в себя и силлаботонику, и тонику, и дольник, и верлибр, и белый стих, и поэтический нарратив, и биологически/анатомически неизбежные восклицания, всхлипы, шёпот и говорение. Индивидуальность просодии обусловлена не только антропологичностью, но и предметом поэтического познания. Предмет поэзии Месяца сложен, множественен и крайне вариативен, поэтому и просодия – как тень, как отражение, как кожный покров поэзии – столь многообразна.
ЦВЕТОК
- Я делю воду с цветком,
- что мне подарила моя подруга.
- Полстакана ему – полстакана мне.
- Я делаю глоток и чувствую,
- как вода устремляется в живот,
- и в нём начинают шевелиться,
- словно в прогретой земле,
- лохматые живые корни.
Вот как это происходит: и творение, и любовь, и ращение, приращение, наращение нового. Здесь Месяц пошёл дальше Н. Заболоцкого: поэт дал вольную любому произрастанию любви. И это – чудо. Поэзия вообще чудо. Персональное чудо любви.
Зрение у поэта Месяца – шарообразное (не стрекозное/фасеточное, а полно-завершённое шарообразное, не покружное, а орбитально-сетевое, когда сеть гуще деревенского сита. Это – особое сито: оно просеивает само себя – и меняется мир над и под ситом, под взором, под светотьмой). Светотьма – вот строительное вещество поэзии Месяца. Тьма копошится в нас, требуя света, который копошится (и поэт это знает) внутри тьмы. Месяц знает, какой он – снегопад – изнутри.
Поэзия Месяца загадочна: не потому, что в ней есть ассоциативно-смысловые провалы, бездны, прорвы, а потому, что поэт, ступивший на свой тайный путь, работает с новым глобальным предметом —
энигмой.
Новая книга Вадима Месяца – это новые отношения с «обновлённым», с «обновившимся» временем, которое объявляется теперь не само по себе, не спонтанно и не окказионально, а – неотвратимо.
МАША И МЕДВЕДЬ
- Дашке
- Она подпрыгивала, как собачка.
- Увидав мороженое у прохожих,
- была готова вырвать его из рук.
- Немногие знают, в чём заключается счастье.
- Она знала.
- Плясала и била в ладоши,
- удачно сходив на горшок.
- Приглашала меня водить хоровод.
- И я соглашался.
- Мы любили многосерийный мультфильм «Маша и медведь».
- По утрам прибегала с планшетом,
- просила найти кино в интернете.
- Нам было ясно:
- по жизни она была Машей, а я – медведь.
- «Благословен Властный Адама воззвать
- и возвратить его в рай!»
- Когда-нибудь по мостовым Бейрута
- мы побежим навстречу друг другу, раскинув руки.
Чувство отцовства у поэта – коренное («Мои русские дети: Артемий, Варвара и Дарья»), он предок не только стихов своих, но и времени, места и неба над ним. С дочерью – как с временем. И с временем – как с дочерью. Вот где сокрыта тайна – в этой множественной природе связи. Связи как поэзии и поэзии как связи. В новых стихотворениях Месяц создаёт обновлённую гармонию поэтического натиска на обыденное: фольклорное, мифологическое больше не перерастает в бытийное, подминая под себя бытовое, – теперь бытийное буквально врезается в обыденное.
В новых стихотворениях Месяца ощущается бесстрашие живущего одновременно вечно и смертно, когда поэт знает, что как человек он умрёт точно, а вот как поэт… Здесь – как земля ляжет, леса встанут, небеса надвинутся. Это – великая мука, известная только крупным художникам. Избыточность ментального, божественного, чудесного и духовного оборачивается мужеством. Мужеством поэта, непрестанно познающего счастье боли: боль познания всегда оборачивается горем или горьким счастьем (Экклезиаст). Месяц – поэт мужественный: он всегда бросается в кипящее молоко времени сразу и без оглядки. Поэт, по божественному счёту, сам есть время. Он вышел из времени, был временем – и ушёл во время.
В новой книге есть целый ряд выдающихся стихотворений, среди которых «Чертополох» – знак серьёзных отношений между поэтом и бытием. Такие отношения не кончаются никогда – в этом одновременно и ужас, и счастье творца.
ЧЕРТОПОЛОХ
- Воровать снотворное у отца
- с прикроватной тумбочки у окна.
- Слишком громко в доме стучат сердца,
- слишком шумно идут пузыри со дна.
- Пробираться на цыпочках в темноте,
- постаравшись хозяина не будить.
- Ждали новых времён, а пришли – не те.
- И о них теперь не тебе судить.
- Ночь вращает тяжёлые жернова,
- в порошок истирая чертополох,
- истончая на звуки мои слова,
- сокращая дыханье на краткий вздох.
- Стоит лишь преступить закон,
- как за ним начинается благодать.
- Откажись от книг, сторонись икон.
- А не можешь жить – начинай летать.
Ментальный полёт Месяца длится, несмотря ни на что: Месяцчеловек не может жить социально, обывательски, как все, и поэтому Месяц-поэт летает.
РАССВЕТНЫЕ СТРАХИ
- Когда тянулся тщетно взять взаймы
- любви и силы у того, кто любит,
- чтоб на дорогу выбраться из тьмы,
- уверенный, что утро не наступит,
- и раскрывая окна впопыхах
- в пролётных поездах и сирых дачах,
- я отпускал на волю древний страх,
- потерянный в дешёвых неудачах,
- бросал монетки в чёрный ствол ружья,
- будто в земной бессмысленный колодец,
- не отличая собственного «я»
- от записных уродов и уродиц,
- но утро наступало, как всегда,
- и возвращало на места предметы,
- и холодела в озере вода,
- и на земле, как сон, кончалось лето.
У Вадима Месяца есть несколько стихотворений «про меня»: узнаёшь себя – и вздрагиваешь, осматриваешь себя, оглядываешь окрестности и понимаешь, с какой силой мы сталкиваемся, когда поэзия врастает в нас и когда поэзия уходит из нас. Я знаю очень немногих (а это О. Мандельштам, И. Бродский, их предшественники Ф. Тютчев, Е. Баратынский, и подревнее – Г. Державин, В. Жуковский и непревзойдённый Иван Семёнович Барков), кто «бросает» своими стихами бесконечный, вечный и плодообещающий вызов одновременно бытию, инобытию, интербытию; звучанию фонетическому, полёту стиха музыкальному, любой онтологически оснащённой мысли; социальноинтеллектуальной жвачке, а главное, бесплодной актуальности, литературности и обобществлённости поэтической интенции, которая перерождается в версификаторскую импотенцию. Месяцевская поэтическая скороговорка – неповторима, убедительна и действенна: она подгоняется, разгоняет до высочайших скоростей мышление читателей и коллег.
- Я корову хоронил.
- Говорил сестре слова.
- На оплот крапивных крыл
- упадала голова.
- Моя старая сестра,
- скоро встретимся в раю —
- брось на камушки костра
- ленту белую свою.
Моя старая сестра – значит «вечная». Поэт вечно плачет, хороня время, поэт вечно говорит слова – они и есть наше время, поэт вечно опускает голову на грудь, упираясь затылком в звёзды, поэт вечно в раю со своей бессмертной сестрой/поэзией, бросающей белую ленту на раскалённые камушки костра.
ЮРИЙ КАЗАРИН
поэт, доктор филологических наук, профессор
Из сборника
«Календарь вспоминальщика» (1992)
Любовь гнома
- Синица, синица, давай жениться.
- Открою форточку – жду невесту.
- Я подарю тебе белую нитку.
- Ты мне – зёрнышко манны небесной.
- Нитка – это твои наряды.
- Зёрнышко – наше с тобой угощенье.
- Свадьба – это моё утешенье.
- Понятно?
- Лапкой ты отпечатаешь крестик.
- Пальцем я отпечатаю нулик.
- Не улетай после свадьбы, невеста.
- Песенку спой, чтобы я улыбнулся.
Зимний вечер
- Красным солнечным лучом
- бродит свет по тротуарам.
- Тот, кто стал сегодня старым,
- забывает, что почём.
- Сколько стоит разговор
- с незнакомцем из трактира,
- если с брюк своих полмира
- он стряхнёт, как будто сор.
- Если кружкою пивной
- завершив свой путь, отныне
- наши прежние святыни
- вдруг получат выходной.
- И неясно, почему
- старше став рублей на десять,
- ничего уже не взвесить,
- не прикинуть по уму.
- Лишь бы праздновать легко
- эти новые утраты,
- улыбаться виновато,
- что зашёл так далеко.
Воздушный шар
Моему деду,
воздухоплавателю по призванию
- Старик мой делал воздушный шар.
- Я ждал и воображал,
- как буду сверху разглядывать город.
- – А скоро взлетим? – Конечно скоро.
- Старик мой делал вертолёт.
- Для этого мы долбили лёд
- для аэродрома около дома.
- Вертолёт во дворе – очень удобно.
- Старик мой делал межпланетный корабль.
- Покинуть эту планету пора бы.
- Но мы чего-то не рассчитали.
- В тот раз нам не хватило стали.
- Так было всегда – что-то мешало.
- Но мы опять начинали сначала,
- не замечая в работе и шуме,
- то, что я вырос. То, что он умер.
- Остался лишь сюжет разговора.
- – А скоро взлетим? – Конечно скоро.
- И я жду и воображаю.
Холостяцкая песенка
- В густом рассоле дышат караси.
- Мой дедушка храпит на небеси.
- Но два оживших снова колеса —
- в движение приходят телеса.
- Мы жалкие глотатели воды,
- мы шлёпаем по стеночкам следы,
- пока в стеклянных банках зелен лук,
- пока ушами слышен птичий стук.
- Ты верно понимаешь лишь одно,
- животно презирая полотно:
- мурлыкают в утробе голоса —
- в движение приходят небеса.
- Мы жалкие хвататели слюды,
- мы держим сковородки у плиты,
- пока нам вяжет сеточки паук,
- пока нас не подвесили на крюк.
Сообщник
- Создание причёски
- по линиям лучей,
- по компасу и направленью ветра:
- ты ёрзаешь – что может быть скучней,
- чем не вставать полжизни с табурета.
- Что может быть сомнительней цветов,
- швыряемых всю жизнь тебе под ноги,
- но я, как прежде, дьявольски суров,
- не внемлю ни мольбам, ни указаньям,
- натягиваю парус, строю замок,
- прокладываю длинные дороги,
- хотя богиней стать – удел немногих,
- а ты мечтаешь, только б выйти замуж.
Души бездорожья
Сергею Тендитному
- Ты ли, Боже, бросил дрожжи
- в наши души бездорожья,
- в наши годы безвремéнья,
- размывающие возраст, —
- кто-то скажет: день был прожит,
- он – ступенечка старенья,
- только это будет ложью.
- Просто мы сжигали хворост
- и корявые поленья,
- изучая суть явленья,
- чтоб забыть его ещё раз.
Старец из китайского фарфора
- Старец из китайского фарфора —
- путешественник в сумочке дамы.
- Она едет с любовником Жаном
- из Парижа в Париж дилижансом.
- А старец лежит вверх ногами,
- и ему их роман безразличен.
- Он надеется – то, что в Париже
- поставят к окошку поближе
- его согбенное тело.
- И он будет глазеть то и дело
- на торговцев рисом и перцем,
- на китайцев, индусов и персов.
- Но любовники из Парижа
- никогда и не выезжали.
- Они едут в своём дилижансе
- из Парижа в Париж уж полжизни.
- И полжизни лежит вверх ногами
- из фарфора китайского старец.
- И не знает, что он не китаец
- и мечте его сбыться не скоро.
Мюнхгаузену, знаменитому вспоминальщику
- Барон, вы в том же домике
- с цветком на подоконнике
- или переехали в другое государство?
- Все по приезде в Бельгию
- по магазинам бегали —
- я ж вас найти пытался.
- Барон, судьба изменчива,
- но с вами та же женщина
- живёт и гладит брюки?
- Когда я был в Голландии,
- мы сами брюки гладили,
- щадя тем самым женское достоинство подруги.
- Не знаю, с той ли дамою,
- но книгу ту же самую
- читаете вы на двадцать восьмой странице?
- Когда я был в Уэльсе,
- с каким-то пэром спелся,
- который убеждал меня вас посторониться.
- Забыть мне вас советовал,
- и только после этого
- я понял, что вас нечего искать по заграницам,
- что вы всё в том же домике
- с цветком на подоконнике
- и булки хлеба крошите воронам и синицам.
Калиостро
- Зима сгребла в охапки старый рынок,
- дома, дворцы, кибитки печенег.
- Мои дворы устали от поминок,
- и тлеет космос искорками в снег.
- Грядущий день в причёске из соломы
- стоит у штор, как любопытный паж.
- Верхом на спичках важно едут гномы,
- теперь они запомнят шёпот наш.
- На медных блюдцах, лампах, дверках шкафа
- проступит навсегда ушедший век.
- Вскипает ртуть в живых ладонях графа,
- в глазах летит полночный, жёлтый бег.
- Ты достаёшь пузырчатые колбы,
- железки, склянки, мёртвого ужа, —
- ещё вчера доверчивые толпы
- склонялись пред тобою, чуть дыша.
- И я давно хочу остаться с теми,
- кто слушал звон медлительных колёс.
- И променять своё сухое время
- на сладкий век совсем солёных слёз.
- Но вот сквозь окна с мутным пузырём
- мы вновь глядим, покуда вечность длится,
- на Петербург, оставленный сновидцам,
- мерцающий неоновым огнём.
- Становится светлее синева,
- простую плоть приобретают тени,
- губами произносятся слова,
- и нежный шёлк стекает на колени.
- И пальцы греют лёгонький фарфор,
- что мчит по кругу вдоль имён забытых,
- должно быть, не надеясь до сих пор
- расслышать нас, живых и неубитых.
Императрица и её гости на Волге
- Мы врезались прямо в стаи рыб,
- бьющихся ершистыми боками.
- И по палубам дощатый скрип
- пробегал крутыми каблучками.
- Жестом, проливающим вино,
- собирая вечных попрошаек,
- крошки разлетались в клювы чаек,
- так и не ухвачены волной.
- Озирая миллион явлений:
- баржи, вехи, невод с осетрами,
- взлёт совы, мелькание оленей
- и падение стволов под топорами, —
- мы ласкали взглядами леса,
- купола, ограды, спины жнеек,
- но летел, как будто сор в глаза,
- дикий, непристойно рыжий берег.
- Он, чумной, в босых следах и рыбах
- под заплесневевшими сетями,
- из густых осок бесшумно выпав,
- воду по утрам хлебал горстями.
- Бормотал на древних языках
- и, укрывшись лягушачьим илом,
- засыпал у солнца на руках,
- становясь младенчески унылым.
- Но река опять несла плоты
- брёвен, как поверженных гигантов,
- во преддверье новой красоты
- для богоподобных экскурсантов.
- Восторгаясь радугой весла,
- я читал в надменности Батыя
- на лице заморского посла,
- что ему понравилась Россия.
Нарва-Йыэсуу
- Что на море тихо и в памяти нету былого,
- беглянка шептала, и город названия Таллин,
- как мальчик на ялике, был старомодно печален,
- дразня огоньками излучину мира иного.
- И мы проходили большие послушные воды,
- навек расставаясь с привычною болью земною,
- и где-то под звёздами лёгкие птиц перелёты
- мне часто казались затейливой шуткою злою.
- Но я был владелец изысканно скрученной розы,
- и, словно увидев ребёнка дикарского юга,
- в животном её аромате толпились матросы
- и, чисто дыша, тяжело согревали друг друга.
- А утром мелькали червлёные туфли по сходням,
- и медные стрелы горели на выбритых скулах,
- и сто фотографий заморских красоток в исподнем
- ломились губами в моих крокодильих баулах.
- А вы всё шептали и кутались в нежную гриву:
- я знала, что счастье теперь никогда не вернётся.
- Запомнила только, что музыка – это красиво,
- а хлеб из печи на холёных ладонях не жжётся.
Английская набережная
- По пристанищам длинным гурьбой содвигая кули —
- на холопьих горбах синева мукомольного дыма.
- И в разбитое русло прохладно идут корабли
- на российский порог, исполинского берега мимо.
- В померанцевом сумраке мягких ночных колымаг,
- где углы истекают глухою ореховой смолкой,
- на точёном стекле умещается весь зодиак,
- навсегда завороженный вашей державною чёлкой.
- Вы слабы и роскошны, как зимний в дурмане цветник,
- только властное сердце приучено к мерному стуку:
- и трепещет во сне изувера хмельного кадык,
- и германец не смеет разинуть щербатую скуку.
- Так и дóлжно вершить тишиной повороты ключей,
- если глушь постоянства раскинута далью рябою.
- И по чёрному голубю грубо равнять лошадей,
- наезжая в спокойную стужу кулачного боя.
- Так и дóлжно хранить безучастного Севера рост,
- если призрак державы в нас горькой отчизною брошен.
- И не ведать упрека на зыбком распутии звёзд,
- где молитвенный путь, как и каменный дом, невозможен.
- И опричною кровью летящих на твой камелёк,
- вечной памятью каждой отчаянно райской дороги,
- мне мерещится верность ласкающих рыжих чулок
- и самой Катарины больные солдатские ноги.
Песня
- Полыхнёт окно прежней болью.
- Я склонюсь плечом на ограде.
- Ты встречай меня хлебом-солью
- в самом красном своём наряде.
- Шумные леса облетели,
- дальние моря расплескались.
- Не держи себя в чёрном теле,
- мы одни с тобою остались.
- Разве простынями по хатам
- ветер взаперти не гуляет?
- Детушки твои по солдатам,
- кто же нам теперь помешает?
- Женихи твои по могилам,
- и давно убит командир мой.
- Милая, зови меня милым,
- расплетая косы за ширмой.
- За венцы да новые банты
- атаман тебя не накажет.
- Пусть над ним в раю его банды
- чёрными знамёнами машут.
- Коль ему в раю под заслуги
- на три дня вручили невесту,
- на три дня до нашей разлуки
- душу горем бабьим не пестуй.
- И от разговора с обманом
- на крыльце стоять было скользко.
- И большак клубился туманом
- в ожиданье лютого войска.
Цыганёнок
- Все костыли, встающие под сердцем,
- уйдут дворами в белом молоке.
- Тебя притянут согревать и греться
- к высокой, твёрдой маминой ноге.
- Пока не повернётся с боку на бок
- кот у порога вялым сапогом,
- побегай на ходулях косолапых,
- выпрашивая дудку со свистком.
- И что до них, до первых и последних,
- горланящих, заламывая кнут,
- когда тебя в узорчатый передник
- по крохам на дороге соберут?
- Мне б чубуком еловым расколоться,
- схватить буханку умными плетьми,
- но в наших жилах растворилось солнце,
- а кудри сладко пахнут лошадьми.
«Бабьи ласковые руки…»
- Бабьи ласковые руки
- спеленают тёплый саван.
- Лягут вьюги на поляны.
- Я заплачу у окна.
- Горе нашему ковчегу,
- нашим мальчикам кудрявым.
- Видишь, пó снегу искрится
- и катается луна.
- Видишь, сердце побежало
- по голубенькому блюдцу.
- Наливными куполами
- вспыхнул город вдалеке.
- Вот и жизнь моя проходит.
- Всё быстрее слёзы льются.
- Слёзы льются по рубахе,
- высыхают на руке.
- Заплутала моя юность
- золотым ягнёнком в ясли
- и уснула осторожно
- на соломенной пыли.
- Где мой чудный Китай-город?
- Сердце плещется на масле.
- Навсегда угомонились
- под снегами ковыли.
- В Китай-городе гулянка,
- девки косы подымают,
- оголяют белы плечи,
- губы добрые дают.
- А в раю растут берёзы,
- а в раю собаки лают,
- по большим молочным рекам
- ленты длинные плывут.
- Ах, куда же я поеду,
- светлый мальчик мой кудрявый,
- за прозрачные деревья
- в лёгком свадебном дыму.
- Поцелую нашу мамку
- и за первою заставой,
- словно мёртвую синицу,
- с шеи ладанку сниму.
- Верно, я любил другую,
- наши праздничные песни
- помяни печальным словом —
- я прожи́л на свете зря.
- Новый день трясёт полотна,
- ветер стукает засовом.
- И соломинка по небу
- улетает за моря.
«В сторожке летели недели…»
- В сторожке летели недели.
- Мы только на олове ели.
- Крапивою пахли пиры.
- Сквозь невода длинные щели,
- как нищенки, рыбы глядели,
- и кутались в шали бобры.
- Но словно трухою играли,
- ворочались и замирали
- холёные руки в шитье.
- Шептали полынные чащи:
- твоё одиночество слаще.
- Вода остывала в бадье.
- Вот так и прожи́ли случайно,
- а матушка тихо и тайно
- сама целовала дитя.
- Дышала в лицо черемшою,
- и женщиной, будто чужою,
- бывала со мною шутя.
«Говорила, станешь паном…»
- Говорила, станешь паном.
- Счастье – только мне ли?
- Над холодным океаном
- птицы грустно пели.
- Над холодным океаном
- поднимался парус.
- Говорила, станешь паном —
- я с тобой останусь.
- Я глаза твои закрою,
- я тебя утешу.
- Над высокою свечою
- образок повешу.
- Пожалею Бога Сына,
- только встанет зорька,
- вылью воду из кувшина
- и заплачу горько.
Кузбасский посёлок
отцу
- На белом свете, в дальнем далеке́,
- на празднике цветов в шахтёрском городке,
- где птицы с горьким щавелём дружили,
- где плачет мастерица в туесок
- и пёстрая лошадка греет бок.
- А нас поцеловали и забыли.
- И мы гуляем с куклой на полу,
- и так тепло – и скоро быть теплу,
- неслышному, как матушкины слёзы.
- На станции гармоника дурит,
- и возле костыля сапог блестит,
- черно и жадно дышат паровозы.
- Всё так давно и будто не про нас.
- Мой милый, добрый день – весёлый час,
- нам снова ждать то счастья, то парома.
- И плачется, и верится едва,
- и нет ни простоты, ни воровства.
- Была война. А мы остались дома.
Memento на дачную тему
- Ёжик, ёжик, мы умрём?
- Мне сказали, что я добрый.
- Из земли уходит лето.
- Остывают пятаки.
- Нас отпустят по воде.
- Я лицом на скатерть лягу.
- Ты свернись в цыганской кепке.
- Поплывём и поплывём.
- Осень, бедная вдова,
- разбросай свою солому
- всем охотникам под ноги,
- дождевых червей укрой.
- Мне сказали, что я злой.
- Мне, наверно, повезло.
- Я уехал не простившись,
- не поверил, не признался.
- Я случайно соль рассыпал
- в вашей даче на столе.
- Я не помню, что когда-то
- говорил с печальным зверем.
- Чёрно-белый фильм вертели,
- длинный чёрно-белый фильм.
Песенка сквозняка
- Дающие обещания
- хранят не молчанье, а золото.
- Ищут поляны щавеля,
- вступают в озёра холода.
- Спешат в перепады, в полосы,
- под птичьим мельканьем прячутся.
- Не спрашивают вполголоса,
- когда им судьба назначится.
- Для них больше нету времени
- царями быть, пилигримами,
- причислиться к роду-племени,
- остаться навек любимыми —
- их радуют только мельницы,
- где тихо пшеница падает,
- за то, что вот-вот изменится
- всё то, что сегодня радует.
- Зачем же ты, моя дальняя,
- фонарь на двери привесила?
- Свистеть в пустоту нахальнее
- и даже весело. Весело.
Календарь вспоминальщика
- Календарь вспоминальщика, наоборот,
- отворил мне не новый, а старый год:
- были счастливы – от людей в тени
- каждый час под куриным крылом храни.
- Не получится – станешь ветер звать;
- может, к лучшему – молодым опять?
- – Только ворохи писем по тебе.
- – Только шорохи во печной трубе.
Из сборника
«Выход к морю» (1996)
Джефферсон-стрит
памяти Евгения Пельцмана
- Ещё пара недель молчания
- в пустой квартире за
- океаном,
- пятьсот киловатт-часов света
- и полкило сигарет —
- и я смогу позвонить другу Гарри,
- и вновь петь с ним
- дворовые песни,
- невзирая на шутки телефонисток,
- на ужасные денежные счета.
- Наплевав на то, что один из нас
- ещё не умер.
Воспитание иголки
- Как по городу под шорохи метлы
- похожденья старой штопальной иглы,
- так и катится по жизни прежний страх,
- всё пытаясь что-то вспомнить впопыхах.
- То закатится в засохший водосток,
- на подошве проскрипит, будто песок.
- То, сверкнув железной дужкой за углом,
- прикорнёт у глупой птицы под крылом.
- То ли просто ночью с неба упадёт,
- наугад к знакомой улице прильнёт —
- к стёртым камушкам и лестницам пустым,
- рассыпаясь прежним звоном золотым.
- Тихой шуткою, что вечно на слуху,
- давней славой, извалявшейся в пуху, —
- все мы что-то обещали, да ушли,
- потерявшись где-то в уличной пыли.
Убежище
- Собачьего вальса глухие шажки
- в окне над откосом фабричной реки,
- устало, как звуки кроватных пружин,
- плутают в клаксонах проезжих машин.
- Уже увядает продажа цветов,
- ненужная роскошь для жаждущих ртов,
- в последний разок поглядев свысока,
- уходит за ставни сырого ларька.
- Мне трудно понять – я в гостях или нет,
- но, судя по облику старых штиблет,
- привычных и к этим пустым мостовым,
- я мог бы считаться отчасти своим.
- Обычная хитрость жить в разных местах,
- подолгу стоять на вокзальных мостах,
- чтоб, спутав по новой свои же пути,
- ты мог поклониться и тихо уйти.
- Холодная осень забытых вещей,
- заляпанных в юности модных плащей,
- где всё намекает в плену серых луж
- поверить опять в возвращение душ.
- Трамваи, везущие жёлтую муть.
- Мой голос, теряющий всякую суть.
- Огромная почта с последним письмом,
- там, где мы с тобой этот дождь переждём.
Черноморская песенка
- Ах, матросик в синей матроске,
- по прибрежной морской полоске
- погуляешь ли, просто присядешь
- отдохнуть на сырые доски?
- Что до пива в тяжёлой кварте,
- крупной ставки на биллиарде,
- коль цветными кругами по пыльной воде
- расплывается мир по карте?
- Что запомнится в разговоре
- с пассажиркой в ночном Босфоре —
- неужели и вправду, согласно судьбе,
- в каждом мире есть выход к морю?
- Ты рисуешь слова в кроссвордах,
- будто знаешь повадки мёртвых.
- И у них от досады за глупый ответ
- не колышется кровь в аортах.
- И потом, огибая лужи,
- ты проходишь насквозь их души.
- От лукавых улыбок, глядящих вослед,
- лишь к рассвету краснеют уши.
Вифлеем
- Сарайчики, вышки, домишки, дома,
- невестка, золовка, свекровка, кума.
- Словечки из песен развеются в дым,
- как только их скажешь одно за другим.
- Шумит, как скворечник, железная печь.
- Никто нас не сможет с тобой уберечь
- от прядок, повадок, укладок в постель,
- от вечных подглядок в замочную щель.
- И кажется, сделаешь первый глоток,
- а там и столетье исчезло в песок.
- И где-то за кромкой глухого ума —
- зимовье, безмолвье, вселенская тьма…
- И завтра нам нужно идти в Вифлеем.
- Попробовать всё разлюбить насовсем.
- И замкнутым кругом измеривши твердь,
- с прощальным испугом на небо смотреть.
«Тронуть шторы пыльный кокон…»
памяти Марины Георгадзе
- Тронуть шторы пыльный кокон,
- вспомнить ради глупой шутки,
- сколько раз за жизнь вдоль окон
- мимо пролетали утки.
- День бескрайний начинался,
- тут же в памяти оставшись.
- И ты вновь навек прощался,
- так ни с кем и не встречавшись.
- Видел в небе птичьи стаи…
- листья… снег… флажки вокзала…
- засыпая… исчезая…
- Но ничто не исчезало.
- Тот же быстрый взгляд ребёнка,
- убегающий из кадра, —
- и вот-вот тебе вдогонку
- хлопнет дверь кинотеатра.
«Это в памяти и вечно на слуху…»
- Это в памяти и вечно на слуху:
- на далёкий путь врывается состав.
- Замирает, рассыпается в труху,
- за собой двенадцать жизней наверстав.
- Так и каждая счастливейшая весть,
- в нежных пальцах превратившаяся в ложь,
- погибает, понимая, что ты – есть
- и, как прежде, глядя в полночь,
- что-то ждёшь.
Опыты со снегом
- Под вечер город сделался скрипучим,
- словно под ухом жёсткое перо
- бессонницы, и можно слышать
- хруст снега,
- семейные прогулки стариков
- (которым тоже до сих пор не спится)
- или трёхногий бег смурных дворняг.
- Наверно, лучше оставаться дома.
- К тому же холод, всюду грабежи,
- по крайней мере судя по газетам…
- А если и враньё, то всё равно
- у тётки нет билетов на трамвай.
- Если идти, то только на проспект.
- Сперва в один конец, потом обратно,
- гадая, почему губернский воздух
- так пахнет разворошенным костром.
- И, может, стоит вспомнить о любви.
- Под фонарём уютно, как на кухне.
- Здесь к тишине приучены с рожденья
- и разве что приезжего бьёт страх.
- Зимою город – как военный плац,
- такой же жадный до любого звука,
- что стоит чиркнуть спичкой посильнее —
- и где-то передёрнется затвор.
- Поэтому гуляем не спеша.
- Желательно – на войлочной подошве.
- Оставив в стороне приют вокзалов,
- казармы и родильные дома.
Злые дети
- От медной монетки, щепотки света,
- упавших когда-то на дно колодца,
- вода, вспоминая про Архимеда,
- однажды тебе на ладонь прольётся.
- Песок обратится ржаной мукою,
- устав рассыпа́ться на мокрых плёсах.
- Попробуй на это махнуть рукою,
- легко затеряться в чужих вопросах.
- Не всё ли равно, кто построил город,
- на благо сложив свои белы кости?
- Покуда поэт остаётся молод,
- он может поехать в любые гости.
- Есть люди, чьи корни питает воздух,
- лаская их до ледяного срока,
- но и на суде при усталых звёздах
- они не заслуживают упрёка.
- Поскольку для памяти всех столетий,
- что кружит, как голубь, на вольной воле,
- дороже всего эти злые дети,
- не знавшие век безысходной боли.
До свидания
- Я скажу до свидания каждому кораблю,
- каждой птице, собирающейся на юг,
- каждой девушке, которую полюблю.
- И безвольно выпущу из рук.
- Мне не хватит ни молодости, ни простоты
- признать за собой какую-нибудь вину.
- Вот и осень расшвыривает листы,
- укрывая и эту страну.
- И ветер баюкает – большего не проси,
- погружая жилище в глухую тьму.
- Если свадьба играется где-то на небеси,
- её не слышно в твоём дому.
- Я не знаю, кто здесь останется навсегда,
- а кому потом предстоит бесконечный путь.
- Но на свете уже есть города,
- где мне никогда не уснуть.
- Я готов, если нужно, назвать их число,
- имя каждого города, где любил.
- И можно считать, что мне сказочно повезло,
- раз прочее позабыл.
Угловой дом
- Я дружил с вентилятором
- по лётчицкой давней привычке,
- раздражал солнечным зайцем соседей напротив,
- хотя хорошо понимал, что после обеда
- они начнут раздражать меня тем же самым.
- Это было похоже на равноправность дуэли.
- Но, несмотря ни на что, наш дом был особым.
- Из-за ласточек. Только на наших карнизах
- они делали свои круглые гнёзда.
- Напротив были студенческие общаги.
- Там тоже каждый год кто-то гнездился,
- швырял наружу магнитофонную ленту,
- обливал водой из ведра случайных прохожих.
- Да что про то говорить. Вы, наверное, в курсе.
- Это был самый клёвый город на свете.
- Всё было рядом. Сокровища в чёрном подвале.
- Загадочный клуб покорителей дельтаплана.
- Река в конце улицы. Морг судмедэкспертизы,
- где я влюбился в голую мёртвую даму.
- Здесь выгодней было казаться аборигеном.
- Я с детства знал наизусть все винные точки
- и давал консультации приезжающей молодежи.
- Мой дед работал инструктором лыжной базы.
- Мои друзья умели сбивать кедровые шишки.
- Мой брат-близнец утонул в унитазе роддома.
- И, если учесть, что я не должен был выжить,
- мне сам Господь велел заниматься чем-то забавным.
- Вот я и мечтал стать великим Робертом Плантом,
- непревзойдённо визжать перед сонмом поклонниц,
- разрывать на себе шёлковую рубаху.
- Я им не стал. Будем считать, что так лучше.
- Но теперь, после всего, что случилось,
- я нахожу в сундуке забытые письма.
- Они про любовь. Хотя невозможно вспомнить,
- кто их написал и за какие заслуги.
- Я ощущаю себя смешным стариком Казановой.
- Кто-то умер. Остальные стали чужими.
- Я почему-то остался по-прежнему счастлив.
- Должно быть, поэтому мне сейчас так тошно.
Невидимые встречи
- В тумане возрастает скорость звука,
- поскольку больше не видать ни зги,
- нам начинают слышаться шаги
- приехавшего на свиданье друга.
- Как он, спеша, проходит виадук
- и около ларька шуршит деньгами.
- И время разбегается кругами,
- предвидя сердцем каждый новый звук.
- Капель из крана, бабушкин сундук,
- скрипящий чешуёй сухого лука.
- И только слёзы, музыка и вьюга
- способны заглушить такой испуг.
- В тумане, как во сне, не счесть разлук.
- И тем дороже слушать до рассвета
- какой-то звонкий смех с другого света,
- гул поездов, катящихся на юг.
Саванна
- Водянистой медузою станет морской пират,
- смытый за борт фрегата коварной морской волной,
- чтобы через столетье, припомнив заветный клад,
- распластаться по мокрому берегу сединой.
- Благородным семейством взойдёт сухопутный клан
- каторжан, что рассеялись здесь как сухой горох.
- У природы имелся в запасе беспутный план
- насмеяться над правильной связью былых эпох.
- И солдаты враждующих армий, сжимая сталь,
- продвигаясь друг к другу под грохот стальных копыт,
- вдруг привстанут из сёдел и глянут куда-то вдаль,
- чтобы тотчас застыть на опорах гранитных плит.
- Остальное явилось на днях, воплощая рай.
- И восьмой день творенья был тоже совсем не плох,
- если прямо под окнами утром гремит трамвай,
- а на ветках качается страшный испанский мох.
- Не беда, что тебя до сих пор не зовёт восход,
- вместо хижин туземцев белеет цепочка клумб.
- Но истории, верно, придётся дать задний ход,
- если к этой земле в сотый раз приплывёт Колумб.
- А пока всё, что есть, – это джинсы пяти заплат,
- горизонт, убегающий вместе с большой волной,
- городок, где, нас вместе с тобой уводя назад,
- вкусно пахнет Одессой в холодной, пустой пивной.
Сон в Сан-Хосе, почти во Фриско
- – Матушка, кто это?
- – Это шумит берёза.
- К нам возвратились деревья сожжённых гаремов,
- они выходят на берег со дна океана,
- несут тело султана.
- Никогда не слушай шёпота спящих,
- не проси пера у стрелы, просвистевшей мимо.
- Сестра ветряной мельницы и соломы,
- я тебе говорю.
- – Матушка, что это?
- – Это сжигают ведьму.
- К нам возвратились кремень и стальное железо,
- если бросить их в воду – они утонут,
- усопших тронут.
- Но знай, что ведьма всегда поднимется в небо,
- даже если укутает ноги рыбачьей сетью.
- Хозяйка трёх пуговиц и папиросы,
- я так всегда говорю.
- – Матушка, где мы?
- – Должно быть, уже в Китае.
- И китайцы к нам скоро вернутся в бумажных лодках,
- они в соседних мирах стрекозу ловили,
- вина не пили.
- Навсегда измени магнитом солёный полюс,
- собери из воды все молекулы дыма.
- Повенчай живую сову с электрической лампой.
- Так ты всегда и хотел.
Монте-Дьяболо
- Порядок жёлтых пятен и теней
- в большом сельскохозяйственном пейзаже,
- разбросанных по гладкошёрстным склонам
- овсяных гор.
- Закат похож, в сравнении с долиной,
- на бесконечно длящуюся вспышку
- Когда так много света – это страшно.
- (Латунь всегда эффектнее, чем медь.)
- Я слышал, здесь часы идут быстрее.
- Чем выше в горы – тем быстрей. Бледнее тени
- от хрупких человеческих существ.
- То ли открыть глаза, то ли зажмурить…
- Трава щекочет голени коров,
- словно босые ноги прокажённых.
- Вдоль серпантина – земляные белки
- играют с мёртвой ящерицей.
- Я
- нарочно приезжал сюда, чтоб возвратиться:
- сперва на десять дней, потом на год.
- Сначала в гости к прошлому, потом —
- к койоту на вертлявое шоссе.
- Он так бы и стоял среди дороги,
- не выражая голода и страха,
- ни бликов сна, огня и любопытства.
- Я думаю, он там так и стоит.
- Покой всегда эффектнее, чем смерть.
- Не потому ли Дьявольскую гору
- назвали так за странную любовь
- к бескрайним взглядам и
- нагроможденьям солнца?
Русский путешественник (1)
- Перепорхнув над синими лесами,
- цикада заселяет старый флигель.
- И на устах злодейки трель да гибель
- альпийскими ликует голосами.
- И горожане, кутаясь в постели,
- уходят в тайны прошлого щекою.
- И только нас её пустые трели
- зовут не верить в искренность покоя.
- Они торопят ночь, будто цитата.
- И в ней никак не вычислить подвоха,
- когда во тьме не видно циферблата,
- но наступила новая эпоха.
- А вот и церкви звонницы качнули,
- по городкам летя в иные дали —
- как будто мы кого-то обманули,
- раз до рассвета очи не смыкали.
- И даже не надеясь на беседу,
- мечтая в нежный Цюрих возвратиться,
- мы принесли цветы на двор поэту —
- и Лафатер запомнил наши лица.
- И я, простившись с вечностью в долине,
- ушёл к мельканью ласточек в утёсах,
- забыл молитвы, грешные отныне,
- и отпустил по ветру лёгкий посох.
Русский путешественник (2)
- Мимо лестниц, мимо мокрых простыней
- длится старый, длится новый коридор.
- В лабиринтах жизнь становится длинней,
- перед тем как снова выйдешь на простор.
- И на глупую прогулку в сотый раз,
- кое-как набравшись храбрости во сне,
- ты пускаешься, не поднимая глаз,
- чтоб не видеть прорезь неба в вышине.
- Ничего тебе, увы, не говорят
- эти вывески и стрелки по углам.
- Ты не веришь, что воротишься назад,
- но идёшь как бы по собственным делам.
- И, расслабленно теряясь в пустоте,
- в тупиках уныло путаешь следы.
- Всё равно вот-вот протиснешься к воде.
- Ни одной нет больше лодки у воды.
- Лишь касаясь постаментов и витрин,
- волны что-то предвещают вразнобой.
- То ли гвельфы встанут с шёлковых перин,
- гибеллины в город ринутся гурьбой.
- То ль над ухом жадно щёлкнет хищный клюв,
- полыхнёт вдогонку ветреный пожар,
- то ль в огне раскрытой двери стеклодув
- твоё прошлое вдохнёт в прозрачный шар.
- Бедный варвар, убежавший от своих,
- разоривший Аквилею в пух и прах,
- всё мечтаешь, как остаться бы в живых
- в этих тонущих, бессмертных городах.
Из сборника
«Час приземления птиц» (2000)
«До рассвета ласточке влюблённой…»
Ласточке
- До рассвета ласточке влюблённой
- выдан отпуск в дождике метаться,
- сквозь косой туман воздушных просек
- вылетать морянкой да ищейкой.
- Знаешь, если думать без истерик,
- то покой берётся ниоткуда.
- Я всего лишь ветреный матросик,
- так же невпопад одушевлённый;
- лёгкий, будто сшитый белошвейкой,
- в первый раз сходя на новый берег,
- не смогу ни встретить, ни расстаться,
- скользкие деньки свои забуду,
- раз уж мне вернуть не довелось их.
Свадебное путешествие
- Взяв дугу горизонта наперевес,
- солнце врезáлось в столетний лес,
- и я самый грешный из наших дней
- отсекал до корней.
- Вдоль по склонам проскакивали бугры,
- словно голые ржавые топоры.
- И, обернувшись, каждый куст
- рассыпáлся в хруст.
- Я ехал, я так любил тебя,
- чтобы в сердце билось два воробья,
- чтобы мой позавчерашний храп
- убегал, как от хозяина раб.
- По протокам проскакивали угри,
- точили низ ледяной горы,
- а потом кукушкино яйцо
- бросали под колесо.
- Рассвет стоял в ветровом стекле,
- он был единственным на земле,
- он выползал, он тщедушил бровь.
- У него была кровь.
- И я не дышал, как на море штиль,
- завернув тебя в небольшой наряд,
- я вёз твою матку за тысячу миль.
- Много дней подряд.
- Она там плыла, как лицо в серьгах,
- в фотографических мозгах,
- как царевна в серебряном гамаке.
- Раскачиваясь в глубоке.
- Из морей выпрыгивали киты,
- и глубины на миг становились пусты.
- И цветастые клéвера вороха
- вплетались в коровьи потроха.
Голограмма
- Нет солёнее ветра, чем суховей.
- У океана лишь два лица.
- Одно – в дуге молодых бровей,
- другое – в оспине мертвеца.
- На земле есть россыпь цветных церквей,
- все похожие на отца,
- словно женщины, судьбой своей,
- выходят из-под резца.
- Земля черепиц, черепах, червей
- копошащаяся пыльца,
- пред которой сколько ты ни трезвей,
- всё равно упадешь с крыльца.
- Неизвестно, каких голубых кровей
- в лесах – нету им конца, —
- надрывается трелями соловей.
- Он не вылупился из яйца.
Shell beach
- Лес бы совсем одурел, собрав междометья
- наших бесед. И я вспоминать не стану.
- Проглоти моё сердце. И я не замечу.
- Только выведи меня к океану.
- Разбери бурелом, взломай телесные клети,
- доведи до последнего часа в этом столетье.
- Они падали накрест, они проспали столетья.
- Их стволы тянули слезу в трухлявые трубы.
- Сколько буду идти, столько буду стареть я.
- Иди рядом со мной. Подожми свои губы.
- И, сорвав с паутин очертания птицы и крысы,
- мы прошли сквозь кулисы.
- Мы разгладили травы. Легли животами в скалах.
- Стало ясно, что чему соприродней.
- Океан ворочал глазищами в мутных обвалах,
- он поднимал горбы в битых кристаллах.
- И только далёкий огонь корчмы новогодней
- выделял место души во всей преисподней.
- Он расширял свой объём в неизмеренной лени,
- купаясь в корыте слепым большеногим младенцем.
- Безгрешные раздвигались его колени,
- ломая пастушьи миры с соловьиным коленцем.
- И четыре зрачка, опустившие взоры с карниза,
- ждали очередного его каприза.
- Он сушил свои крылья на безымянных утёсах,
- пятернёй на них выцарапывал своё имя.
- Истоптанный виноград на крестьянских лозах
- топорщился, изливаясь сквозь чёрное вымя.
- И, навеки смыкаясь с таким же рыбачьим небом,
- он делал луну просолённым хлебом.
- У него были плоские лбы, наподобье налима.
- Он вытягивал к берегу илистые ладони.
- Его тело было настолько необозримо,
- словно солнце, рассыпавшееся на троне.
- Он купал на волнах одного за другим великана.
- Он был океан, где другого нет океана.
- И две головы свешивались с вершины,
- в ужасе кипящей под ними первопричины.
- С Новым годом. Теперь совсем с Новым годом.
- Мне было не страшно лежать на самой кромке.
- Мы становились с тобою другим народом,
- звёзды глядели в затылок нам, как потомки.
- Двенадцать пробило, вниз сорвались перила.
- И наши глóтки стали остры, как вилы.
- Ты захотела смерти. Я помню кожу,
- влажную, земноводную. Помню отвагу,
- сжимающего ту, что всех дороже,
- со злостью комкающего эту бумагу,
- пытающегося вернуть безмерности твердь размера.
- Потом стала светлей земли атмосфера.
- Мы забыли, как мы царапались, извивались,
- перевалив через рубеж бесконечно малых.
- Отряхая с себя песок, мы извинялись
- перед солнцем, встающим на пьедесталах.
- Но наши глаза ещё были полны прохлады.
- Пробуждение – всегда чувство утраты.
- У нас под ногами раскидывалась долина.
- В ней чувствовались превосходство или лукавство.
- Лоза копила в корнях золотые вина.
- Нам пчёлы несли в жёлтых ложках своё лекарство.
- И была темнота, как разверстая грубая рана.
- И океан, где другого нет океана.
- Так что с праздником тебя, с Новым годом.
- Мы учились становиться совсем ничьими.
- Я в саранче кромешной, перед исходом,
- успел ещё один раз повторить твоё имя.
- Я вернулся, я возвратил тебя с вечного фронта.
- Я сумел различить над водой черту горизонта.
Сердце-пастырь
(Новый Брегам Янг)
- Около дома когда-нибудь встанут горы.
- И за ними бескрайние лягут степи.
- Словно строфы Завета в сцепленьях Торы,
- из расщелин небес загрохочут цепи.
- И устами пророка и конвоира
- сердце скажет паломникам прежних судеб:
- «Я вело вас сюда, в середину мира,
- оставайтесь, никто вас здесь не осудит.
- Здесь ещё не родился огонь сомненья,
- как младенец, спелёнутый горьким стоном.
- И любое Господне моё веленье
- станет вечным для вас законом.
- Я не дам вам ни пороха, ни коровы.
- Пейте воду, пеките хлебá из пыли.
- Не ищите для крови другой основы —
- оставайтесь такими, какими были.
- Вы ушли и плутаете в сновиденьях,
- но теперь я для вас выбираю место
- средь заснеженных скал и холмов осенних
- вместо стран и планет, океана вместо.
- А потом я уйду, куда вы не в силах,
- стиснув зубы, идти по пятам за мною,
- оставляя одежды домов постылых,
- наедине со своей виною.
- И, тревожно качая путей помосты,
- я забуду вас, будто детей пустыни.
- И увижу, что в небе сгорели звёзды.
- И пылает костёр на чужой вершине».
Дельта
- Существует такая бескрайняя местность:
- песчаные плёсы, речные архипелаги,
- большая вода, уходящая на север,
- куда-то в безлюдность,
- в затерянность,
- в неизвестность.
- Она забирает попутно несчётный мусор,
- замшелые лодки, рыбацкие снасти, флаги,
- из губ разомлевших коров обронённый клевер,
- предпочитая всему одно – двигаться мимо
- тебя ли, меня;
- уносить наши взгляды,
- как шорохи хищных птиц, горький запах дыма,
- ибо взгляд над рекой сам собой означает честность,
- а мусор имеет привычку тянуться к влаге.
- Пожалуй, я помню об этом – припоминаю,
- хотя и смущён отдалённостью той прохлады,
- а спроси меня, что есть дом,
- я скажу: не знаю,
- спроси меня, что есть путь,
- я скажу: не знаю,
- только имя своё запишу на клочке бумаги.
Обряд
- В молитве сдвигает ладони метель.
- Окно превращается в узкую щель,
- вставая один на один во весь дом
- с ночной пустотою в проёме дверном.
- Часами, не зная предельных границ,
- растёт напряжение стен, половиц,
- пытаясь объять от угла до угла
- всему безразличную сущность тепла.
- Когда, отмелькав по дневному лицу,
- жилище запретно любому жильцу —
- душа, выполняя обряд старшинства,
- зиме возвращает былые права.
Зимний дендрарий
- Чердаки заполняются птицами, как притоны.
- Города умещаются в жизнь своего вокзала.
- И природа, предчувствуя наши чудные стоны,
- с головою уходит в мохнатое одеяло.
- Значит, можно опять залечь беспробудным лежнем,
- лишь бы только дожить до рождественского подарка.
- Если что-то и говорит о совсем нездешнем,
- то названья деревьев из городского парка.
- Там, где прячутся на ночь за десятью замками
- меловые дорожки, пустые дворцы беседок.
- И огонь больших фонарей, разбегаясь кругами,
- приглашает кого-нибудь пройтись напоследок.
- Пьяный сторож обходит дозором залежи снега,
- соблюдая с привычной прилежностью свой сценарий,
- охраняя то ль от половца, то ль от печенега
- драгоценный, уже истлевший гербарий.
- И колючих кустарников ледяные каркасы,
- по-монашески сжавшись в шерстяной мешковине,
- переводят неизъяснимо простые людские фразы
- на язык ботанической, полуземной латыни.
- Каждый цветок заколочен в дощатый ящик.
- И теперь мертвецы, найдя в себе силы,
- променяв свою жалкую роль на труды скорбящих,
- должны прийти и оплакать эти могилы.
Предновогодняя прогулка по Свердловску
- Здесь бледнеет на морозе злой медведь,
- глядя вместе с медвежонком в чёрный двор,
- начиная просветляться и трезветь,
- будто грустный человечеству укор.
- И по лавкам и вокзалам круглый день,
- и на почтах, прокопчённых сургучом,
- не видение, не сумрачная тень —
- земляки пугливо жмутся за плечом.
- И по рынку рёбра конские в мешке
- громыхают, как Юровского шаги,
- что заходится в промёрзшем бардаке,
- встав во гробе, как всегда, не с той ноги.
- И на площади, где зверя след простыл,
- в приоткрытую меж временами щель,
- не щадя своих последних общих сил,
- город тянет в небеса большую ель.
- И не вспомнить, где посеял медный грош,
- только к ночи воротясь со стороны,
- если звёзды снова ждут, что упадёшь,
- лишь бы броситься всей стаей со спины.
Месть
Алёне
- Вода замыкает свои круги.
- Становится выше гора Ульхун.
- Я слышал вчера перезвон колёс,
- как будто прошло уже двести лет.
- Как будто, дожившие до зимы,
- мы были счастливы только здесь.
- Позволь мне ещё постоять в дверях,
- дай неподышать мне, пока ты спишь.
- Тебя не узнает твоя сестра,
- годами глядя тебе в лицо.
- Зачем собирать камыши со дна,
- бежать за золотым клубком?
- Твой сон выпадает из лап ежа
- на скользкий,
- прибитый морозом мох,
- где я проходил по тропинке вниз
- единственный раз, единственный раз.
- И я не знаю, о чём молчал
- твой чёрный от чернослива рот.
- Я забрал твою молодость словно вздох,
- чтоб ты и не вспомнила, был ли гость.
Табу детской комнаты
- Окно вымыли на ночь.
- Оно стало совсем холодным.
- Мне нельзя пить чистую воду,
- брать руками круглые вещи.
- Мне нужно привыкнуть к другому.
- К белой щёлочи, к чёрной марле,
- к кускам сухого картона.
- Вот и довольно свободы.
- Неизвестно, что более тщетно —
- покой или беспокойство…
- Точно так же мечтают кошки
- гладить волосы человека.
- Я готов промолчать и об этом.
- Глухота почти идеальна.
- Всё равно, о чём ты попросишь.
- Всё равно нужны только двери.
Калиф на час
- Птицы, хотя их много на одного
- тебя, присмиревшего на исходе зимы,
- могут вернуться только в родимый край,
- ни о чём не задуматься, не принести письмá.
- Их трудно назвать земляками, этих бродяг.
- Им слишком нравится солнце, а воровство —
- любимое дело всех перелётных стай,
- тем более всюду им пастбища, закрома…
- Вполне простое событие.
- Итак,
- ты волен не слушать их крики, хлопки, шумы;
- забыть осторожность, грядущее сжать в кулак,
- ничего не дождаться и не сойти с ума.
- Играют фалангами пальцев – мол, кто кого?
- Слабеют, маются, тянутся взять взаймы,
- комкают справку на вход в вожделенный рай
- рабочие руки у вышедшего из тюрьмы.
Песня
Маше Максимовой
- В городе, во столице,
- в городе первого сорта,
- выдали девицу, выдали девицу
- замуж за чёрта.
- Не за воровского чечена,
- не за старика с толстой мошною.
- Бабка Аграфена, выведи из плена,
- побудь со мною.
- Бабка, дай мне совета.
- Он видит каждое моё слово.
- Креста на нём нету,
- не сживёшь его со свету,
- а на сердце у него – подкова.
- А чресла его как мочала
- в чавканье конского мыла.
- Долго я молчала, а когда закричала —
- от простуды простыла.
- Он подарил мне алмаз на шею.
- У него друзья все – артисты.
- Если овдовею – глаз поднять не смею
- на образ Девы Пречистой.
- Он ходил по кругу кругами.
- Он кормил меня пирогами.
- В городе-столице нет другой девицы
- с белыми такими ногами.
Зима в Ливадии
- Ну а если в Ливадии снова не будет зимы —
- Если в синем батисте и легким плащом не укрыты —
- Чем ещё недоступнее, тем никогда не забыты —
- Словно вправду несчастные, тихие около тьмы —
- Если прямо с базара, не хлопая настежь дверьми —
- В дорогую аптеку, встречая немые гостинцы —
- У сухого прилавка со скрученной ниткой мизинцы —
- Не сердись, это роза, хотя бы на память возьми —
- Говори о минувшем, хоть в памяти нет ни души —
- Желторотая шельма свистящей дворовой элиты —
- Наши лучшие годы как будто из бочки умыты —
- Вспоминай, это чайная роза из царской глуши —
- Вспоминай, будто мальчик про чёрные очи поёт —
- В тишине, на коленях какой-нибудь жалобной тётки —
- Будто катятся в Ялту тяжёлые рыжие лодки —
- Только эта, под парусом, раньше других доплывёт —
- Вот и всё… и быстрее… я тоже хочу навсегда —
- Может, нас, ненаглядных, хотя бы бродяга полюбит —
- С золотыми перстнями красивую руку отрубит —
- И уйдёт, и уедет, и горе пройдёт без следа —
- И уйдёт, и уедет, хоть страшные песни пиши —
- Ни дороги… ни тьмы… ни пурги… неизвестно откуда —
- Словно срок арестанта всегда в ожидании чуда —
- Но ещё недоступнее, если любить за гроши —
- Но ещё недоступнее, чем у тебя на груди, —
- В разноцветных нарядах, чужая, сезонная птица —
- О тебе, о тебе, замороченной в вечном пути, —
- Наша лютая ненависть синему морю приснится —
- Подожди, это роза, в Ливадии нету зимы, подожди.
«Ты однажды приедешь в пустынный дом…»
Василию Лупачёву
- Ты однажды приедешь в пустынный дом,
- что, как сказочный лес, стал тебе дремуч,
- но в густой паутине над косяком,
- как и прежде, лежит серебристый ключ.
- Где-то здесь, отвязав на дворе коней,
- ты был должен остаться и вечно жить.
- Ты войдёшь в шаткий мир нежилых теней,
- для того чтоб хотя бы цветы полить.
- Вряд ли что-то теперь вызывает страх,
- что случайно найдёшь непростой ответ.
- Всё осталось стоять на своих местах,
- потому что ты не включаешь свет.
- И не нужно таиться нечистых сил,
- услыхав сладкий запах её духов,
- всё равно ты не любишь и не любил,
- заглянул на минуту – и был таков.
- Иль отыщешь перчатку, трухой шурша,
- в сундуках, где немыслим заветный клад,
- будто в ней и хранилась твоя душа,
- что оставил лет десять тому назад.
Изумрудный город
- Ночь нарастает, царит, довлеет.
- Лоб о тяжёлые окна студит.
- В доме у мужа жена болеет.
- Никто не знает, что дальше будет.
- Муж бродит один по пустому дому.
- В глазах его бродят чуткие звери
- ко всему неизведанному и чужому,
- он одну за другой закрывает двери.
- На кровать садится, берёт её руку,
- но гадать по линиям не умеет.
- Как разогнать им тоску и скуку:
- в доме у мужа жена болеет.
- Он читает ей старую, детскую книгу.
- И мурашки бегут за его ворот.
- И вдруг прозревает, сходя до крика:
- «Мы должны идти в Изумрудный город».
- И они кладут провиант в корзину.
- Уходят удаче своей навстречу.
- И горящие окна глядят им в спину
- до тех пор, пока не догорели свечи.
Рождественская считалка
- Дороги завязаны в узелок,
- в еловый венок
- у наших дверей.
- Походные трости встают в уголок,
- глядят в потолок
- на поводырей.
- Легко забывается давний зарок
- пускать на порог
- лютых зверей.
- Дай им ещё маленький срок,
- и кто был жесток —
- станет добрей.
- Пока, заблудившись, летит на восток
- утлый челнок
- в пучине морей,
- у мира родился любимый сынок.
- Пока он не Бог,
- его и согрей.
«Ты, наверно, ничего не поймёшь…»
- Ты, наверно, ничего не поймёшь,
- потому что я пишу в темноте.
- Кто-то спрятал под полой острый нож,
- кто-то вскрикнул на далёкой версте.
- Кто-то выхолил коня на войну —
- с длинной гривой наподобие крыл —
- и, приблизившись к родному окну,
- не спеша глухие ставни прикрыл.
- Если голубь залетел в чёрный лес,
- чтоб доверчиво упасть на ладонь,
- вряд ли ловчего попутает бес
- засветить ему в дороге огонь.
- Если нужно, как задумал Господь,
- променять шелка на старенький креп,
- впопыхах твой гребешок расколоть,
- наступить ногой на свадебный хлеб —
- я пишу тебе письмо в темноте,
- и гляжу перед собой в темноту.
- А до подписи на чистом листе
- я немного поживу… подожду…
Цинга
- В апреле слетает шарм с квартирных хозяек,
- со всех, с кем весело пил, счастливо братался;
- однако потом кто-то из вас
- сделался хуже —
- по крайней мере, идти на огонь уже слишком стыдно.
- За тобой волочáтся болезни прошедшей спячки:
- дорогие подарки, кусты новогодних ёлок,
- разговор с другом детства, тревожный как крик
- из шахты,
- телефонные тайны всяческих мусек, заек.
- Всё труднее быть вежливым, правильным.
- К тому же
- невозможно не видеть, сколько б ты ни старался,
- как уродство ласкает повсюду другое уродство —
- и, хотя улыбается, любит: но всё-таки видно…
- И теперь, может быть, даже тебе понятно,
- почему Гулливер, возвратившись,
- тянулся к лошадкам, гномам;
- почему ты сам, как прежде, счастлив любой подачке,
- разглядев на асфальте монетку, стекла осколок.
- После таянья снега ты тоже пришёл обратно
- в нормальную грязь, в эти рябые ландшафты
- огромной страны, где лучше быть незнакомым
- ни с кем;
- где ты принял родство и сходство;
- где жил в трёх городах. И нигде не остался.
«Только там, где сможешь ты проснуться…»
Майе Никулиной
- Только там, где сможешь ты проснуться,
- обманув испуганное время
- на секунду жизни льна, крапивы,
- на одну куриную минуту,
- торопясь куда-то в холод, в запах гари,
- в недомолвки, в отзвуки, обрывы,
- в безразлично смешанное племя,
- чтоб уже не знать,
- куда вернуться, —
- ты захочешь петь о чём-то новом,
- позабудешь вкус надежды, жажды,
- повторений ласковую смуту,
- будущие праздники, поминки:
- там тебе не верилось, что каждый
- перед смертью шепчет – благодарен.
- Только там, где сможешь ты проснуться,
- никогда последнего
- однажды,
- прислонясь к белёсому уюту,
- на окне застыв листком кленовым,
- сжавшись красным локоном в косынке,
- скомканной перчаткой











