Читать онлайн Подозревается блондинка. Детективы
- Автор: Петр Кабанов
- Жанр: Современные детективы, Современная русская литература
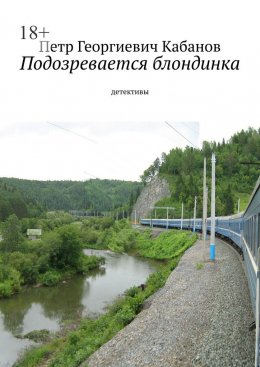
Редактор Ксения Петровна Кириченко
Консультант Александра Леонидовна Кузьменко
© Петр Георгиевич Кабанов, 2025
ISBN 978-5-0067-7887-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Подозревается блондинка
1. Рассказ автора (в поезде в наши дни)
В наше время билет на любой поезд можно приобрести где угодно, лишь бы работал интернет. И в этом году я прямо в своём селе купил билет на удобный мне поезд Адлер – Красноярск. Но чтобы занять своё место в вагоне, мне ещё надо было добраться сначала до Воронежа на автобусе, а потом на электричке до станции Лиски. Эта станция стоит на перекрёстке железных дорог. Через неё когда-то ходил поезд Харьков – Владивосток, на котором я часто приезжал сюда и возвращался в Сибирь.
Я возвращался из поездки на свою родину, в одно из сёл под Воронежем. Поправил могилы родителей, дедушек и бабушек, повидался с родственниками, встретился с одноклассниками.
Первые километры ехал с комом в горле. Сознание того, что уже не вернутся твои юные годы, проведённые здесь, и что ты уже никогда не сможешь обнять твоих родных и близких, рождает тяжёлое чувство вины. Перед глазами всё ещё были могилы, которые только что посетил. Как бы мне хотелось в эти минуты, подойти к отцу, к матери; упасть перед ними на колени, попросить прощения за всё: за то, что не всегда слушался в детстве, что не обнимал и не целовал их, что уехал из дома; за то, что не часто звонил и приезжал только раз в год; за то, что их уже нет, а я ещё есть. Но ничего уже не исправить, и никто уже не сможет меня простить.
В поезде не раз встречались такие же, как я. Однажды напротив меня сел мужчина моих лет. Внешне он был похож на артиста Михайлова из кинофильма «Мужики». Он не разговаривал, долго смотрел в окно. Я к этому времени уже немного отошёл от горечи расставания с родителями – тогда они ещё были живы. Я собрался поесть. Достал помидоры, налил в кружку чай. Мой попутчик, по идее, тоже должен был уже проголодаться, но он продолжал смотреть в окно. Я подумал: может, у него ничего с собой нет, и настойчиво предложил ему присоединиться. Он не отказался и немного поел вместе со мной. Мы разговорились. Оказалось, он был на родине и сейчас возвращается туда, где у него работа, дом, семья.
Потом он уже сам угощал меня. Жена его брата приготовила ему в дорогу много разных продуктов. И мне стало ясно, почему он так долго не хотел есть – он тогда был в похожей ситуации и чувствовал то же самое, что и я, когда садился в поезд.
Мы долго беседовали о разных вещах. Он пригласил меня к себе в гости, обещал свозить на рыбалку. Конечно, мы с ним больше никогда не встретились. Жили бы рядом, возможно, стали бы хорошими друзьями.
Но были и другие случаи. Вот так же разговорились с одним пассажиром, тоже моего возраста (мне тогда было чуть больше сорока). Я рассказал о своих переживаниях из-за того, что не живу рядом с родителями. А он сказал, что ему это странно: у него отец уехал в другой город, а сам он тоже переехал даже в другую область, и они почти не общаются.
Для меня это было дико – ведь это же родные люди.
Я не люблю купейные вагоны. В них чувствуешь себя как в клетке, особенно если попутчики попадутся неразговорчивые. А бывает так, что соседи по купе закроют шторку на окне и спят не только ночью, но и весь день. Приходится выходить в коридор и там в проходе стоять перед окном, мешая тем, кто направляется за чаем или в туалет. Поэтому я предпочитаю ездить в плацкартных вагонах. Особенно мне нравятся нижние боковые места, где, опираясь локтями на столик, можно сидеть целый день и даже всю ночь – никому не мешаешь. Здесь со своего места можно наблюдать, что происходит в вагоне и видеть, что делают соседи, что проплывает за окнами с двух сторон поезда. Здесь мимо тебя за день пройдут почти все пассажиры вагона – одни входят, другие выходят, кому-то надо за чаем, кому-то – в ресторан.
Иногда в вагоне тихо, а иной раз попадаются шумные компании.
Как-то ехал вместе с китайцами. Ими были заняты почти все боковые места. Они бегали по вагону, смеялись, что-то передавали друг другу. Я чувствовал себя сидящим на базарной площади. Когда они сошли, и в вагоне не осталось ни одного китайца, стало тихо, хотя все их места заняли новые пассажиры.
В пути часто находишь собеседника, с которым порой и сам разоткровенничаешься. Иногда доходит и до обмена адресами, хотя понимаешь, что вряд ли ещё когда-нибудь удастся встретиться. По крайней мере, у меня такого не случалось. А люди попадались разные. Большинство забываешь быстро, но некоторых помню до сих пор.
Бывает так: какая-либо встреча, переворачивает душу, и потом ты все свои поступки, так или иначе, сверяешь с тем, что узнал от собеседника: или одобряешь свои действия, или ругаешь себя за отступления от того, как надо было поступить. Такие встречи иногда подвергали сомнению всю мою жизнь, и предо мной открывались её недостатки. Хотелось сразу же начинать исправляться.
Больше всего мне нравилось в рассказах попутчиков то, как человек преодолевал препятствия в положении, которое казалось безнадёжным. Я сравнивал себя с ними, и мне казалось, что я всю жизнь был какой-то болванкой, зажатой в токарном станке, из которой жизнь вытачивала нужную ей деталь. А тут я вижу, как человек навязывает свою волю обстоятельствам и делает свою жизнь такой, какой считает нужной. Я всегда завидовал таким людям.
Как-то я был в командировке в областном центре и оказался в одном номере гостиницы с бывшим лётчиком. Мы проговорили всю ночь. Он рассказал, как однажды его самолёт упал, а сам он повредил позвоночник. Когда он лежал на операционном столе, то услышал разговор врача с анестезиологом о бесполезности операции. Наркоз ещё не успел подействовать, и у него хватило сил вцепиться в халат врача и зло сказать ему: «Давай, делай операцию!»
Через год он уже был в состоянии обходиться без врачей, и надо было решать, что делать дальше. Было понятно: летать он уже не сможет. Он стал думать, чем заняться. Пошёл в ученики к сапожнику. Научился шить тапочки, сапоги, туфли. Потом нашёл свою нишу – стал шить нестандартную обувь. Точнее, сапоги на нестандартные ноги. Посыпались заказы, чаще от жён людей побогаче (остальные как-то обходились сами). Появились деньги. В те времена мужчине без прописки в областные центры можно было переехать, только если купишь жильё или женишься на местной. У него хватило денег на покупку кооперативной квартиры в Москве. А в наш областной центр его пригласили для консультации по организации производства обуви разных размеров на местном комбинате бытового обслуживания.
Его рассказ сильно подействовал на меня: потеряв здоровье и любимую работу, он остался хозяином своей судьбы. Другой мог бы спиться, превратиться в бомжа, радующегося каждой лишней кружке пива. А ведь это самое главное для человека – не поддаваться своим сиюминутным страстям, не идти на поводу у обстоятельств, а поступать свободно. Такие люди вызывают симпатию, и у женщин в первую очередь.
Я уже давно не спал, убрал наверх матрас, поднял столик и сидел, глядя в окно. Передо мной вокзал станции Абдулино. Здесь поезд стоит двадцать пять минут. Несколько пожилых женщин с корзинами, из которых торчали бутылки с водой и булки хлеба, ходили вдоль вагонов.
Справа от меня на нижнюю полку устраивался пассажир примерно моих лет. Седые, поредевшие волосы ёжиком, без залысин. Он был среднего роста, с полнотой пожилого человека, но движения были уверенные, видимо, результат профессии, связанной с постоянным движением. Закончив стелить постель, он обратился ко мне:
– Вы не против, если я присяду?
– Пожалуйста, садитесь. Можете завтракать.
– Ну, завтракать мне не надо. Я только что из-за стола. Далеко едете?
Я назвал свой город.
– О! Я был в вашем городе. Правда, уже давно.
– А здесь живёте?
– Нет, живу я в Самаре, а сейчас еду в Красноярск к дочери. Она училась в Москве. Там познакомилась с парнем из Красноярска. Пока жива была жена, в гости ездили вдвоём. Теперь вот – один. Дочь зовёт меня к себе, но я пока ещё на ходу, и уезжать не хочется – здесь родня, друзья, знакомые. Сын рядом в Тольятти живёт. Вот когда не смогу сам передвигаться, тогда, может быть, и перееду к ней. Я на пенсии, время есть, сейчас вот по пути заехал в гости к двоюродным братьям. Они намного моложе меня, и ещё работают. Оба машинисты электровозов.
Городок небольшой – около двадцати тысяч. Обратите внимание: на каком бы удалении от Москвы ни находилась станция, местное время у большинства населения – московское. Почему? Почти все жители заняты обслуживанием железной дороги: машинисты, сцепщики, ремонтники, диспетчеры. А ещё есть категория жителей, которые на платформах торгуют во время остановок поездов. Раньше продавали выращенные самими помидоры, огурцы, яблоки, варёную картошку. Сейчас стало выгоднее покупать продукты в магазине и перепродавать их: покупатель видит, что продукты из магазина, и не боится их покупать. Правда, варёную картошку и огурцы ещё продают.
Я с детства слышал гудки паровозов, стук колёс на стыках рельсов, сигналы станционной связи железнодорожников. И даже сейчас в шуме большого города часто узнаю эти звуки. Они мне кажутся родными.
Во времена паровозов, их меняли примерно через сто двадцать километров. Такие станции назывались бригадными, потому что паровоз обслуживали бригады из трёх человек: машинист, его помощник и кочегар. На бригадных станциях они отмывались от угольной пыли, отдыхали и потом возвращались домой. Абдулино и сегодня – бригадная станция, здесь меняют электровозы. Поэтому и стоянка поездов здесь – двадцать пять минут. Электровозы за то же время пробегают в два-три раза больше, поэтому их меняют уже в среднем через триста километров. Многие бригадные станции превратились в обычные, но Абдулино сохранило своё назначение – это последняя станция в Оренбургской области, дальше – Башкирия. И следующая большая стоянка будет только в Уфе.
Посмотрите, мы как будто въезжаем в туннель. Это значит, закончилась Оренбургская область и начинается Башкирия. Сейчас выберемся на плоскогорье, и начнутся башкирские пейзажи. Их ни с чем не перепутаешь. Это большие долины, окружённые пологими холмами. То там, то здесь пасутся коровы, телята, овцы и лошади. Здесь много противотуберкулёзных санаториев, и лошади нужны для изготовления кумыса – он помогает больным.
Единственное, что мешает любоваться местностью, – это лесопосадки вдоль железной дороги. Иногда они тянутся километрами, а за ними остаётся скрытым от глаз то, что мы называем Россией. Неужели они и сейчас нужны, эти насаждения! Ведь их применяли, когда были снежные заносы. А в наше время я ни разу не слышал, чтобы где-то снегом занесло железнодорожный путь. Железная дорога стала другой: высокие насыпи, мощные рельсы, сильные тяжёлые электровозы, которым никакой буран не страшен, а вот количество лесопосадок всё увеличивается. В конце концов, можно же оставить их только с одной стороны – с той, где нечего смотреть, и убрать с той, где мешают смотреть на деревни, на долины с пастбищами и засеянными полями, на овраги и холмы. Тогда и Транссиб может стать привлекательным для туристов. Разве не интересно будет туристу из какой-нибудь маленькой страны проехать всю Россию, чтобы почувствовать её размеры? А что ему смотреть, если с двух сторон однообразные посадки! Как вы считаете, я прав?
– Да, мне тоже иногда хочется разглядеть что-то, но посадки мешают, – согласился я.
– Давайте познакомимся: Анатолий, – протянул мне руку мой собеседник. Я назвался.
Мы ещё долго разговаривали на разные темы. Потом он спросил:
– А вы знаете в вашем городе следователя Кузьмина?
– Лично не знаком, но слышал о нём.
– А я познакомился с ним почти двадцать лет назад. Я тогда работал в угрозыске, и мне однажды пришлось побывать в вашем городе. Вместе мы раскрыли одно преступление.
– Интересно. Люблю детективы. Можете рассказать?
– С удовольствием расскажу. В газете же об этом не напишут. А стоило бы.
Шум колёс усилился – мы ехали по мосту. Река Белая (Агидель, по-башкирски). Справа – высокий берег с памятником Салавату Юлаеву. На высоком постаменте – всадник с поднятой плетью. Чем-то напоминает памятник Петру I. Только заметно, что этот побольше.
Сразу за мостом, справа, пошли домишки, карабкающиеся вверх по довольно крутому склону. Всякий раз, когда я вижу эту картину, мне кажется, что жить в этих домах опасно: любой камень, если покатится вниз, может причинить немало бед тем, кто живёт внизу.
Но вот уже и вокзал с красным куполом – Уфа.
Мы вышли на перрон. Чтобы пройти в вокзал, надо подняться по переходу. По молодости я всегда успевал сходить в зал ожидания и выпить коктейль из молока и мороженого. Но сейчас его уже не продают, и больше идти туда не за чем: на платформе стандартные киоски, где можно купить всё необходимое.
Через двадцать пять минут мы покинули Уфу. В окне слева несколько раз открывался вид на реку Белую, потом поезд попал в коридор однообразных низкорослых деревьев. Смотреть было нечего.
Я расстелил на столике газету и пригласил Анатолия.
– Присаживайтесь, попьём чаю, и вы расскажете о вашем расследовании.
– С удовольствием, – согласился Анатолий.
Когда он начал свой рассказ, я понял, что «с удовольствием» относится не только к чаю. Рассказывал он именно с удовольствием: пародировал речи участников событий, часто отвлекался от темы, приводил разные подробности, большинство которых я уже не могу пересказать, потому что просто не запомнил.
Рассказ попутчика 1
В девяностые годы я работал в угрозыске в районном отделении Самары. Вы помните, какими были те годы: организованная преступность процветала, заказные убийства следовали одно за другим, их не только не успевали раскрывать, но иногда даже и не пытались – только отыщешь свидетеля – его убьют. Но в начале двухтысячных что-то случилось «на верху», в стране стали наводить порядок, и все наши отделы начали работать, как положено.
И вот очередной «огнестрел». 16 июля в квартире владелицы двух магазинов, сорокалетней Эльвиры Леонидовны Маркиной, был убит её сожитель, Владимир Сергеевич Черкасов. Худощавый молодой человек лет тридцати, среднего роста, блондин, таких ещё белобрысыми называют.
В квартире чужих отпечатков не нашли. Экспертиза извлечённой пули показала, что пистолет «Макаров» был «чистым», то есть, чей он и откуда, узнать не удалось. В те годы такое бывало часто.
Выстрелов никто из соседей не слышал, значит, пистолет был с глушителем. Черкасов по уголовным делам не проходил, и его отпечатков в картотеке милиции не было. По словам Маркиной, сожитель у неё появился недавно – полгода назад.
Опросили соседей, может, кто видел в тот день незнакомых людей. Одна из жительниц сообщила: в дверной глазок видела молодую женщину, которая звонила в квартиру Маркиной. Ещё две пожилые соседки рассказали, что сидели на лавочке перед подъездом, и мимо них прошла стройная блондинка в джинсовых брюках и тёмно-синей спортивной куртке. Никаких особых примет соседи у блондинки не заметили. Вот и всё, что мы о ней узнали. Откуда она и кем приходилась Черкасову, было неизвестно.
С помощью соседок составили фоторобот блондинки и послали его в Москву. Там такой на учёте тоже не было.
Выяснилось, что паспорт Черкасова фальшивый: паспорт такой серии и номера никому не выдавали. Где он его приобрёл, неизвестно.
Тогда в стране уже многие стали пользоваться сотовыми телефонами, хотя стоили они ещё довольно дорого. Номер телефона Черкасова был в телефоне Маркиной (сам телефон, видимо, унесла с собой блондинка). Установили владельцев телефонов, с которыми он связывался. В основном это были поставщики и покупатели. Распечатка звонков показала, что чаще всего он звонил Маркиной, и круг его абонентов был таким же, как и у неё.
Проверяли несколько версий. Первая: убийство организовали конкуренты Маркиной – сожителя убили, чтобы запугать Маркину. Вторая: рэкетиры расправились с ним за отказ Маркиной платить «дань». Третья: месть первого мужа Маркиной. Четвёртая: убийство из-за наследства (у Маркиной был единственный сын, который мог испугаться, что мать выйдет замуж за сожителя). Пятая: Черкасова убила сама сожительница – Маркина. Шестая: блондинка свела с Черкасовым личные счёты, нам неизвестные.
Ни одна из версий, связанных с бизнесом, не находила подтверждения. Конкуренции в то время практически не было, если только магазины не стояли совсем рядом. Проверка бухгалтерских книг показала, что рэкетирам убивать его тоже не было резона – было видно, что часть выручки стабильно уходила им. Тем более что нам было известно, кто «крышевал» Маркину, да и сама она заявила, что этого не могло быть, так как никто ей не угрожал. У её первого мужа была новая семья, ему уже давно было не до Маркиной, а в день убийства он был на смене, и его видели десятки людей. Наследство матери тоже вряд ли интересовало её единственного сына – он служил в армии, ни в чём не нуждался и, по показаниям всех, мать свою любил и мог бы принять любое её решение. Маркиной тоже не было смысла убивать своего сожителя – он не мог претендовать на её имущество, а по словам самой Маркиной и её соседей, жили они дружно. Проверили и её знакомых – у всех было алиби. Уже хотели прекратить расследование, но начальник отдела приказал продолжить.
А что искать, кого подозревать? Ключевой фигурой в этом деле для нас стала блондинка. Правда, Маркина и её работники сообщили: Черкасов как-то сказал, что у него есть сестра, но никаких данных о ней не было. Да разве по фальшивому паспорту брата определишь, кто она! Возможно, он связывался с ней по мобильному телефону, но телефона при убитом не было. А в распечатке номеров из телефона Маркиной номер сестры тоже отсутствовал, видимо, он звонил ей с другой симки. Была ли блондинка его сестрой, убийцей или и тем, и другим – мы не знали.
Но была ещё одна зацепка. В кармане убитого, в его записной книжке, нашли фотографию. Она нас сразу насторожила: фотография старая (криминалист определил – бумаге около десяти лет), но почему-то именно её он носил в кармане. На фото три улыбающихся парня, на вид одного возраста, стояли у стены какого-то здания. Слева – кудрявый брюнет в тёмно-серой куртке, в центре – наш пострадавший в светлой куртке на молнии, справа – парень в тёмном спортивном костюме с русыми, зачёсанными назад волосами. Про цвет я говорю предположительно – фото было чёрно-белым. Про обувь сказать было нечего – снимок сделан по пояс.
Эксперт-криминалист поколдовал над снимком и выдал нам следующее: это здание стоит с северной стороны от фотографа. Так как парни одеты в куртки, значит, не лето, а осень, а такое освещение здания возможно только в полдень. На стене есть светлые вертикальные плоские выступы – они называются лопатками. Это я у городского архитектора узнал, а то меня начальники всё время спрашивали, что это за выступы, про которые я говорю. На фотографии они светлые, очевидно, белые, а сама стена тёмная, значит, выкрашена какой-то краской, предположительно, зелёной. В кадр попали часть входной двери и часть окна и рамы. И ещё: на стекле окна – отражение столба, не очень толстого, скорее всего, металлического. Наверное, это был фонарь.
Нам оставалось только найти это здание и разыскать этих парней. Легко сказать – по кусочку стены определить здание! Сколько их в городе. Парни могли сфотографироваться у входа в подъезд, в общежитие, в учебное заведение – в общем, было понятно: искать придётся долго. Было бы фото цветное, это облегчило бы поиск, но что поделаешь…
Решили проверить всю Самару. Вот уж я и побегал тогда! Выучил названия всех улиц и переулков. Можно было переходить на работу в такси. Но такого здания так и не нашёл – выступы то шире, то уже, или одного цвета со стеной; то рама другая; то расстояние между дверью и окном не такое.
Но тут мне понадобилось выехать в Красноярск – на свадьбу дочери. Начальник угрозыска дело закрыть не разрешил, сказал: «Приедешь – продолжишь».
Поехал я один, жена не смогла: накануне повредила ногу – споткнулась о ступеньку, неудачно упала и получила перелом. Гипс ещё снимать нельзя, а в вагон с ним не залезешь. Билет я купил, как и сейчас, на поезд Адлер – Красноярск. Отправление поезда было в два часа ночи, и чтобы не опоздать из-за какой-нибудь случайности, я приехал пораньше. С собой у меня была только большая сумка с необходимыми в дороге вещами и подарками для дочери. Вокзал новый, внутри очень удобный: можно сесть прямо перед переходом на нужную платформу. Но он до сих пор не кажется мне уютным – то ли потолки низкие, то ли помещения небольшие, хотя он считается самым высоким вокзалом в Европе.
Я люблю вокзалы. В них ты как дома: отсюда не прогонят ни днём, ни ночью. А когда купишь билет, так вообще чувствуешь себя хозяином – даже если город чужой, то вокзал хоть на время, но твой. Вокзалы всегда хорошо освещены, как будто здесь всегда день.
Большинство вокзалов выглядят красиво. Их своевременно красят, за территорией ухаживают. А на маленьких станциях вокзал —иногда единственное приличное здание во всём населённом пункте.
Из того, что я видел, мне больше всего понравился челябинский. Он такой уютный и просторный. В центре первого этажа нет потолка, и со второго этажа пассажирам виден весь первый этаж: пассажиры у касс, широкая лестница на второй этаж, большой экран со списком стоящих поездов и временем их прибытия и отправления. Весь второй этаж – это зал ожидания, соединённый с переходом к платформам. Здесь для пассажиров есть всё. В стеклянном переходе на табло тоже указаны номера и названия поездов, номер пути и платформы и время отправления. Да к тому же поезда видны сверху через стекло. А если у кого зрение плохое, то все объявления хорошо слышно в любом месте вокзала. Кругом киоски и буфеты с различными товарами. Поесть сейчас или взять в дорогу – пожалуйста…
Я сидел и вспоминал вокзалы, в которых мне приходилось побывать. И вдруг…
Всегда удивляюсь, почему нужные мысли не приходят сразу, а им нужен какой-то случайный толчок. Я подумал: а почему мы искали здание в Самаре? А если оно в другом городе, и не обычное здание, а, например, вокзал? Но для нас – это ещё хуже. Тут всю Россию придётся проверять. Конечно, даже только вокзалы все проверить нереально, но сделать запрос в транспортную милицию, отправить им фотографию – пусть проверят – вполне возможно. Останется только подождать сообщения.
Но начать проверку я уже мог сейчас! И я начал рассматривать все вокзалы, что попадались по дороге. Я не взял с собой снимок троицы на фоне здания, но настолько помнил все его детали, что в фотографии уже не нуждался. Я и так бы узнал вокзал, попадись он мне на глаза.
Договорился с проводницами (я им рассказал, что мне нужно), и они даже ночью будили меня на каждой станции, кроме тех, где вокзал был явно не похож на здание с фотографии, например деревянный или весь из кирпича.
До Челябинска нужный вокзал должен был находиться на западной стороне дороги, то есть с левой стороны по ходу движения поезда, а после Челябинска – на южной, то есть с правой стороны вагона. Но я проверял с обеих сторон, потому что иногда дорога делает такие повороты, что западная сторона вокзала оказывается на востоке. Да вы и сами, наверное, знаете: так, например, стоит вокзал в Новосибирске. Кстати, повороты железной дороги плавные, и если не смотреть, с какой стороны солнце, то не догадаешься, когда поезд меняет направление, кажется, что всё время едешь прямо.
Рассматривая вокзал, я быстро находил то, что делало его непохожим на тот, что был на снимке, то, что могло бы точно указать на несоответствие с ним. Так быстрее – нашёл такую особенность, и больше смотреть не надо. Всего одного взгляда достаточно, чтобы увидеть эту разницу.
Из Самары в сторону Уфы я ездил часто, поэтому знал, что первый вокзал – совсем непохожий, стеклянный, – на станции Новоотрадная, а у следующих, в Похвистнево и Бугуруслане, детали стен, дверей и окон совсем другие. Первый похожий вокзал был как раз на станции Абдулино. Вы сейчас его видели – я сел на этой станции. Я же родом из Абдулино, только после армии переехал в Самару. Здесь я бывал часто и знал: никаких столбов напротив входа не было. Но это ещё ничего не значит, может, на снимке было отражение какого-либо груза на стоящем рядом с вокзалом товарном вагоне. К тому же с последней поездки прошло два года, и всё могло измениться.
Когда поравнялись с вокзалом, я сразу увидел: светло-зелёный цвет стен вокзала не имел такой разницы с белым цветом выступов, как на снимке. Очевидно, стены на снимке были выкрашены более тёмной краской. Но я видел, что вокзал покрасили совсем недавно, он имел свежий вид, а раньше краска была более тёмной. То есть цвет не имел значения, отличие же было в другом: ширина выступов на стене не соответствовала ширине выступов на снимке.
Следующий вокзал после Абдулино, на станции Талды-Булак, был образца 1891 года. Красивый, стены тёмно-жёлтые, наличники, фронтон и угловые выступы – белые. Но никаких вертикальных плоских выступов не было.
Подходящим выглядел следующий вокзал – на станции Приютово. Он тоже с западной стороны. Но и он не подходил: светлые выступы на стене были намного ỳже. Следующие станции: Аксаково, Глуховская, Аксеново, Раевка, Шингак-Куль и Давлеканово – были из серого камня, неоштукатуренные. Такие вокзалы строили тогда же, когда начали строить саму дорогу – в 1891 году. Эту дату я видел ещё в детстве, она стоит на сохранившихся кое-где чугунных кружочках, вделанных в стены. А на станции Раевка её выписали крупными объёмными цифрами на фронтоне вокзала.
Следующая станция – Чишмы. Когда подъезжаешь к станции, ждёшь появления огромного вокзала: здесь так много путей. Станция узловая, отсюда идёт ветка в Татарстан. Но сам вокзал одноэтажный, невысокий, и не совпадает с тем, что на нашей фотографии. Здесь техническая остановка пассажирских поездов: вагоны заправляют водой и выгружают мусор. Сразу вспомнилось: «Деньги есть – Уфа гуляем, денег нет – Чишма сидим». Эту байку (именно так её и произносят с башкирским акцентом) знают и те, кто живёт далеко от этих мест. Но, как оказалось, в ней речь идёт не о городах, а о ресторане «Уфа» и кафе «Чишмы» на улице Ленина в Уфе. Понятно, что во фразе был намёк на то, что в ресторане всё дорого, а в кафе намного дешевле.
Далее был вокзал станции Юматово. Это тоже типичный вокзал 1891 года.
На станции Дёма – последней перед Уфой – вокзал новый и из красного кирпича, никаких светлых выступов нет. А старый вокзал вообще был деревянным.
После Уфы опять пошли маленькие станции с вокзалами из камня. Но я всё равно проверил их все: мало ли что, вдруг парни на фотографии отсюда.
Перед Ашой проехали место, где в 1989 году сгорели два пассажирских поезда: Новосибирск – Адлер и Адлер – Новосибирск. Вы, наверное, слышали: они одновременно вошли в газовое облако, образовавшееся из-за прорыва газопровода, и в это время то ли от искры, то ли от выброшенного окурка газ взорвался, и вагоны загорелись. Погибло около шестисот пассажиров. Сейчас с дороги виден памятник погибшим. Мы сейчас как раз подъезжаем. Давайте прервёмся и посмотрим. Потом мне надо будет измерить давление и принять лекарство. Возраст, знаете. Я ещё успею вам рассказать про своё дело.
2. Рассказ автора (в поезде в наши дни)
Пока мой попутчик был занят своими делами, я любовался уральскими пейзажами. Мы ехали по Челябинской области. После Аши были красивые вокзалы старой постройки: Кропачёво, Вязовая, Бердяуш. Это был уже горный Урал. Здесь железная дорога иногда делала длинные, плавные повороты, и в окно можно было увидеть, как на фоне крутого склона горы по блестящим на солнце рельсам, в коридоре из столбов и проводов с красными и зелёными огоньками светофоров, бегут задние или передние вагоны твоего поезда. Ещё более завораживающий вид открывался, когда автомобильный мост пересекал реку. Вершины сосен делают более неровной и без того ломаную кривую окружающих гор, а тут – как проведённая по линейке прямая линия моста. Так красиво!
Дикая природа – это дело вкуса: одному нравятся горы, другому – тайга, третьему – степи. Но почему мы все, когда видим красивую местность, называем её второй Швейцарией? Да потому что обычный пейзаж в Швейцарии – это гора и расположенный на её склоне городок. Так и кажется, что гора защищает его не только от ветра, но и от всяческих невзгод. Местность выглядит красивой, когда мы находим природу в единстве с творением человека. Горы на Урале без признаков присутствия людей выглядят неуютными. Швейцария же заселена плотно, там везде мы замечаем присутствие человека: белые дома с красно-коричневыми крышами, разноцветные полосы полей и виноградников. И когда на фоне уральских гор видим город или посёлок, мы тоже восклицаем: «Как в Швейцарии!»
Мои поездки этим маршрутом в основном приходились на лето. И сколько раз проезжал здесь, каждый раз находил что-то новое, не замеченное мною раньше.
Иногда и в августе бывают жаркие дни. Вот и сегодня вдоль реки, среди деревьев, то там, то здесь видны кучки автомашин и людей, приехавших искупаться и позагорать. Кое-где мелькают разноцветные палатки туристов. На перекатах, стоя почти по пояс в воде, рыбаки машут длинными удилищами.
Самые красивые места здесь – на перегоне Усть-Катав – Вязовая. Несколько лет назад машинисты электровоза, видимо, очарованные этими местами, установили в кабине видеокамеру, сняли свою поездку и выложили видеоролик в интернет. И хотя снимали в ноябре, когда кругом уже лежал снег, и речка под сугробами только угадывалась, всё равно получилось красиво. Есть в интернете и короткий ролик, снятый осенью. Когда-нибудь снимут и летом. Есть же сайт, на котором выложено видео поездки по Транссибу от Москвы до Владивостока, со временем появится и видео его южной ветви.
Раньше я удивлялся, как сюда добирались, когда не было ни железных, ни обычных дорог – здесь же непроходимые места! Но потом догадался: зимой на санях по речкам! Когда они замёрзнут, лучше дороги не придумаешь – ровный лёд, никаких спусков и подъёмов, лошадям легко. А речек здесь много. Вот и сейчас за окном блестит одна из них. Кажется, вдоль неё мы едем уже много времени. Но это не так. Карта говорит, что после Уфы это уже четвёртая. Сначала была речка Сим, потом Юрюзань и Вязовая, а сейчас это уже Ай.
За столик снова сел мой попутчик.
– Я в тот раз увидел здесь странные названия станций: Юрга, Анжерская, Яя. Вы же из здешних мест; не знаете, почему их так назвали?
– Точно не могу утверждать, но я тоже интересовался этим, – среагировал я на вопрос попутчика. – Почему станция Юрга, я понял после фильма «Урга». Это с монгольского – «степь». Будем проезжать, увидите: сразу за Юргой будет река Томь, и по обеим берегам нет деревьев, как в степи… Как-то по телевизору объясняли, почему деревья там не растут, но я уже не помню. Часто названия городов происходят от названий рек. Реки же раньше появились. Томь – Томск, Омь – Омск. Станция Анжерская получила название от речки Анжера. Посёлок Яя стоит на реке с таким же названием. Я думаю, в этом названии повторяется слово «вода». Есть много названий рек с окончанием на «я»: Зея, Чуя, Бия, Кия, Ея. Есть ещё и Ая, и Оя, и Уя. Что означают первые буквы, я не знаю, наверное, что-то типа: «глубокая», «светлая», «холодная»; а возможно, тоже «вода». Прочитал в одной книжке, что в названии «Чусовая» четыре раза повторяется «вода»: Чу-со-ва-я. Значит, Чуя – это два раза слово «вода». Это новые племена, сменявшие прежде здесь живших, воспринимали их слово «вода» как название реки и добавляли слово «вода» уже на своём языке. Русские к этим названиям тоже добавили свою воду – «река». Почему же Яя – две одинаковых воды? Думаю, что названия записывал кто-то из русских. Когда спросил местного, как называется речка, тот ответил просто: «Я», то есть вода. Русский переспросил удивлённо: «Я?» «Я, я», – подтвердил местный. «Ах, Яя», – так и записал.
– Может, расскажете, что произошло дальше?
И мой попутчик продолжил свой рассказ.
Рассказ попутчика 2
Я ехал уже вторые сутки. Позади остались вокзалы Кургана, Петропавловска, Омска, Новосибирска. У меня уже развилось чутьё, и ночью, когда меня будили проводницы, я выходил в тамбур и с одного взгляда находил отличия от здания на фотографии, быстро возвращался на своё место и снова моментально засыпал. Когда проехали Новосибирск, они предупредили меня, что разбудят на станции Болотной, но и дальше будут вокзалы, которые стоит проверить. Это станции Юрга, Тайга, Анжерская, Яя, Ижморка. А дальше до Ачинска похожих вокзалов нет, и можно будет спать всю ночь.
Дальше была полночь по московскому времени. Очередная станция. Я, полусонный, стоял позади проводницы и рассматривал, что проплывало за окном. Наш вагон восьмой, и чаще он останавливался прямо напротив вокзала. В этот раз тоже. Поезд шёл по третьему пути, пассажиры должны были выходить на платформу и, кому надо попасть на вокзал, должны были ждать отправления поезда, потому что вокзал был с другой стороны. Но проводник открыла для меня и вторую дверь. Я глянул на двери вокзала, и вдруг как током – это был тот самый! Я понял, что за тень была на стене – дорожку от двери вокзала до путей освещали два фонаря на металлических столбах.
Об этом надо было сообщить моему начальнику. Сейчас бы я позвонил по мобильнику, но тогда у меня его не было. Они были ещё слишком дорогими для таких, как я. Поэтому только на другой день, когда поезд прибыл в Красноярск, я сразу зашёл на переговорный пункт и позвонил в Самару. Начальник угрозыска, сказал: «Давай, выдавай замуж дочь, а потом туда. В местное УВД через два дня факсом вышлем уведомление о тебе, фотографию троицы и фоторобот блондинки. Когда закончишь все дела, возьми бланк и отметь командировку. Так что поездка на свадьбу у тебя будет за государственный счёт».
Свадьба прошла замечательно. Было весело, все гости вели себя хорошо. Родители жениха оказались приличными людьми. Отец – начальник цеха большого завода, сватья – экономист. Уже купили молодожёнам квартиру. В общем, все остались довольны.
На второй день вечером я выехал из Красноярск и уже утром стоял перед вашим вокзалом. Потрогал чугунные столбы фонарей, даже увидел трещины у их основания. Видимо, они были отлиты из некачественного чугуна. Такие мне уже раньше попадались на старых вокзалах. Узнал и входную дверь, и оконную раму. Потом подошёл к тому месту, где должны были стоять трое парней. У меня было такое чувство, что я прямо сейчас увижу их следы. Но на асфальте было чисто. Интересно, кто же их фотографировал? Эксперт говорил, что снимали с высоты среднего роста. Кто этот четвёртый? А может, просто кого-то попросили?
Вокзал оказался не с левой стороны по ходу поезда, а с правой. Эксперт ошибся. Потом, когда мы днём проезжали мимо вокзала, я понял, почему он неправильно определил положение вокзала: здесь направление путей было не с запада на восток, а под углом с юго-запада на северо-восток. К тому же летом в этих широтах солнце стоит высоко и заходит чуть ли не на севере, поэтому и северная сторона вокзала после полудня оказывается освещённой.
Снаружи вокзал выглядел ухоженным, было видно, что его недавно освежили: побелённые вертикальные выступы контрастно выделялись на зелёном фоне стен. Но внутри вокзал был старым. Часть пола была выложена красно-коричневой и грязно-жёлтой шестигранной плиткой, которую я видел в детстве в своём городе. Для полноты впечатления не хватало только бачка с водой и привязанной к нему кружки, как когда-то это было на всех вокзалах.
У продавца вокзального киоска спросил, как добраться до городского управления внутренних дел, и уже вскоре был перед входом в трёхэтажное здание светло-коричневого цвета. Справа от входа – стенд «Их разыскивает полиция». Качество снимков такое, что половина из разыскиваемых кажутся одинаковыми. Один из портретов показался знакомым, но фамилия мне ничего не говорила. Наверное, похож на кого-то, с кем раньше имел дело, – решил я. Дежурный, глянув на моё удостоверение и выслушав о цели приезда, отправил к начальнику угрозыска.
В кабинете меня встретил, как он представился, майор Захаров Михаил Васильевич. Я тогда тоже был в звании майора.
Рассказал, что привело меня в ваш город. Захаров по телефону вызвал старшего лейтенанта Кузьмина. Через полминуты он вошёл: выше среднего роста, стройный, тёмные, немного волнистые волосы, брови вразлёт. Он был в штатской одежде: в белой рубашке и чёрных брюках. Наверное, в форме выглядел бы ещё симпатичнее. Я даже засмотрелся на него. «Занесло же тебя в милицию, тебе бы артистом работать», – подумал я тогда.
Я всегда завидовал высоким парням – они же могли за любой девушкой приударить, а таким, как я, высокие красавицы были недоступны. Я вообще во всём был средним – что в учёбе, что в спорте, что в росте. В школе проучился до восьмого класса. В девятый не пошёл, стыдно было говорить, что учусь в школе, когда спрашивали, кем я работаю. Поехал с друзьями в Самару, поступил в машиностроительный техникум. Учили нас хорошо, теорию дополняла практика. Не поверите: я до сих пор помню, как найти концы трёхфазного двигателя переменного тока и как соединить их в «звезду» и «треугольник», и это несмотря на то, что я учился не на электрика, а на механика. А помню я, потому что несколько раз всё проделал своими руками. Но без теории тоже нельзя – не будешь понимать, что делаешь, и быстро забудешь.
На второй день после защиты дипломной работы, получил повестку в армию. Там служил в танковой части. Сначала экипажем танка бегали по полю в противогазах – изображали танк. Потом уже в самом танке. После армии устроился в Тольятти на автозавод, работал сборщиком, потом мастером. На заводе тогда было сто тысяч работников. Цеха обедали в разное время. В столовой одновременно садилось за столы десять тысяч человек. Зал – целый стадион!
Случайно на вокзале в Самаре встретил одноклассника – он работал милиционером – предложил тоже пойти в милицию. К тому времени мне уже наскучило однообразие заводской жизни, захотелось перемен, и я согласился. Так до пенсии и проработал в угрозыске…
– Александр Леонидович, знакомься: майор Анатолий Егорович Рябов, наш коллега из Самары. Надо ему помочь, – представил меня майор Кузьмину.
– Да у меня же убийство… Только позавчера…
– Надо, Александр Леонидович, надо, – не дал ему договорить майор. – Вот вам помощник, – обратился он уже ко мне, – вводите его в курс дела и вперёд. Старший лейтенант сейчас тоже расследует убийство, но будет заниматься параллельно. Надо помогать друг другу – общее дело делаем, тем более, что, судя по всему, нас оно тоже касается.
Мы взяли у секретаря присланные по факсу из Самары документы, и в кабинете Кузьмина я рассказал ему всё, что мне было известно об убийстве Черкасова, показал фоторобот блондинки и снимок троицы.
Кузьмин повертел фотографию:
– Десять лет вроде немного, особенно, если ты этих людей видишь постоянно. А если десять лет не видел, то можешь и не узнать. С чего начнём?
– Попытаемся установить личности. Раз снимок сделан на вашем вокзале, то, возможно, кто-то их узнает. Надо дать фотографию в газету, показать по городскому телевидению. И ещё: я тут перед входом посмотрел ваш стенд «Их разыскивает полиция». Мне показалось, что одного я где-то видел, но не помню, где и когда. Там написано, что его фамилия Бородин.
– Вот сейчас пойдёмте к разыскникам, там и спросим. Бородин у нас пропал две недели назад; до сих пор ничего не известно.
Мы вошли в небольшой кабинет, где за столом боком к окну в немного лоснящемся кителе сидел пожилой полноватый майор. Кузьмин представил меня и назвал майора: Павел Егорович Картавых. Потом объяснил, что нам надо.
– И ещё, – добавил я, – мне показалось, что разыскиваемого Бородина я где-то видел. Может, у себя, в Самаре, висит такой же портрет или просто похож на кого-то знакомого, но я не могу вспомнить.
– Бородин Василий Борисович, владелец складских помещений, женат. Пропал пятнадцать дней назад.
– А при каких обстоятельствах? – спросил я.
– Да нет никаких обстоятельств. До обеда был на работе. После его уже никто не видел. Никакой записки не оставил. В кабинете все вещи и бумаги на месте. Двери закрыты ключом. Жена заявила о пропаже утром на второй день, а ещё через день мы открыли дело. Судя по всему, его либо увезли куда-то с пока неизвестной целью, либо убили. Может, что-то не поделили с партнёрами по бизнесу. Проверяли версию убийства из-за денег. Таких преступлений стало намного меньше, но тоже случаются. Пока труп не обнаружен, что-то определённое сказать трудно.
– А как вы его ищете?
– Обычные меры: портрет в газете и на телевидении. Листовку вы видели. Пока результатов нет. Проверили партнёров по бизнесу, потрясли уголовников, опросили знакомых. Глухо.
Одна из кладовщиц вспомнила, что в тот день видела, как в кабинет Бородина заходила блондинка. Высокая, стройная, в джинсовых брюках и синей спортивной куртке. Лица её не видела и не пыталась – подумала: очередной покупатель. Никаких особых примет не заметила. Фоторобота, естественно, нет. Появилась ещё одна версия – Бородин скрылся от семьи и живёт где-нибудь с этой блондинкой.
– В Самаре тоже была блондинка, и точно так же одета, – заметил я. – Не думаю, что это случайно.
– Согласен, – поддержал майор. – Надо показать кладовщице фоторобот вашей блондинки, может, хотя бы подтвердит, что фигура такая же.
Майор стал внимательно рассматривать бумаги, которые мы принесли.
– Так вот же наш Бородин! – тыкал он пальцем в фотографию. – Вот он слева, кучерявый брюнет в тёмно-серой куртке. Он тут моложе, поэтому не очень похож.
– Мы с нашим гостем сейчас же идём к Бородиным, надо показать эту фотографию родителям, может, они узнают и всех остальных. Раз они на одном снимке, то, может, дружили, и, возможно, бывали у Бородиных, – сказал Кузьмин. – Что узнаем, доложим вам.
– Не торопитесь. Родственников у него, можно считать, уже нет. Отец бросил мать, как только узнал про беременность, мать через семь лет нашла себе мужа и уехала с ним в другой город. Он воспитывался у бабушки. Бабушка восемь лет назад умерла. У него только жена и пятилетняя дочь. Лучше поезжайте к родителям его жены, поговорите с ними. Кстати, они Бородины, а его фамилия до брака была Пузанов. Обычно мы не обращаем внимание на значение фамилии, и воспринимаем её как набор звуков, но «Бородин» всё-таки звучит намного лучше. Поэтому его жена отказалась менять свою фамилию, да и он решил избавиться от своей такой некрасивой. От Бородиных съездите в его контору и поговорите с кладовщицей, покажите ей этот фоторобот: одна и та же у нас блондинка или разные. Хотя розыск Бородина – моё дело, но чувствую, что тут что-то посложнее вырисовывается, вот вам и карты в руки…
Кузьмин связался по телефону с женой Бородина и договорился встретиться в доме её родителей.
Но прежде чем отправиться к Бородиным, мы сначала заехали в контору, где он работал. Там нам разыскали кладовщицу, которая видела блондинку в день пропажи Бородина. Она подтвердила, что фоторобот самарской блондинки на неё похож. Стало окончательно ясно, что появление блондинки в обоих случаях – не случайное совпадение. Осталось выяснить, кто она…
Бородины жили в частном секторе. Обычный дом, крыша покрыта шифером, три окна впереди смотрят на запад, на дорогу. Ещё два – на солнечной стороне, где двор. Вместительная веранда, большой огород с теплицей, забор из штакетника. От дома до калитки и ворот из штакетника – настил из досок. Слева от настила – кусты малины, справа белеют большие кочаны капусты. Слева от калитки, на заборе – почтовый ящик. Перед домом высокие деревья: берёза, ель, рябина и черёмуха. У нас такие деревья во дворах уже давно не сажают, в основном – яблони, сливы, груши; многие научились выращивать виноград.
Как только мы прошли калитку и подошли к высокому крыльцу, дверь веранды открылась, и появилась молодая женщина: немного полноватая, светловолосая, с короткой стрижкой. Мы догадались, что это жена Бородина. За ней вышли: седой мужчина лет шестидесяти в клетчатой рубашке и пожилая женщина в платке и фартуке – отец и мать. Мы представились. Они с грустным видом выжидающе смотрели на нас. Сначала Кузьмин развёл руками и, помотав головой, сообщил им, что пока никаких сведений об их зяте нет, а мы пришли кое-что уточнить.
Нас пригласили в дом. Мебель, за редким исключением, была старомодной: слева от входа большой шифоньер, между окнами книжный шкаф, справа стенка с полками, наполненными, с одной стороны горки – посудой, с другой – книгами. Впереди комод, покрытый белой скатертью с вышитыми цветами. На комоде телевизор. В середине комнаты расположился широкий стол с придвинутыми к нему стульями.
Кузьмин разложил наши бумаги.
– Посмотрите, пожалуйста, никого не узнаёте? – спросил он.
Старики узнали на снимке своего зятя, жена – тоже.
– А рядом?
– А кто рядом с ним, я не знаю, – сказала она, – наверное, друзья.
Старики тоже подтвердили, что никого из них никогда не видели.
– А что с ними? Тоже пропали? – спросил отец.
– Да, ищем, он вот из Самары приехал, – ответил Кузьмин, показав на меня. – А вы не слышали такую фамилию: Черкасов?
Все отрицательно покачали головой.
– Посмотрите ещё раз, вдруг вспомните кого из них. Вот ваш зять, а вот Черкасов, звать Владимир. Может, слышали про него или его родителей? Может, приходили к вам в гости?
Но на все эти вопросы Бородины ничего не могли сказать.
– А где ваш сын учился, когда была сделана эта фотография? – спросил Кузьмин.
И тут мы вздохнули с облегчением – появился свет в конце тоннеля – оказалось, что он учился в Томске, в автодорожном техникуме. Теперь мы сможем узнать о них в самом техникуме – десять лет не так много, преподаватели должны помнить своих учеников.
И мы с Кузьминым на другой день отправились в Томск.
3. Рассказ автора (в поезде в наши дни)
Я предложил Анатолию прервать рассказ и полюбоваться красками уходящего дня. За окном открылась огромная долина, заполненная беспорядочной массой домов разного калибра, как будто где-то прорвало платину, и их смыло потоком и несёт к неведомому океану. Крупные дома плывут в центре, а маленькие домишки, как щепки, то цепляются за крутые берега, то их выбрасывает волнами высоко на склоны гор. Это Златоуст. Я знаю: здесь поезд делает такую петлю вокруг города, что вечернее солнце уже будет светить с другой стороны, и мы окажемся на противоположном склоне там, где сейчас в расселину уползает грузовой поезд.
Вдоль поезда по-прежнему серебрится речка, а на другом берегу тянутся какие-то цеха, в которых видны всполохи электросварки, раздаются свистки тепловозов. Когда я проезжаю здесь, всегда вспоминаю песню Евгения Родыгина «Уральская рябинушка». Мне кажется: она про этот город. Наверное, на Урале много мест, где можно увидеть то же самое, но когда я в окно вагона вижу вечерний Златоуст, то так и слышу эти слова: «Вечер тихой песнею над рекой плывёт. Дальними зарницами светится завод. Где-то поезд катится точками огня…»
Эту песню я слышал ещё в далёком детстве. Она была на пластинке, которую я проигрывал на патефоне, меняя затупившиеся стальные иголки.
Позже патефон сменила радиола. Тогда же появились долгоиграющие пластинки, на которых было уже по несколько песен на каждой стороне.
До сих пор не знаю, к чему меня больше тянуло, к песням или к этим загадочным устройствам. Я рос, и менялась техника. Магнитофон уже пришёлся на мою юность. Сейчас цифровая техника, и такие вещи, как плёночный фотоаппарат, транзисторный приёмник, ленточный видеомагнитофон, стали музейными экспонатами. А ведь было время, когда ходили в гости, чтобы послушать радиоприёмник, потом так же собирались у тех, у кого был телевизор – посмотреть кино. И когда-то кассетный видеомагнитофон стоил столько же, сколько и однокомнатная квартира.
Вот и вокзал – огромный, из стекла и бетона, просвечиваемый насквозь, он выглядит непривычно пустынным. Пассажиров немного. А слова песни: «И смолкнет шум вокзала…» теперь выглядят анахронизмом, как и про звонки отправления. Нет уже вокзальных колоколов, и поезд отправляет не кондуктор (как в песне, в которой «кондуктор не спешит, кондуктор понимает…»), и даже не начальник станции (как было тогда), а ходят они строго по расписанию.
С каждым годом встречающих и провожающих на вокзалах становится всё меньше и меньше. Я даже пытался это себе объяснить. Набралось много причин. Например, сокращается население. Семьи стали меньше: один-два ребёнка и всё. Значит, и причин разъезжаться всё меньше. А если кто куда и едет, то и родственников, желающих провожать и встречать, тоже стало меньше.
Ещё одна причина: государство прекратило посылать студентов работать по направлению, как это было раньше. В советское время каждый выпускник очного обучения должен был отработать там, куда его направят: после вуза – три года, после техникума – два. Предприятия и организации направляли заявки на нужных специалистов в учебные заведения. Выпускникам предлагали выбрать из списка. Сначала направление выбирали отличники, потом все остальные. На новом месте, они зачастую обзаводились семьями и оставались там навсегда. Так произошло и со мной. После окончания Воронежского политехнического вуза я получил направление технологом на химический комбинат, выпускающий лекарства. Думал, через три года вернусь домой. Но познакомился с будущей супругой, женился. Конечно, переживал, что родители далеко, но жизнь тогда казалась вечной, а со временем и возвратиться на свою малую родину стало проблемой: здесь была работа, уважение коллег. А жене и детям трудно было бы поменять место жительства, да и я уже привык.
В любом городе и сейчас есть выходцы из разных уголков Советского Союза. Вот и приходилось родителям ездить к ним, а им самим – к родителям. Так произошло и с дочерью моего попутчика. Сейчас принудительного распределения не стало, и если дети уезжают по какой-то причине от родителей, то, как правило, не так далеко.
Но есть ещё одна, более веская причина опустения вокзалов – многие семьи обзавелись автомобилями. Сейчас главной проблемой всех городов стала нехватка мест для стоянок машин. На небольшие расстояния теперь предпочитают добираться на собственном транспорте. Пригородные электрички, ранее заполнявшиеся до отказа, стали полупустыми. Да и само понятие «небольшое расстояние» изменилось. Электрички, как правило, «бегают» между областными центрами и границами области, а это километров сто-двести. Для современных легковых автомобилей такое расстояние считается небольшим. Стало обычным делом: родственников, прилетевших самолётом, встречать на своих машинах. А нередко до аэропорта триста, четыреста, а то и пятьсот километров. А раньше домой добирались по железной дороге.
С появлением сначала мобильной связи, а затем и интернета с видеосвязью ослабла горечь расставания и снизилась потребность в частых поездках родителей и детей друг к другу. С развитием рыночных механизмов пропала необходимость поиска товаров в других городах. Сейчас в одном супермаркете можно купить от булки хлеба до норковой шубы. Опустели не только вокзалы, но и улицы. К тому же появление интернета и увеличение количества каналов телевидения приковало людей к экранам. Посёлки, мимо которых мы проезжаем, кажутся вымершими – почти нет пешеходов, и только автомобили немного оживляют пустынные улицы.
Наш поезд медленно тронулся, а показалось: двинулся вокзал. Я полулежал с подушкой под спиной и смотрел, как его стеклобетонная конструкция в виде двух загнутых вверх носков лыж разной высоты (архитектурная новинка) проплывала мимо окна.
Дальше поезд петлял среди гор. Я стал смотреть на дорожные столбы. Здесь на 1962-м километре между станциями Таганай и Хребет (какое характерное название!) справа, как раз с моей стороны, я не раз видел обелиск на границе между Европой и Азией.
Казалось бы, что на него смотреть – это простое сооружение из камня, обозначающее условную линию на карте, но я обрадовался, снова увидев его, и даже пригласил соседа посмотреть. Видимо, наше внимание к обелиску – это знак уважения тем поколениям исследователей, которые составили карту Земли, разделили её на части света, начертили экватор и полярные круги, нанесли на её поверхность градусы широты и долготы; знак благодарности тем, кто построил здесь дороги, уложил рельсы, поставил станции, возвёл города и этот обелиск. А может, просто вид самодовольства: «Вы не видели, а я видел», – не для того ли ходят на концерты «звёзд», хотя можно спокойно посмотреть их выступление в интернете.
Примерно через час, с левой стороны по ходу поезда, показались очертания многоэтажек с орнаментами на стенах. Ближе к вокзалу дома были освещены, и на тёмном фоне привычного уральского пейзажа – уходящая вдаль гряда гор, покрытая сосновым лесом, – эти дома выглядели как на картинках из детских книжек. Современный вокзал. Это Миасс. Красивый компактный город. По крайней мере, таким он видится из окна вагона. Здесь делают большие грузовые машины марки «Урал».
Стоянка поезда две минуты. На платформе всего три человека. И ровно через две минуты поезд плавно тронулся. В вагоне началось оживлённое движение пассажиров. Мимо нас пробирались, уступая друг другу дорогу, кто за кипятком, кто в туалет.
Мы поужинали. Я свернул служащую скатертью газету с крошками и обёртками и, стараясь не наступить кому-нибудь на ноги, отнёс в другой конец вагона в ящик для мусора.
Когда сел на место, выключили яркий свет. Остался только такой тусклый, что читать было невозможно. Разговоры стихли. Мой попутчик тоже пошёл стелить себе постель.
Я сидел и смотрел в окно. Скоро будет Челябинск.
А вот и вокзал. Поезд здесь стоит полчаса. Я натянул куртку, сунул в карман фотоаппарат. Чем старше становлюсь, тем сильнее желание запомнить увиденное, особенно то, что как-то связано с детством, юностью. Я снимаю свои поездки, чтобы потом, длинными зимними вечерами, можно было, включив компьютер, мысленно повторить их снова. Пока просматриваешь снимки, кажется, ты сейчас находишься там. Но стоит только отвлечься, и сразу становится грустно и даже больно от сознания, что это ушло в прошлое уже навсегда. Я даю себе слово смотреть реже, чтобы не мучить себя воспоминаниями, но «память – мой злой властелин, всё будит минувшее вновь», и я часто по вечерам отправляюсь в виртуальное путешествие.
Выхожу на платформу. Кругом огни фонарей. У входа в стеклянный переход к вокзалу оживлённое движение пассажиров в обеих направлениях. Поднимаюсь по ступенькам и по переходу попадаю в зал ожидания на втором этаже. Просторно. За стеклянной стеной вокзала светятся огни большого города.
В зале ожидания многие смотрят телевизор, часть пассажиров бродит от киоска к киоску. Многие продуктовые работают всю ночь. Направляюсь к одному из них, где раньше любил заказывать борщ. Сегодня покупаю только коробку ряженки – на завтрак.
Сувенирные киоски в большинстве уже закрыты до утра. Через стекло киоска полюбовался изделиями из уральских камней. На крышках зеленоватых шкатулок серебрятся ящерицы – намёк на сказки Бажова. На других – красивые уральские пейзажи.
Спустился на первый этаж. Здесь перед огромным табло с расписанием стоит фонтанчик с крутящимся на воде гранитным шаром. Красиво. Надо же так рассчитать вес! Заснял на видео. Можно возвращаться в вагон. Сквозь окна перехода вижу вагоны моего поезда, блестящий золотом купол привокзальной часовни и силуэт синей пирамиды расположенного рядом с вокзалом торгового центра.
Яркое освещение вокзала, суета пассажиров, встречающих и провожающих, создают атмосферу, в которой на время забываешь обо всех своих переживаниях.
Поезд покинул город, и прекратился воспетый тысячами поэтов стук вагонов. Сейчас рельсы сваривают. Стыки ещё есть, но только в пределах станции, на стрелках для перехода с одного пути на другой. А после них слышен только равномерный шум колёс. Когда первый раз столкнулся с этим, удивился: нас ещё в школе учили, что рельсы при нагревании расширяются, и чтобы они не погнулись, на стыках оставляли расстояние между рельсами. Правда, и тогда я недоумевал: почему же не только зимой, но и летом в щель между рельсами палец проходил – летом, когда тепло, рельсы должны были сомкнуться. Как же возможно вообще без стыков? Значит, что-то мы не знаем про эти рельсы.
Я ещё долго не ложился спать. Иногда, прикрываясь ладонями, пытался рассмотреть что-то за окном, но кроме верхушек деревьев на фоне ночного неба да редких огней каких-то полустанков, ничего не было видно.
Сложив столик, развернул свой матрас с простынями и подушкой, лёг без надежды скоро заснуть…
Утро. Тишина. Оказывается, стоим в Петропавловске. Мимо меня проходят в тёмно-зелёной военной форме казахстанские пограничники. И смешно и грустно наблюдать, как здоровые мужики проверяют документы у какой-нибудь бабушки, которая приехала навестить своих внуков, или уже возвращается от них. Это похоже на детскую игру. Но какой страшной она может стать! Зачем эти границы! Почему люди не могут жить всем миром, как одной семьёй!
Какое там – всем миром! Тут в одной семье из-за каких-нибудь пустяков происходят такие сражения! Сколько различий есть у людей, из-за которых они могут подраться. А причина везде одна – личный корыстный интерес! Из-за него дерутся дети в семье, ругаются соседи, сражаются классы, враждуют государства.
Пограничников сменили мужчины и женщины с большими сумками – торговцы электроникой и коньяком. Электроника, понятно, китайская, коньяк – казахстанский. Почему-то он дешевле, чем в России. Видимо, казахи пьют меньше. Хотя, сомнительно. Да и русских в Казахстане много. Что-то, видимо, другое.
В девяностые торговля шла прямо на платформе. Каждый прибывший поезд встречала туча продавцов. Продавали всё: дыни, меховые шапки, рыбу во всех видах, колбасу, магнитофоны, велосипеды, насосы, варёную картошку, помидоры, огурцы. Выйдешь из вагона, и тебя начинают соблазнять всем этим. А если сидишь в вагоне, то стоит только посмотреть в сторону окна, как какой-нибудь мимо идущий продавец протягивает к стеклу свой товар.
Сейчас пассажиров из вагонов не выпускают, а вокзал от города отделяет высокая железная решётка, чтобы торговцы не могли пройти к поездам. Одиночки иногда как-то проскакивают, чтобы продать местные дыни. Для этого в сетку кладут по три штуки, чтобы моментально поменять их без сдачи на сотенную купюру.
Когда-то и на Урале, в Усть-Катаве, была такая же торговля. Там стоянка поезда была двадцать пять минут. Две платформы на всю длину были завалены изделиями местных заводов: украшения из уральских камней, уральские пейзажи на срезах дерева. Но не только. Тут можно было купить бинокли, термосы, ножи, ложки, вилки и много чего ещё. На ночь торговцы накрывали свои товары брезентом и оставляли дежурных. Пассажиры, которые ещё не спали, могли у них купить все эти вещи.
Одно время такую торговлю запретили. Видимо, кому-то стали конкурентами. Но сейчас снова можно купить то же самое. Только теперь этим заняты лишь несколько человек. Время дефицита прошло, и доходы таких продавцов, наверное, стали мизерными.
В наши дни мы на таких торговцев смотрим спокойно – бизнесмены. Хотя понимаем: налоги они не платят. А в начале девяностых их считали спекулянтами, и первые из них, ходившие по вагонам, ещё стесняясь, объясняли своё занятие тем, что зарплату, мол, выдали товаром, и поэтому они вынуждены продавать, чтобы выжить. Наверное, у кого-то так и было.
В Петропавловске простояли сорок минут. А когда остались позади дома и улицы Петропавловска, вдоль окон потянулись степи. Кое-где виднелись плоские озёра без берегов, больше напоминающие большие лужи. Ровная местность. Такими же плоскими выглядят и редкие здесь посёлки.
Вот небольшая станция. Из окна вагона видны коротенькие улицы, кое-где рядом с домом стоят машины. Сразу за станцией – ровная степь и небольшой овражек, в котором торчат кусты лозы. На миг я представил себе, что мне придётся здесь жить. Сразу стало тоскливо. Но ведь тому, кто здесь родился, наверное, нет ничего милее этого овражка, где он зимой катался с этой якобы горки, а летом приходил сюда, чтобы из ветки лозы сделать саблю или лук.
И в моём детстве был такой же овражек на картофельном поле. Помню, мама копает картошку, а мы с сестрой её собираем. В перерыв я бегу в конец поля, срезаю лозину, делаю из неё саблю и начинаю сражаться с крапивой.
До сих пор, например, помню и все изгибы речки в деревне, где жили дедушка с бабушкой. Именно по этим изгибам отыскал на спутниковой карте место, где когда-то была эта деревня; где я, не понимая, что делаю, ногами рушил подмытые весенним паводком берега. А иногда мне кажется, что если бы я был свободен от всего, то вернулся бы туда и построил себе дом именно там, даже если бы пришлось жить одному. Это называется ностальгией.
Когда позавтракали, мой попутчик снова продолжил свой рассказ.
Рассказ попутчика 3
В Томск мы выехали рано утром. Машина была не милицейская, а обычная «Лада» с гражданскими номерами. Водитель Щукин, я и Кузьмин – все были в штатской одежде.
Большую часть дороги ехали в коридоре тайги. Для меня это было непривычно, казалось, что лес никогда не кончится. Лишь изредка он расступался и открывался вид на поля и пашни вокруг какого-нибудь селения. Но чаще попадались только дорожные указатели с названиями населённых пунктов, но самих их не было видно: лишь поворот дороги куда-то вглубь леса и непонятно для кого стоящая здесь будка остановки автобусов.
Иногда нас обгоняли спешащие иномарки. Чем ближе к Томску, тем чаще попадались встречные машины, и нам иногда приходилось двигаться сзади какого-нибудь грузовика, и чтобы его обогнать, надо было долго ждать, когда иссякнет встречный поток, или грузовик свернёт куда-нибудь.
Кузьмин объяснил водителю, как добраться до техникума. Сначала мы должны были проехать по улице под названием Иркутский тракт. Я сразу представил каменистую дорогу, по которой ведут закованных в кандалы арестантов. Но оказалось, что это была обычная асфальтированная улица с многоэтажками по обе стороны.
На одном из поворотов мы свернули направо и вскоре уже поднимались по ступенькам невысокой лестницы парадного входа в главное здание техникума. Кузьмин накануне позвонил директору и договорился о времени приезда, поэтому нас ждали. Молоденькая девушка, видимо, секретарь, повела нас в кабинет директора.
Небольшое фойе, стенд с расписанием, горшки с цветами у стенда и на окнах коридора, прошлогодняя стенгазета. Как это знакомо! На какое-то мгновение мне даже показалось, что я иду на занятие. Сейчас откроется дверь, я сяду на своё место у окна. Через минуту войдёт седой учитель математики Михаил Васильевич, который с порога спросит: «А ты, Рябов, почему не сделал домашнее задание?» А я отвечу: «Михаил Васильевич, я всё сделал». Действительно, письменные задания я выполнял всегда. Но с другими студентами он часто попадал в цель. И я до сих пор слышу: «А ты, Шубенков, почему не сделал домашнее задание?» Шубенков начинает оправдываться, а Михаил Васильевич ему: «Садись, два!»
Такие картины иногда на мгновение окрашиваются старыми чувствами настолько, что ты полностью ощущаешь себя в том времени. Эти чувства почему-то всегда такие приятные, но мне ни разу не удавалось удержать их долго – как вспышка молнии, они тут же гасли, и реальность возвращалась. Сознательно я мог бы и дальше вспоминать, но вместо радостного чувства почему-то, наоборот, становится грустно от того, что то время уже никогда не вернётся.
Мы – трое друзей, однокурсников в том же возрасте, что и наша троица на фотографии, – часто проводили время вместе, ходили в кино, делали чертежи и курсовые. Уже на последнем курсе, познакомились с девчонками, и как-то нечаянно я сильно влюбился в одну из них. Мы даже с ней встречались несколько раз, гуляли по городу. Но у меня был соперник, и она предпочла его. Я даже не мог понять: как так, почему меня – такого хорошего – она не полюбила. Позже я понял: я ещё должен был отслужить в армии и жениться не собирался. Я понимал, что два года разлуки – это много. За это время мало ли что может произойти: либо она не дождётся, либо я передумаю. Моего дядю три года ждала девушка, а он, когда вернулся, не захотел на ней жениться. Видимо, все эти мысли у меня были написаны на лице, а девушки это чувствуют. Кстати, и моего конкурента она не дождалась – вышла замуж за уже отслужившего парня. Есть такая песня со словами: «Я тебя не виню – нелегко ждать три года солдата, а друзьям напишу я, что меня дождалась». А я и в армии её вспоминал, и после армии не мог забыть. Как-то познакомили меня с одной. И вот однажды сидим с ней на лавочке, уже почти ночь, соловьи заливаются, я гляжу на неё, вижу знакомый блеск в глазах, и вдруг как охватит то самое чувство, как тогда, в те годы. Кажется, я даже успел прижать её сильнее. Но через мгновение всё прошло, и мне стало грустно. Я понял, что это чувство было не по отношению к ней, а лишь одно мгновение из тех прошлых, которые я испытывал к той. Но когда встретил будущую жену, всё старое как будто стёрлось из памяти. Сейчас даже имя последней, не помню.
В кабинете директора техникума нас встретила женщина примерно лет сорока пяти, довольно привлекательная на вид. Чёрное платье с платком на плечах, и какая-то сложная причёска делали её похожей на известную артистку. Когда мы представились и рассказали, зачем приехали, она вышла, и было слышно, как она посылает уже знакомую нам девушку – секретаря, по имени Вероника, – позвать Полину Ивановну. Пока я пытался угадать, кто же это может быть, в кабинет вошла женщина лет за пятьдесят, напомнившая мне мою классную руководительницу в школе: темно-синий костюм, аккуратно зачёсанные назад в пучок начавшие седеть волосы. Директор пояснила, что Полина Ивановна работает её заместителем по учебно-воспитательной работе, поэтому, в отличие от преподавателей, её отпуск уже закончился.
– Полина Ивановна, вы же работали десять лет назад, посмотрите на снимок, не помните этих ребят? Скажите хотя бы, из какой они группы.
Поглядев на фотографию, та утвердительно кивнула головой:
– Да, я с третьего курса вела эту группу и знаю, наверное, всех. Вот этот слева – Пузанов Вася, в центре – Щербаков Володя. А вот этого справа я не знаю. В их группе такого не было.
– А этот точно Щербаков? – недоверчиво спросил Кузьмин, показав на парня, которого мы считали Черкасовым.
– Не сомневайтесь, я их хорошо помню. Пузанов и Щербаков сначала учились хорошо: на четвёрки и пятёрки. А на втором курсе «съехали» на тройки и даже стали получать двойки. Мы их перевели на платное обучение и выселили из общежития. Я подумала, что парни в эти годы часто влюбляются и им становится не до учёбы. Но, слава богу, вскоре они взялись за ум, двойки исправили, а дипломную работу написали вовремя и даже неплохо.
– А где они жили, когда их выселили из общежития?
– Вот этого я не знаю, мы такого учёта не ведём.
– А были ли задержки с оплатой обучения?
– Нет, всегда платили вовремя. Они оба из вашего города. Я сейчас поищу их адреса.
– Подождите, – остановил Кузьмин уже повернувшуюся к выходу Полину Ивановну. Посмотрите на этот фоторобот. Может, эта девушка тоже училась в те годы?
– Знаете, память у меня хорошая, но здесь же не шестнадцатилетняя, поэтому, конечно, могу ошибиться. Но нет, такая у нас не училась.
Пока ждали возвращения Полины Ивановны, директор нам рассказала про техникум: когда был основан, на кого учат, где работают выпускники. Чувствовалось, что она говорила всё это не один раз. Видимо, все начальники выучивают наизусть текст, который произносят, когда им приходится перед кем-либо отчитываться. Для них это, как в пословице, одежда, по которой их встречают.
Когда Полина Ивановна принесла адреса, мы с Кузьминым поняли, что больше здесь уже ничего не узнаем, попрощались и пошли к выходу. Результат нашей поездки всё-таки был: теперь двоих парней объединяла не только фотография. Как оказалось, они вместе учились, и их поведение во время учёбы вызывало вопросы.
По-другому виделась теперь и роль блондинки – в обеих делах (убийство Черкасова и пропажа Бородина) она приобретала зловещий характер. Я был убеждён, что это одна и та же девушка, и Бородина тоже нет в живых. Непонятно только было: выполняла она чей-то заказ или это была её личная месть.
Опять мы шли по коридору мимо стенда с расписанием, мимо цветов на окнах. У выхода в нише стены (поэтому я и не увидел её сразу) в большом квадратном ящике с землёй росла пальма.
Когда вышли, я сказал:
– Вот, что значит, гражданский объект – кругом цветы, уютно, не то, что наши кабинеты – одни столы да бумаги. Ну, что будем делать? Едем, займёмся Черкасовым, который оказался Щербаковым? Больше у нас ничего нет.
Кузьмин задумчиво смотрел перед собой. И вдруг:
– Цветы, говоришь? Точно, цветы. Постой-ка. Я сейчас, на минутку…
Он быстро вбежал на крыльцо, рывком открыл дверь, как будто куда-то опаздывал.
Вернулся он минут через пять, посмотрел на меня повеселевшим взглядом:
– Поехали! Но только не домой, – и продиктовал водителю адрес.
– Что случилось? – спросил я.
– Ты видел – земля в цветочных горшках сырая? А когда мы заходили, была сухая. Значит, пальму кто-то полил при нас. Она как раз шла мне навстречу с ведром воды. Это Захарова Евдокия Владимировна. Пожилая женщина, значит, могла помнить кого-то из этой троицы, если работала в то время. Я показал ей фотографию. Она тоже узнала двоих парней. Не помнит только их фамилии. Кто такой третий, она не знает. Но когда я открыл папку, чтобы положить фотографию, она увидела фоторобот блондинки и узнала в ней внучку технички Семашко Галины Дмитриевны. Звать её Марина. Несколько раз она приходила к бабушке. Вскоре Семашко вышла на пенсию, и больше Захарова её не видела. Живёт она в своём доме. Улицу и номер дома не помнит, но как найти, рассказала. У неё свой дом. Сейчас мы едем к ней. Узнаем про эту Марину.
В машине стало как-то веселее. Я заметил, что Кузьмин несколько раз улыбнулся. Мне тоже захотелось.
Частный сектор окраин города – это красивые кирпичные дома, иногда двух и трёхэтажные, вперемешку с деревянными развалюхами, вызывающими чувство жалости, как при виде старого больного человека.











