Читать онлайн Июньский снег. Рассказы
- Автор: Николай Пятков
- Жанр: Современная русская литература
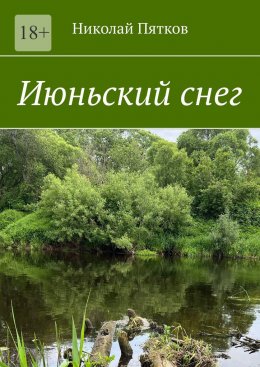
Редактор Сергей Мишутин
© Николай Георгиевич Пятков, 2025
ISBN 978-5-0067-7532-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
В жизни каждого человека кроме его работы, семейных обязанностей и общения с друзьями и товарищами должно быть ещё что-то такое, что я назвал бы «своим миром». Вот для меня таким миром является любовь к родной природе и увлечение рыбалкой и охотой (от последнего я, правда, давно уже отошёл по разным обстоятельствам). Они привиты мне с раннего детства моим отцом, страстным охотником и рыболовом. С ним я встречал рассветы и закаты у костров на берегах белорусских речушек, с ним я видел поражающий впечатление нерестовый ход горбуши через каменистые перекаты сахалинских рек, с ним я скользил на лодке-плоскодонке по узким камышовым проходам огромных зауральских озер и, уже без него, замирая от восхищения, вглядывался в темные глубины исландских фьордов или не мог налюбоваться на красоту обрамленных скалами и сосновыми лесами шведских озер, с трепетом сердца спешил к нерльским берегам в Тверском крае и живописным изгибам калужских рек, унизанных умиротворяющим видом древних монастырей и церквей. Но я никогда не был банальным добытчиком, а самыми моими большими и запоминающимися трофеями как на охоте, так и на рыбалке были иногда мимолетные, иногда длящиеся годами нечаянные встречи и общения с разными, бывало даже совершенно противоположными мне по мировосприятию людьми. В иных условиях я бы не обратил на них внимания или просто отверг общение с ними, но не там, где человек, глядя, как и ты, на августовский закат солнца над погружающейся в предвечернюю дымку долины чистой речки, вдруг начинает понимать тебя, а ты – его. Разве это не чудо?
Вот это – наряду с описаниями охотничьих и рыболовных будней, необычных событий и даже каких-то ностальгических переживаний ушедших в безвозвратность времен детства, юношества и взросления, – я и попытался передать в моих рассказах, где есть и прошлое, и настоящее, а, возможно, просматривается и будущее.
ИЮНЬСКИЙ СНЕГ
Папа пришёл вечером домой и объявил нам, что завтра он собирается поехать на рыбалку с ночёвкой. «Поедете со мной?» – спросил он нас. «Конечно!» – закричали мы с братом и сразу же стали готовиться к предстоящей поездке. Снасти у папы, заядлого рыбака и охотника, всегда содержались в полном порядке, так что нам оставалось только накопать червей, для чего мы во дворе нашего дома вывернули полосу земли вдоль серого в занозах дощатого забора, за которым возвышались элеваторные постройки.
На другой день в субботу мы дождались его с работы, взяли всё, что нам было нужно для рыбалки и ночёвки у реки, на рейсовом автобусе выбрались за город и, сойдя возле небольшой деревеньки, пошли полем от нагретого и пахнувшего асфальтом и машинами шоссе в сторону обозначенной полосой мелколесья пока ещё невидимой реки, зашагав вскоре вдоль её высокого и извилистого берега. Погода была прекрасная и, несмотря на то, что время близилось к вечеру, жаркое солнце висело ещё высоко – шла вторая половина июня. Папа сказал нам, что знает одно очень хорошее место, где мы можем остановиться и разбить наш рыбацкий лагерь.
Через некоторое время мы вышли к спускавшемуся с поля к реке оврагу, по дну которого, укрывшись кустарником и бурным разнотравьем, протекал ручей. В месте своего впадения он образовывал достаточно широкое – метра в три – мелководное устье.
«Вот здесь-то мы и будем рыбачить и ночевать!» – сказал папа. Мы были в восторге от места нашего привала и уже хотели сбежать с кручи берега к реке, как он остановил нас и спросил, видим ли мы отсюда рыбу в ручье? Мы присмотрелись – и, ух, ты! – действительно, песчаное мелководье устья было как будто усеяно тёмными палочками, которые не стояли на месте, а всё время дружно передвигались во все направления. «Это пескари, – объяснил нам папа, – зашли к вечеру в ручей, видно, тоже для ночёвки». И, заметив наше нетерпение, засмеялся: «Конечно, половим и пескарей! Ведь сегодня на ужин будем варить на костре настоящую рыбацкую уху. Лук, морковь, картошка, соль, лаврушка и перец – всем нас мама снабдила и всё у нас есть. Вот только ещё к этому пескариков, окуньков да ершей натаскаем. Замечательная, сыны мои, будет у нас с вами уха!»
Но пескарики оказались не такими уж простаками! Стоило только нам с удочками, снаряженными червяками, начать приближаться к ручью, стайка дружно уходила в сторону реки и исчезла в тёмной глубине. Как только мы отходили от ручья, стайка также дружно возвращалась назад. И так несколько раз. Но, наконец, мы, прикрываясь кустами, приноровились к хитрым пескарям и всё же выловили с десяток этих шустрых и пятнистых рыбёшек, а затем все вместе переключились на ловлю в самой реке шершавых окуней в полосатых «матросках», серебряных чебаков – так в тех краях моего детства называют плотву – и колючих сердитых ершей.
За этим увлекательным ужением речной разнорыбицы мы и не заметили, как прошло время и солнце нехотя поползло по верхушкам потемневшего дальнего леса. В воздухе стало немного прохладнее, но земля, нагретая за день июньским солнцем, все ещё дышала приятным тёплом, ароматом трав и луговых цветов, что особенно хорошо чувствуется у воды.
«Всё, – сказал папа, – на сегодня хватит! Завтра будет день, будет новая рыбалка. А сейчас варим уху и готовимся к ночлегу. Мы – рыбаки, а потому поднимаемся рано утром!»
Уха у нас получилась вкуснейшая! А какой ещё она могла быть, сваренная в видавшем виды папином армейском котелке, на берегу реки, с водой из ручья, с запахом костра и малиновыми искрами, исчезающими в тёмно-синем вечернем небе!
Было уже около полуночи, но спать нам не хотелось, костёр ещё и не думал затухать, а потому мы, уютно устроившись на разостланной у огня папиной плащ-палатке и прижавшись к нему, слушали рассказы о его сиротском детстве в деревне, о том, как он ещё мальчишкой с раннего утра трудился в поле на пахоте, а потом бежал с друзьями к чистой уральской речке, дно которой было усыпано плоской галькой, купался, ловил с друзьями на живцов щурят и нашаривал под камнями возле свай нагретого солнцем деревянного моста упирающихся раков.
Короткая июньская ночь всё-таки наступила, и над потрескивающим костром навис темный купол. Но стоило только отвернуться от огня, вглядеться, и казалась бы непроницаемая темнота пропадала, а в мягкой серости фиолетовой ночи начинали проступать очертания берега над рекой, ближайших кустов и было видно, как вспыхивали над лесом полоски-отсветы от провалившегося с неохотой за горизонт солнца. Никак не могли угомониться в поле перепела, настойчиво уговаривающие нас немедленно ложиться спать. «Слышите?» – спрашивал папа. И, действительно, в перепелиных криках мы с удивлением слышали именно это: «спать пора! спать пора!» Над головами то и дело с посвистом пролетали невидимые табунки запоздавших к уютному ночлегу в камышах уток, с шумом садившихся где-то рядом на воду. «Ну, до осени, – говорил папа, всматриваясь в тёмное небо, – подождём до осени, а там поедем с вами и на охоту!»
И вот когда мы уже были готовы закончить наши поздние посиделки, как вдруг случилось чудо. Из сгустившейся темноты на наши головы и на костёр неожиданно и не понятно откуда – то ли сверху, то ли с боков – полетели белые хлопья. Сначала они были единичные, но с каждой секундой их становилось всё больше и больше, и вот уже начался настоящий снегопад. Причём снег этот валил так сильно, что иногда казалось, что поднялась настоящая зимняя метель. Особенно впечатляюще выглядело то, что происходило над пламенем костра: снежинки не таяли, а десятками и сотнями вспыхивали, потрескивая, и падали искрами в огонь. Изумлению нашему не было предела. «Что это? – спрашивали мы папу, – снег? Но откуда он летом-то?» Папа махнул перед собой рукой и, раскрыв ладонь, показал нам пойманную «снежинку». С удивлением мы увидели небольшое сантиметра в полтора насекомое с беловато-прозрачными крылышками в неброскую крапинку, выгнутым тонким тельцем, завершающимся двумя длинными усиками-хвостами. «Подёнка, – сказал папа и, перевернув её пальцем, пояснил, – это однодневная бабочка, которая рождается в конце дня к вечеру, живёт несколько часов, успевает произвести на свет потомство и к утру погибает. Свет костра её привлекает, вот она сюда и летит, на огонь, и сгорает! Её иногда ещё называют подёнка-метелица. Видите, какую метель она нам устроила в июне?»
Мы, пораженные происходящим, слушали его рассказ о короткой жизни этой бабочки, смахивали с одежды валящиеся сверху «снежинки», протягивали ладони, на которые тут же попадали десятки удивительных и по-своему красивых насекомых, рассматривали их и нам было жалко, что они скоро умрут, не успев как следует пожить в этом чудесном мире, в котором так много интересного. Мы не могли нашими детскими умами и сердцами согласиться с этой чудовищной несправедливостью и начали наперебой предлагать всякие способы по спасению подёнки, но папа, улыбнувшись и потрепав нас по головам, сказал, что нет, мол, ребята, это тоже жизнь, а она бывает очень и очень разной. «Так устроено! Всем отведено свое время на этом свете», – добавил он, почему-то вздохнул при этом и подбросил в костер сухие сучья. Костёр затрещал, выбросив сноп мерцающих искр навстречу падающим в огонь подёнкам. Мы замолчали, думая каждый о своем.
«Вы лучше послушайте, – отвлекая нас от тяжких дум о судьбе поденки, сказал папа, повернув голову в сторону реки. – Слышите, что на реке творится?» А оттуда, с невидимой от костра в ночи реки слышались всплески, хлюпанье, шлепки – как будто по воде ходил или плавал какой-то большой зверь или металась огромная рыба, причём эти звуки доносились и слева, и справа. «Ничего себе! – удивленно протянули мы, – а кто это там?» «Это рыба кормится упавшей в воду подёнкой, – пояснил папа, вслушиваясь в темноту. – Вот, это ударил язь, вот опять он, слышите? А это вот лещ зачмокал… Не спят… Никто нынче в реке не спит и, видимо, до утра спать не будет. Сегодня у них большой праздник! Вылет подёнки. Такое не каждый день и не каждую ночь бывает, да и не каждый год можно наблюдать столь обильный её урожай». И, поворошив обожженным концом палки горящие в костре угли, выбросившие в темноту неба рой искр, добавил, что нам всем в эту июньскую ночь очень повезло увидеть это нечастое и завораживающее зрелище.
Увлеченные рассматриванием падающих на нас удивительных бабочек, мы забыли о том, что происходит вокруг. Обернувшись от огня, мы как бы раздвинули черноту окружающего нас над костром купола и огляделись. К этому времени короткая летняя ночь уже начала сменяться зарождающейся на востоке пока ещё робкой полоской сиреневого рассвета. И то, что мы увидели в светлеющей мгле скорого утра, было невероятно! Всё вокруг – траву, кусты, песчаный берег и даже воду – покрывали белесые пятна «снега». Подёнка лежала повсюду: где-то пореже, где-то – особенно ближе к воде, месту ее рождения – погуще. Рыба продолжала пиршествовать…
Но скоро мы заметили, что снегопад пошёл на убыль. «Снег» падал всё реже и реже. Наконец начали пролетать только одиночные «снежинки», а через некоторое время исчезли и они. Июньская «метель» закончилась, продлившись около получаса.
Мы долго ещё не могли уснуть, обсуждая то, что нам довелось увидеть. Но сон и теплая июньская ночь всё-таки взяли своё и, накрывшись всё той же плащ-палаткой и прижавшись к папе, мы – под потрескивание затухающего костра и продолжающегося шума на реке – уснули тем крепким сном, которым можно спать только в детстве…
…Не знаю, спал ли сам папа, но он разбудил нас, когда раннее летнее солнце уже вовсю слепило глаза тем утренним белым светом, какого днём не увидишь. Костёр потух, лишь отдельные угли, сохранившие форму сгоревших сучьев, ещё продолжали дымиться, причудливо меняя свой цвет от чёрного до белого и обратно. На реке было тихо. Мы побежали к воде умываться и увидели, что «снег» из подёнки ещё сохранялся в складках берегового песка, виднелся в траве. Там на проволочных длинных ножках бегали суетливые кулички, радуясь неожиданному обильному завтраку. Но ночного плотного «снежного» покрова уже не было, а оставшиеся его клоки под слепящим утренним солнцем уже не казались такими белыми, какими виделись нам ночью. Сейчас они посерели, сбились в мокрые и непривлекательные комки. Было даже трудно представить, что они слеплены из той бесчисленной белой бабочки-поденки, что завораживала нас своим «снегопадом» прошедшей ночью.
Мы вновь раздули огонь в костре, вскипятили чай, перекусили, и приступили к рыбалке. Но клёв был очень вялым, а иногда и вовсе пропадал.
«Да, – ближе к полудню сказал папа, поглядывая на высоко поднявшееся солнце, – подёнка устроила нынче праздник речным обитателям, а нам рыбалку-то подпортила! Сыта рыба, не желает брать нашу наживку. Давайте-ка, сыны, будем собираться домой».
Нам, конечно, хотелось ещё немного побыть на реке, но поскольку на разгоравшемся солнцепёке после короткого сна прошедшей ночи мы дружно, в отличие от сытой рыбы, клевали носами, то не стали особенно возражать и принялись послушно собирать нашу нехитрую рыбацкую поклажу. И только сейчас, когда заливали догоревший костёр и сворачивали бамбуковые удочки, обратили внимание на то, что к этому времени вокруг нас вообще не осталось ни малейшего намёка на то, что мы пережили прошедшей ночью. Июньский «снег» исчез без следа. «Вот и птицы голодными не остались. Так что все должны быть довольны подёнкой: и рыба, и птицы, и мы! Хотя бы за то, что довелось нам увидеть это чудо – „снег“ в июне. А рыбы мы с вами ещё наловим! Какие наши годы! А за неё, подёнку-то, не переживайте, она после себя большое потомство оставила. Посмотрим, что из него получится на будущий год!» – подвёл итог нашей рыбалке папа. И мы, попрощавшись с рекой и приютившим нас на ночь гостеприимным её берегом, отправились домой, где уже ждала мама, которой нам не терпелось рассказать о чудесах прошедшей ночи.
…Много лет прошло с тех пор, и много интересного мне случалось повидать за всё то время, которое я провёл в своих рыбацких и охотничьих походах или просто для отдыха бывая за городом. Неоднократно доводилось мне наблюдать впечатляющие по своей массовости вылеты майского жука, пробиваться через смерчевидные столбы роящейся мошки, попадать в такие полчища комаров, что и дышать было трудно – забивали нос и рот, и с трудом вести светлым днем машину, постоянно останавливая её, чтобы протирать лобовое стекло от разбивающихся об него сотнях белых бабочек-боярышниц, мечущихся над нагретым шоссе – да мало ли ещё какие сюрпризы, что преподносит нам щедрая на выдумки природа, встречал я на этом пути. Но никогда больше я не попадал в столь невероятный по своей красоте, неожиданности и драматизму июньский «снегопад», который устроила нам в ту далёкую ночь моего детства своим вылетом и короткой жизнью маленькая бабочка-подёнка.
ВЕРХУШКА ЁЛКИ
В дверь купе постучали, мама ответила «да, да», после чего зеркало отъехало в сторону, и в проёме вместо маминого, старшего брата и моего отражения мы увидели нашу проводницу в зимней шапке с железнодорожной кокардой и фирменной тужурке поверх тёплого свитера. Она, весело оглядев нас и спросив, готовы ли мы, объявила, что подъезжаем к нашей станции «Лебяжья-Сибирская» и надо поторопиться с выходом, поскольку стоянка поезда будет очень короткая. Проводница была хорошая и добрая тетенька, с которой мы за эти два дня путешествия из Москвы подружились, и она уже знала, что мы едем в гости в село Лопатки к бабушке и семье дяди Вани, старшего брата нашей мамы, и что собираемся встречать там Новый год. Проводница иногда ненадолго присаживалась у нас в купе, разговаривала с мамой, ахала, сочувствуя, что мы едем в Сибирь в такую морозную и снежную зиму, или понимающе кивала головой, когда мама, вытирая платком глаза, говорила, что ей надо с мальчиками побывать на кладбище у её папы, нашего дедушки, которого не стало в прошлом году, а мама не сумела приехать, – младшей нашей сестренке тогда только полгода исполнилось. «Папу-то сейчас одного оставили. Как же он без вас?», – улыбаясь и обращаясь к брату и ко мне, спрашивала наша проводница. «Он не один, – серьёзно отвечал ей мой брат, – у него там целый полк». Мама засмеялась: «Папа наш военный, подполковник, а за дочкой неделю посмотрит няня. Мы иногда нанимаем из деревни, что рядом с нашим военным городком». Но нам всё-таки казалось, что проводница жалеет нас, дальних и зимних путешественников, и поэтому, когда поила пассажиров вагона чаем из стаканов в подстаканниках со звякающими ложечками, подкладывала нам с братом лишние прямоугольные бумажные упаковочки сахара с нарисованным синим паровозом на рельсах и надписью «Дорожный». Сахар мы припрятывали в карманы, намереваясь им когда-нибудь воспользоваться – ехать ещё было далеко.
– Спасибо, – сказала мама, – да мы уж готовы. Сейчас только ребят одену потеплее, а то там на улице такая зима!
Мы уже стояли одетые в зимние пальто, на ногах валенки. Мама поглубже нахлобучила нам шапки и крепко подвязала их под подбородками, отчего мы недовольно закрутили головами, а ещё и обмотала нас поверх воротников тёплыми шарфами.
Выйдя из купе, мы с братом встали около окна и, держась за отполированный шаткий поручень, стали всматриваться сквозь промерзшее вагонное окно в серую морозную мглу позднего сибирского утра. Поначалу там не было видно ничего кроме темноты и белых снежных косм, пролетавших мимо. Но вот мигнули и пронеслись мимо нас какие-то огоньки, вынырнули и тут же скрылись занесённые снегом чуть не ли по крышу первые жилые постройки, размытыми желтыми пятнами протянулись редкие фонари, поезд застучал на стрелках и стал замедлять ход. Мы продышали на замерзшем стекле круглые окошки, протерли их варежками и поспорили, кто первым увидит встречающего нас дядю Ваню. И, вот, когда поезд наконец совсем остановился, качнув нас и звякнув всем своим промерзшим длинным телом, мы одновременно в свете от окошка, освещавшем платформу, увидели очень похожего на маму человека в коротком тулупе с поднятым воротником и серебристой каракулевой шапке. Он всматривался в окна вагона и провожал взглядом немногих пассажиров, которые сходили на этой станции.
– Мама, вон дядя Ваня, вон он! – одновременно закричали мы.
Мама подхватила багаж и, подталкивая нас на выход, поспешила к тамбуру, откуда уже в коридоре в клубах морозного пара появился поднявшийся в вагон наш дядя.
– Иван, возьми детей! – вместо приветствия крикнула ему мама.
– Дядя Ваня! – мы, толкаясь в узком проходе, побежали к нему. Он со словами «вот они, архаровцы!» подхватил нас в охапку и потащил на выход, мама поспешила за ним. Дядя Ваня ловко переставил нас с подножки тамбура на платформу и перехватил из маминых рук наш небольшой багаж. Чуть ли ни сразу же после этого гулко звякнул замёрзший станционный колокол, раздался гудок локомотива, трель свистка, и поезд, лязгнув сцепками, медленно стронулся с места. Мы с братом, задрав головы, смотрели на засыпанный снегом вагон, его мутно светящиеся замёрзшие окна и нам казалось, что это мы вместе с платформой, мамой и дядей Ваней поехали назад мимо примерзшего колёсами к рельсам поезда дальнего следования. Наш кондуктор со свернутым флажком, стоя в открытом тамбуре, улыбаясь, кивнула нам на прощанье, проводила глазами станцию Лебяжья и поспешила побыстрее захлопнуть вагонную дверь и уйти в тепло своего служебного купе.
– Ну, давайте, теперь поздороваемся как следует. Здравствуй, Иван! – мама обняла и поцеловала дядю Ваню в пунцовую от мороза и ветра щёку. Он, в свою очередь, наклонился и поцеловал нас с братом, кольнув щетиной и обдав запахом табака, овчинного полушубка и ещё чего-то радостно-родного, что ожидало нас зимой в деревне у бабушки.
– Всё-всё, хватит нежностей на морозе, пошли, ехать надо, – сурово, но с улыбкой сказал дядя и, взяв весь багаж, повёл нас через пути, потом через пустынный станционный перрон, на снежной поверхности которого виднелись полузанесенные снегом следы редких пассажиров.
– Иван, – спросила мама, спеша за ним и держа при этом нас за руки, – я беспокоюсь, как же мы доедем до дома, когда вон сколько снега навалило, ужас? Ведь не проехать-не пройти. Ты же, наверное, на своём «газике» приехал? А вдруг где застрянем, детей поморозим?
– Проедем! – не оборачиваясь, ответил он. – Сейчас покажу тебе мой «газик».
Мы завернули за деревянное здание станции в один этаж и увидели, что на небольшой площади, за которой раскинулся посёлок, не было никакого «газика», а тарахтел и пыхтел синим дымом и белым паром гусеничный трактор с прицепленной на жесткой сцепке огромной деревянной будкой, стоящей на широких полозьях. Вернее, это был чуть ли не настоящий дом, особенно, когда мы подошли поближе. В стене, повернутой к нам, поблескивало окошко, такое же было и на противоположной стороне домика, а над плоской крышей торчала жестяная труба с конусным навесом, из которой, как и из трактора, тоже валил дым.
– Вот, – сказал дядя Ваня, обращаясь к маме, – это наш транспорт, на нем и поедем. Ты же знаешь, Катя, к нам автобус-то и летом бывает не добирается, особенно когда дожди, так что, вот, придумали, как людей из Лебяжки (местные так между собой называли эту станцию и посёлок) зимой или в распутицу возить. Залезайте!
– Ничего себе! – закричали мы с братом от восторга. – Мы в этом доме и поедем к бабушке? Ура! – и, вырвавшись из рук мамы, мы захлопали ладошами в варежках.
Мама недоверчиво покачала головой, но дядя Ваня уже открыл дверь с заднего торца и мы, толкаясь, полезли внутрь домика.
Мы там оказались не одни: на прибитых к стенам деревянных скамьях уже сидело несколько человек – мужчин и женщин – с узлами, сумками, корзинами и даже с живностью: у одной тетеньки из корзины накрытой цветастой тряпкой высовывал голову на длинной шее беспокойно гоготавший серый гусь. А посредине стояла прикреплённая к дощатому полу металлическая бочка-печка, та, которую принято называть «буржуйкой». Она уже топилась, сквозь щели дверцы виднелось бушующее внутри оранжевое пламя и после мороза чувствовалось, как от печки пышет жаром. Рядом была свалена груда колотых березовых дров: они оттаивали и от них пахло лесом.
– В тесноте, да не в обиде, и к тому же в тепле, а то сегодня мороз порядочно жмёт: уже, говорят, под тридцать будет, – сказал севший с нами в расстегнутом тулупе дядя Ваня и, обратясь к притихшим пассажирам, нарочито грозно спросил, – всем в Лопатки? А то завезём, к себе потом не доберётесь.
– Всем, всем! – дружно откликнулись заулыбавшиеся пассажиры этого необычного ковчега. Загоготал и гусь, которому тоже нужно было в Лопатки. – А то ты, Иван Иванович, как будто не знаешь нас, лопатинских-то. Мы-то тебя сразу признали. А это, никак, гости к тебе?
– Да, вот, сестра с племяшами на Новый год приехали. Из Белоруссии, четыре дня добирались. – Он, приоткрыв дверь домика, высунулся наполовину и, перекрывая шум работающего трактора, прокричал «поехали!»
Тут же мы услышали, как двигатель застоявшегося на морозе трактора зарокотал сильнее и мы, держась за маму, дядю Ваню и скамейку, качнулись и неожиданно мягко поехали.
До села Лопатки, где жил со своей семьей дядя Ваня и наша бабушка, где провела предвоенную молодость наша мама и где через год после войны родился мой старший брат, от станции Лебяжья ехать надо было около сорока километров. Летом-то доехать туда можно было без больших проблем по просохшей грунтовой дороге, но, вот, весной и, особенно, осенью в дожди и распутицу добраться до села в иные дни, а то и недели было просто невозможно. Зимой связь была лучше – заснеженную дорогу хоть как-то чистили и накатывали, и она становилась более-менее проезжей, но только до больших снегопадов, которых в этих краях всегда хватало. Сугробы наметало в человеческий рост, а морозы в тридцать и в сорок градусов считались в этом краю делом обычным и привычным. Так что застревать в сугробах было рискованно. Все-таки это была уже Сибирь, хоть и Западная, которую почему-то кто-то вдруг перекрестил в Зауралье, что, кстати, местный люд здесь не одобрял и считал себя по-прежнему сибиряками, а не какими-то там «зауральцами».
Миновав громадину молчавшего элеватора, мы выехали из пока ещё как будто спящего станционного посёлка. Но на самом деле жители его наверняка давно уже были на ногах: над утонувшими в глубоком снегу избами курились трубы, редкие прохожие провожали взглядами наш гусеничный поезд, из-за заборов, потревоженные взрывными звуками работающего тракторного двигателя, тявкали, нехотя выполняя в такой мороз свои обязанности, четвероногие сторожа. Выехав за околицу в чистое поле, наш тракторист старался держаться заметённой снегом дороги, но это ему не всегда удавалось, а иногда он и сам съезжал с неё, срезая и укорачивая путь. Этому ничто особенно не мешало: вокруг под снегом лежали скованные морозом ровные поля с отлогими холмами и изредка темнели местами небольшие островки березовых лесов, которые здесь называют «колками» (с ударением на первом слоге).
Мы с братом могли видеть всё это в окошки, к которым нас, сердясь, отпускала мама – ей казалось, что мы будем тревожить устроившихся там на долгий путь дядиных односельчан. Но они благодушно улыбались, подвинувшись, подпускали нас к окошкам и даже поддерживали, когда домик наш покачивало на ухабах или наклоняло на холмах. Но там виден был только один снег, да окончательно очистившееся от утренних облаков бледно-голубое зимнее небо. Поэтому большой радостью для нас, да и остальных пассажиров были несколько остановок нашего тракторного поезда, чтобы можно было передохнуть от неудобного сидения и укачивания, а мужчинам выйти покурить – мотаться в вагончике предстояло часа два-три, не меньше. Иногда такая «морская» качка была довольно чувствительна – все хватались друг за друга, вцеплялись в скамейки, женщины охали. Хозяйка гуся не всегда успевала удерживать свой живой груз, и тот, гогоча от изумления, ездил в корзине по вагончику, причаливая то к одному, то другому пассажиру. Когда гусь направлялся к нам, я испуганно хватался за маму – летом такой же гоготун больно пощипал меня сзади и с тех пор я их очень боялся. Но дядя Ваня каждый раз решительно выставлял на пути надвигающейся для меня угрозы свою ногу в белом отделанном по ступне коричневой кожей начальственном сапоге-бурке и гусь уезжал к его односельчанам. Раскалённую печь, в которую дядя Ваня ловко на ходу подбрасывал дрова, мотающийся гусь всегда успешно проскакивал мимо, чему я несколько досадывал – какое-то чувство мщения за прошлые покусы во мне всё-таки таилось. Наконец дядя не выдержал этого футбола и пригрозил хозяйке гуся высадкой в чистое поле с ее домашней птицей, если она не будет его держать как следует. Тетенька тут же крепко ухватила корзину за ручку, виновато и понимающе всем улыбнулась, а я испуганно взглянул на маму и уже был готов простить ни в чем не повинного гуся с его хозяйкой, как мама мне сказала, что дядя Ваня просто шутит и никого на таком морозе в чистом поле он, конечно же, не высадит.
На первой же остановке, когда дядя Ваня распахнул дверь, мы буквально задохнулись от ворвавшегося в вагончик свежего морозного воздуха, в котором, искрясь в лучах невысокого, но всё же уже близкого к полуденному бело-слепящего солнца на синем небе, кружились невидимые мириады блёсток снежной пыли, поднятой то ли нашим трактором, то ли не удерживаемом ничем на равнине ветром. Кругом, насколько было видно, белел только снег, уложенный каким-то сказочным великаном в округлые холмы и синеватые впадины. Казалось, что по его серебристой, как затвердевшая сахарная корочка поверхности, можно было бежать, скользить, ехать на спине и на животе, взлетая с одного холма на другой. Как же нам хотелось это попробовать!
Мама не успела даже сказать слова, как мы с братом спрыгнули вслед за дядей Ваней в снег, придавленный между широко расставленными полозьями днищем нашего домика, и тут же провалились чуть ли не до пояса.
– Что же вы делаете! – отчаянно вскрикнула мама, – вы же наберёте полные валенки снега! Кто вам разрешил выйти? Беда мне с вами!
Но было поздно, снег уже был в валенках и я это быстро почувствовал. Тогда мама, безнадежно махнув рукой, попросила дядю Ваню помочь нам с пользой провести время на этой остановке. Опыт решать такие дела у нашего дяди был: дочь в возрасте между мной и старшим братом, и сын – младше меня на год. Дядя молча выдернул нас по очереди из глубокого снега и, как шахматные фигуры, переставил за угол вагончика, сурово скомандовав: «Быстрее, а то всё на свете отморозите! – и добавил, – сами! Большие уже». Поняв, что нам так или иначе попадёт от мамы за самовольство, мы еще попытались успеть бросить друг в друга снежки. Но этого не получилось: во-первых, снег на таком морозе был рыхл и пушист, и потому не лепился, а, во, вторых, – не знаю, как брату – мне тут же в руки впились миллионы иголок и всё желание играть в снежки сразу же пропало и захотелось назад в вагончик к жаркой печке.
А мороз, похоже, стал ещё крепче. Дядя вернул нас назад к маме, она сдернула наши валенки и вытряхнула из них кучу снега, который тут же на глазах начал превращаться в тёмные лужицы воды на теплом деревянном полу. Руки у нас за эти минуты на снежном поле так замёрзли, что отогреваемыми возле раскалённой печки скрюченными пальцами даже пошевелить было невозможно и болели их кончики. Хотелось заплакать, но мы терпели, знали, что наши слёзы маме сейчас не понравятся и нам не помогут.
– Грейтесь! – сердито сказала она, – и чтобы к приезду к бабушке хотя бы носки у вас высохли. Протягивайте ноги к печке!
Была ещё пара остановок, но мы уже не рвались на мороз, хотя и вытягивали шеи, как тот гусак в корзине, в сторону открытой двери, желая посмотреть, что же всё-таки происходит там на снежных просторах без нас. Иногда кто-то из пассажиров смотрел в окошко и, узнав местность, говорил сколько нам ещё осталось ехать до Лопаток. Наконец подошло время, когда все сказали «уф-ф!», а дядя Ваня объявил, что въезжаем в наше село. Как и все остальные, мы уже, честно говоря, подустали от долгой езды в закрытом вагончике, бултыхания на кочках, от крутых подъёмов и спусков, когда все хватались друг за друга и, хотя и со смехом, но с явным нетерпением ждали, когда же мы будем на месте. А мы ещё ждали того, что наконец увидим нашу бабушку, тётю и двоюродных сестру и брата, с которыми сдружились, бывая у них летом гостях. Лопатки и их дом были нам родным местом: мама, как я говорил, провела здесь свои школьные годы и молодость, брат тут родился, а я в трехлетнем возрасте ходил со старшей двоюродной сестрой в детский сад, когда после возвращения из Германии, предыдущего места службы папы, был оставлен здесь на попечение родственников на полгода, пока родители и старший брат устраивались в Белоруссии.
Потихоньку вагончик пустел. Сошла в каком-то проулке и тетенька с гусём, который, как мне показалось, на прощанье взглянул на меня круглым глазом и прогоготал что-то примиряющее – трехчасовая езда нас, похоже, сблизила.
– А вот и наш черёд пришёл – приехали! – через некоторое время сказал и дядя Ваня, когда опустевший вагончик остановился у видневшейся в окошке части резной крыши дома с водосточной трубой. Мы с братом, боясь снова рассердить маму, шепотом крикнули «ура!» и теперь уже с ее разрешения спрыгнули с порога нашего передвижного домика на укатанный снег деревенской улицы и оглянулись по сторонам.
Ах, как же здесь было здорово! Знакомая по нашим летним приездам сюда улица сейчас совершенно преобразилась: она утратила разнообразие летней расцветки, в которой можно было найти все краски радуги, создаваемой уютными цветущими палисадниками перед окнами домов, серебристыми от шевеления на теплом ветру листьев деревьев, коричневатыми кустами акаций с созревшими стручками, из которых мы делали «свистульки», и усыпанными по краям мелкими желтыми цветками зелёными лужайками проулками между домами, через которые шли отлогие спуски к озеру. Не видно было сейчас и проложенных вдоль обеих сторон улицы аккуратно сколоченных деревянных настилов, заменяющие здесь весной, летом и осенью асфальтовые тротуары – по ним, нагретым летним солнцем, было приятно бегать босиком, рискуя, правда, получить занозу в пятку, или гонять на велосипеде «Школьник» нашего младшего двоюродного брата. И над всем этим благолепием тогда высоко в голубизне бесконечного неба висело раскаленное солнце и плыли неведомо куда белые громадины летних кучевых облаков.
А сейчас была зима, настоящая морозная сибирская зима с обильным снегом, с искрящимся воздухом, со слепящим солнцем, которое хотя и мало согревало, но было настолько радостным, что нам, мальчишкам, думалось, что нет на свете лучше времени года, чем зима! Крыши домов нахлобучили по самые глаза-окошки пышные белые дед-морозовские шапки и лишь там, где торчали приветливо курящиеся сизым дымом топящихся печей трубы, снег осел вокруг темно-синим провалом, а палисадники были завалены снегом до самых оконных ставней и едва угадывались по торчащим верхушкам окружающих их штакетников. Да и сама улица с ее летними неровностями превратилась под укатанным снегом в отличную, немного присыпанную соломой и навозом, желтоватую дорогу, и по ней, наверняка, можно было кататься на валенках или на санках, что, собственно, нам и хотелось тут же сделать, но вмешался дядя Ваня.
– Так, – скомандовал он, – ну-ка, все в дом! Или примёрзли?
Из-за украшенных изморозью стёкол двойных рам выходящих на улицу окон дядиного дома уже строил нам рожицы двоюродный брат, махала рукой и радостно улыбалась его старшая сестра. Дядя Ваня потянул за торчащий из отверстия высокой калитки кожаный ремешок, с обратной стороны что-то холодно звякнуло металлом, массивная дверь открылась, и мы, перешагнув через высокий порог, вошли во двор дома.
Дядин дом, как и большинство домов села (в Лопатках проживало тогда порядка двух с половиной тысяч населения, к тому же в те годы здесь был районный центр), являл собой пример добротной сибирской жилой постройки: срубленный из обхватных стволов сосны пятистенок (пятая опорная стена была внутренней и делила дом на две части: большую – жилую и меньшую – хозяйственную), проконопаченный снаружи и изнутри паклей и мхом, крытый кровельным железом и обнесённый обязательной для местного климата утепляющей завалинкой. Окна с трёх сторон – на улицу и во двор, окруженный высоким забором с массивными деревянными воротами, увесистым запором-задвижкой и калиткой, украшенной снаружи незатейливой резьбой. Над воротами двусторонний навес от дождя и снега – им надлежало служить долго. Вдоль дворовой части по всей длине забора выкладывалась постоянно пополняемая высокая поленница березовых дров: русская печь на кухне – о ней надо сказать отдельно – топилась ежедневно, а в холодное время года к топке дровами подключалась и высокая чёрная в белых с синими разводах изразцах круглая голландская печь в «зале» – так называлась большая или гостиная комната, к которой за тонкой перегородкой примыкала небольшая комнатка-спальня для детей – одним боком «голландка» выходила и туда. Во дворе – хозяйственные постройки для содержания домашнего скота и птицы, а также хранения всякой утвари, за ними огород, большая часть которого вполне понятно отводилась под картошку и горох, тут же высокие, хорошо сдобренные навозом грядки под огурцы, редиску, лук, чеснок, помидоры, зелень – в основном укроп для засолки овощей. Здесь же стояла высокая деревянная бочка с водой, в которой мы для виду по настоянию взрослых мыли сорванные с грядок огурцы и редиску и тут же их хрумкали – и ведь никогда не болели животами! В огороде же находилась и уборная-скворечник, возле которой летом обильно вырастала, цвела, а затем и усыпалась чёрными сладкими ягодами так называемая поздника, которую по созвучию некоторые называли несколько по иному, намекая на место её произрастания. Садами в селе практически никто не занимался – плодовые деревья часто гибли при здешних суровых зимах, да и с зайцами была просто беда.
С незлобивым лаем нам в ноги бросилась небольшая дворовая собачка, Жулька, которую дядя Ваня, посуровев, «секретным» словом тут же заставил замолчать и с извиняющимся взглядом укрыться где-то возле хлева. Из-под высокого крытого крыльца подбежала к нам и другая собака – светло-коричневого цвета ирландский сеттер Дианка, которую мы знали и любили, бывая здесь летом. Она без лая деликатно облизала нам в знак радости от нашего приезда руки и лица, одновременно осторожно искоса поглядывая на хозяина, который, как мы помнили, мог быть суров и с ней, его верной помощницей в поле и на озёрах – дядя был заядлый охотник. Поэтому она сама без напоминания отстала от нас и молча стояла рядом с крыльцом, усиленно работая косматым, но аккуратным хвостом. Дианка и ее дворовая соратница жили во все времена года по-спартански: под крыльцом, где пространство было оборудовано под некое подобие будки. «Собаку в дом пускать – значит портить», говорил дядя Ваня.
Мы поднялись по крыльцу, дверь, обитая тёплой мешковиной и перекрещенная брезентовыми ремнями, прихваченными гвоздями с широкой шляпкой, отворилась, и вот мы уже в объятиях нашей тети и смущенно здороваемся с повзрослевшими двоюродными сестрой и братом.
– Давайте-давайте, проходите в сени, да дверь закрываем, а то холод в дом напустим!
В сенях темно и в перемешку с ворвавшимся морозным воздухом пахнет сушеной рыбой, какой-то травой и смолистым деревом, как от новогодней ёлки, внесённой с улицы в домашнее тепло. И мне почему-то казалось, что сейчас мы увидим и эту ёлку.
Вот открылась другая дверь – прямо в кухню, пахнуло щемящим сердце милым жильём и печным теплом – и я уже слышу родной голос нашей бабушки. Она, поджарая старушка, как всегда, аккуратно причесанная, в легком домашнем головном платочке, завязанном на затылке под седым пучком волос, в ситцевой с мелкими цветочками кофточке, напущенной на так знакомую нам, ее внукам, длинную юбку, к которой мы прижимались лицом, когда она гладила нас по головам своей натруженной и такой ласковой рукой, приговаривая свое обычное «ах, вы, мои варнаки!», независимо от того натворили мы что-то или нет. «Варнаки» – сибирское название ссылаемого в те края в давние годы каторжного люда давно уже потеряло своё первоначальное значение и могло быть и ласковым, и неприязненным, смотря кто и как его употребляет. А бабушка наша любила нас всех. Вот и сейчас мы прижались к ней, а она, сдернув с нас шапки – «ведь взмокнете!» – целовала нас в макушки, а мы с братом жмурились как коты на солнце от этих ничем незаменимых ласок. Особенно, как мне казалось, больше их перепадало мне: я был любимый бабушкин внук, поскольку, как мне говорили взрослые, «пошёл» в дедушку, которого она называла «мой старичок». А ещё я внешне напоминал ей ее старшего сына Сашу, нашего дядю, погибшего в прошедшую войну. Двоюродный брат при этих ласках смотрел на нас, криво улыбаясь, наверное завидовал, поскольку был капризным и довольно зловредным мальчишкой, за что ему частенько влетало как от родителей, так и от бабушки, которая все равно его любила наравне с нами, а мы с ним вели себя как с самым младшим среди нас, детворы, и старались его не обижать.
Бабушка была ещё и в своём неизменном фартуке. Я уж и не могу вспомнить, видел ли я ее когда-нибудь без него – она всё время была занята домашними делами. Летнее её время начиналось в четыре утра с дойки коровы Машки и выгона ее и двух овец в стадо, которое в облаке золотистой в лучах восходящего солнца мягкой утренней пыли и под бряцание колокольцев вели пастухи через всё село по главной улице, и до вечерней дойки, кормления овец и вечно недовольной своим содержанием свиньи, а также кур и гусей; зимой – все то же самое, только корова, свинья и овцы сидели сиднем или лежали в хлеве, требуя подачи корма прямо на «стол». В промежутке между утренними и вечерними делами бабушка стряпала, готовила, прибиралась, возилась в огороде, что-то штопала, вязала всем шерстяные носки, топила печи и ещё находила время для того, чтобы на короткие полчасика присесть на кухне и, надев очки с толстыми стёклами, почитать местную газетку-малотиражку и при этом, возможно, всплакнуть над судьбою героев какого-нибудь романтического произведения, которое для привлечения подписчиков частями печатали в ней находчивые районные газетчики.
Кухня, в которой нас встретила бабушка, занимала чуть ли не полдома, не менее четверти ее пространства было отведено под русскую печь, огромную, высокую – взрослый не заглянет на лежанку, если не встанет на приступ, – с широким и высоким устьем, куда бабушка ухватом или деревянной лопатой легко и ловко ставила и доставала огромные чугунные горшки и прокопченные жестяные противни и сковороды. Горнило печи, когда там в глубине бушевал управляемый бабушкой жаркий огонь, напоминало о сказках про злую бабу Ягу и ее лопату, на которой она обманом пыталась отправить в гудящее пламя того или иного молодца, но в итоге попадала туда сама. И, действительно, места там могло хватить и для молодца, и для Яги. Но печь нашей доброй и любимой бабушки была мирная даже внешне: всегда тщательно побеленная, с начищенными заслонкой и вьюшками, украшенная поверху несколькими плитками тех же изразцов, что и на «голландке», ухваты, лопаты и прочий печной инвентарь аккуратно собран возле стены в нише или так называемом запечье. На лежанке всегда и зимой, и летом была расстелена кошма или лежали шерстью вверх дядины тулупы, к всегда тёплой широкой трубе прислонены подушки в цветастом ситце. Вдоль печи на проволоке занавеска. Рядом – на высоте лежанки – обширные деревянные полати, куда можно было перебраться, не спускаясь с печи, но для нас, детей, это было рискованное предприятие: для меня как-то одно такое путешествие завершилось конфузом – я не удержался и мягко, отчаянно цепляясь за выступы печи, съехал вниз прямо в стоявшую рядом кадушку с водой, откуда был немедленно выдернут бабушкой, которая, легонько шлёпнув меня по попе и проговорив своё обычное «ах, ты, варнак!», выгнала на улицу сохнуть, благо стояло жаркое лето. Лежанка на печи и полати были лучшими местами для наших детских игр, когда на улице была непогода. На протянутой вдоль печи массивной деревянной полке с горшками и мисками, был укреплён шведский сепаратор фирмы «Альфа-Лаваль», купленный ещё в довоенные годы. Бабушка на нём «разгоняла» молоко на сливки и «обрат» (обезжиренное молоко). Сливки шли на взбивание масла, а из обрата она делала удивительно вкусный квас. Станина у сепаратора была чугунной, а всё остальное из какого-то матово-серого металла и пройти мимо него, не прокрутив ручку – он при этом мягко жужжал, – было просто невозможно.
А уж какой вкусный хлеб – чаще в форме калачей – она пекла в этой печи из смеси пшеничной и ржаной муки! Сам по себе процесс просеивания был уже завораживающим: деревянное сито, казалось, само летает меж побелённых мукой бабушкиных ладоней и под ним, на тщательно выскобленном столе быстро растёт светло-кофейного цвета островерхая горка чуть дымящейся муки тончайшего помола. Много раз я пытался помогать бабушке просеивать муку, просил ее научить меня этому, казалось, нехитрому делу, но, оказалось, что это совсем даже не просто и требует не только сноровки, но и музыкального слуха, чтобы выдерживать заданный ритм мелодичного постукивания, слушая который можно было сладко задремать на полатях. Но какими же вкусными были из этой муки ее сибирские шаньги и пироги! Когда она вынимала их из печи, мы уже не могли спокойно бегать во дворе или играть на улице – запах больших круглых шанег, на которых сверху золотистой корочкой запеклась в печи густая домашняя сметана, творог или мятая с луком картошка, да ещё и сдобренные по горячему верху недавно взбитым коровьем маслом, доставал нас везде. Пироги она пекла с мелко покрошенными яйцом и зелёным луком, а иногда и с повидлом из огромных желтой меди жестяных банок, которые дядя Ваня привозил из Лебяжки. Мы, как галчата, собирались на кухне возле бабушки и она, усадив всех за стол, наливала к шаньгам и пирогам кому парного молока, кому сладкого чая из кипящего самовара, а кто любил и так, всухомятку.
А летом по утрам нас будило солнце, заглядывающее в окна и отражающееся от крашенных приятной светло-коричневой краской широких половиц, и невозможный по своей вкусовой красоте запах блинов, которые уже успевала напечь для нас среди всех ее многих дел по дому наша бабушка. К блинам на столе стояла глиняная чашка с растопленным золотистым коровьим маслом, которое бабушка сбивала сама в маслобойке. Блины складывали треугольником, чтобы зачерпнуть как можно больше масла – так здесь было принято их есть. Стояло и блюдце с сахарным песком, которое мы всегда подвигали младшему брату – он был фанатичный сладкоежка. Бабушка, радуясь, смотрела на то, как мы поглощаем блины, но иногда почему-то при этом тихонько утирала концом фартука глаза. Я не понимал, почему она плачет и как-то, обняв ее за шею, когда она, присев отдохнуть, читала свою газету, спросил ее об этом. «Сынок мой, Сашенька, твой дядя, когда раненый лежал в госпитале, все в письмах просил меня напечь и прислать ему этих блинов. Очень скучал по ним!» – сказала она, поглаживая меня по стриженной голове. «Ты послала?» – спросил я, надеясь услышать, что да. «Послала, – ответила бабушка, сняв очки и опять прижав конец фартука к глазам, – но куда там! Дошли ли нет, не знаю. Война была. Да и где наши Лопатки, а где тот самый Кронштадт…». Дядя Саша, сержант и замкомвзвода, воевавший на ораниенбаумском плацдарме, после тяжелого ранения, цинги и дистрофии, вызванной голодом, умер в эвакуационном госпитале и похоронен на Кронштадтском военном кладбище весной 1942 года в возрасте двадцати пяти лет. Его фамилия выбита там на стене памяти, и в дождливый июльский день уже в наше время я нашел и навестил эту братскую могилу, положив к её коричневым плитам мокрый букет цветов…
…С нашим приездом в доме дяди Вани стало веселее и шумнее, вот только никакой ёлки в комнатах не было, что нас, детей, очень печалило, поскольку до Нового года оставалось два дня. Мы с братом привыкли к тому, что у нас дома новогодняя ёлка была каждый год, ставилась она папой заранее, а ёлочных игрушек было столько, что их могло бы хватить на украшение двух или даже трёх зелёных красавиц. И всегда тридцать первого декабря, несмотря на поздний час, родители поднимали нас, сонных, и дарили подарки, с которыми мы вскоре опять засыпали и, наверняка, видели удивительные и радостные сны. Из подарков мне почему-то ярко запомнились круглые жестяные коробочки, на ультрамариновой крышке которых были густо рассыпаны нарисованные разноцветные конфетти и тонкой серпантиновой ленточкой выведено слово «Монпансье». Под крышкой лежали солнечного цвета слегка слипшиеся ромбики леденцов, фруктовый запах которых с тех пор и навсегда остался для меня связанным с новогодними праздниками.
Мы просто задергали маму вопросами о том, будет ли в доме дяди ёлка? Мама, наконец, сдалась и, строго предупредив нас о том, чтобы мы не досаждали по этому вопросу дяде Ване, сказала, что попробует всё выяснить. Но сначала она долго шепталась с тётей и поскольку они обе были учительницами и подругами, когда ещё бегали в девчонках, общий язык у них нашёлся быстро. И вот в составе такой усиленной педагогической делегации они провели серьезные переговоры с дядей Ваней, который в итоге, встав и пристукнув ладонью по кухонному столу, решительно заявил: «Ладно, будет вам ёлка!»
И, действительно, на другой день ближе к позднему вечеру, когда заснеженное село готовилось ко сну, погрузившись в густую ночную тьму – постоянного электричества там тогда ещё не было и свет в домах зажигался только на несколько часов вечером, когда из-за озера Долгое, тянувшегося вдоль одной стороны села, слышалось тарахтение генератора на местной машино-тракторной станции, – во двор на своём служебном «газике» въехал дядя Ваня и, ни слова не говоря, вытащил из машины елку. Собственно, это была не ёлка, а невысокая, но густая сосна – ели в том краю не так часты. Дядя занёс ее в дом и установил в зале, рядом с двумя молчаливыми фикусами-старожилами в тяжеловесных деревянных кадушках. «Можете украшать», – немногословно распорядился он и отнёс принесённый с собой из машины вместе с ёлкой топор куда-то в сени. Мы, дети, грянули своё обычное «ура!» и вместе с нашими мамами и бабушкой, сидевшими все это время затаенно на кухне, воспряли и начали думать, чем мы украсим новогоднюю ёлку. Собственно, всё уже было продуманно: в запасах у тёти нашлись какие-то старые елочные игрушки, младший брат, помявшись, принёс фантики и фольгу от съеденных им, сладкоежкой, конфет – он их собирал, сестра достала свои совсем детские игрушки, которые тоже могли быть украшением для ёлки, мама, применив свой учительский опыт, взяла ножницы и наладила с нами изготовление из сохранившейся на полатях старой обойной бумаги снежинок, китайских фонариков и гирлянд, а также высыпала на стол весь запас привезённых с нами шоколадных конфет, бабушка достала цветные нитки и кусочки ткани. Не было только верхушки для ёлки, с которой она могла бы, наверное дотянуться и до потолка, чего нам ну очень! хотелось. Младший брат после того, как мы живо описали ему это непременное украшение любой ёлки, уже начал капризно сопеть носом, мол, хочу верхушку и всё тут! «Ну, нету у нас верхушки, сынок! Ничего не поделаешь, обойдёмся и так», – уговаривала его тётя и в это время на кухне вновь появился нахмурившийся дядя Ваня, который вдруг сказал, что завтра попробует достать на работе эту самую верхушку для ёлки. Надо сказать, что наш дядя был начальником отдела культуры в районном руководстве, а поскольку ёлки для детей и взрослых в сельском клубе, бывшем церковном храме, устраивались, то шанс добыть островерхое украшение был. Тетя, чтобы не спугнуть его замысел, без нажима и как бы между прочим сказала: «Ну, что ж, Иван, получится, так получится, а нет, так нет!». «Сказал, достану – значит достану!» – усиливая в ответ на это свою задачу, ещё суровее ответил дядя Ваня, и в это время замигали лампочки на кухне и в зале, затих звук заозерного генератора и в доме, как и во всем селе, наступила темнота. Бабушка привычно чиркнула спичкой и зажгла висевшую над кухонным столом керосиновую лампу под широким абажуром и в каком-то странном металлическом жабо, похожем на то, которое носили герои из сказочных фильмов. Это круговое жабо было надето прямо на стеклянную трубку керосиновой лампы и от него шли два тонких проводка к висевшему на стене небольшому радиоприемнику. Бабушка подкрутила фитиль, добавляя свет на кухне, и приемник внезапно ожил, кашлянул по-своему и сказал мужским голосом, что «…вся наша великая страна готовится вступить в Новый 1954 год».
– Давайте-ка ужинать, потом попьём чаю и будем ложиться спать. И так ишь как сегодня запозднились! – захлопотала на кухне бабушка. Светлой эмали стрелки на часах с кукушкой, ещё более таинственные в своём тиканье при колеблющемся свете керосиновой лампы, приближались к девяти. Бабушка вдруг вспомнила, что к утру, когда она опять займётся стряпней, ей понадобится пяток куриных яиц. «Ох, совсем забыла! Пойду, принесу», – она пошла было накинуть на себя пуховый платок, чтобы идти по двору в курятник, как старшая сестра ринулась вперёд ее, сунула ноги в валенки и решительно, как и её папа, сказала: «Я сама схожу! Сиди, бабуля, в тепле, – и, посмотрев на меня, добавила, – и он со мной пойдёт, поможет. Пойдёшь?» Мне, честно, не хотелось выходить на мороз, да и встреча с петухом и коровой меня никак не манили. Но делать было нечего, и я, накинув пальто и надев шапку, влез в валенки. В темных и холодных сенях, этаком деревенском холодильнике, опять вкусно пахнуло запахом вяленной и сушеной рыбы – на длинных поперечных шестах здесь висели рогожные мешки с сушенным карасем, рыбой, которая в изобилии водится в многочисленных в этом краю озёрах. Ее ловят сетями и, распластав и посолив, сушат, заготавливая на зиму. Зимой же из неё готовят чуть коричневатого цвета уху с необычным, но замечательным вкусом. Здесь же висела и пара холщовых мешков с пельменями: их долгими зимними вечерами то и дело, собравшись за кухонным столом, над которым зажигался фитиль необычной керосиновой лампы в «жабо», лепила вся семья, постоянно пополняя запасы этого непременного сибирского кушанья. Пельмени здесь едят, макая в «адскую» смесь разбавленного уксуса, горчицы и молотого чёрного перца. Только так.
Быстро пробежав через засыпанный снегом двор, мы открыли дверь в хлев. Оттуда нас обдало живым теплом, терпким ароматом навоза и сена, было темно и немного страшновато. Слева от меня кто-то глубоко вздохнул. Я было шарахнулся в сторону, но сестра сказала: «Не бойся! Это же наша Машка», – и зажужжала прихваченным с собой фонариком. Неяркое желтоватое пятно неустойчивого света осветило хлев: за перегородкой слева я увидел корову, которая перестала жевать свою постоянную жвачку и уставилась на меня чёрными влажными глазищами. Поняв, что это пришла не бабушка, ее кормилица и доилица, которую она была рада видеть каждую минуту, потеряла ко мне интерес и, глубоко вздохнув, продолжила жевать. Лежащие в соседней загородке овцы вообще не уделили нам никакого внимания, только на всякий случай подвигали ушами, прислушиваясь. Где-то невидимая в темноте громко хрюкнула пару раз заспанная свинья. В конце хлева был курятник. Куры сидели на насесте и полузакрыв глаза, блаженно подрёмывали. Петух же, которого я во дворе обходил за версту, и здесь, сразу сделав вид, что он давно не спит и всё видит и слышит, встрепенулся и издал воинственный клёкот. «Да спи ты, Петя! – сонно забормотали куры, – что ты на самом деле! Видишь, они за яйцами пришли». Сестра уже в это время, передав мне фонарик-жучок, шарила в полутьме по полке, устланной сеном и, собрав пять яиц, уложила их в прихваченную миску. «Я тебе, разбойник!» – погрозила она пальцем петуху. Тот что-то хотел возразить, но только издал звук, как будто бы поперхнулся, и замолчал. Гуси жили в другом сарайчике, что меня очень радовало.
Вскоре мы уже ложились спать. Нам, детям, традиционно постелили на полу, иначе спальных мест для всех не хватало, а на полати нас спать не пускали, опасаясь, что кто-нибудь ночью свалится оттуда. А нам и на полу очень нравилось – под одеялом можно было рассказывать страшные истории, светить фонариком, дурачиться, пока кто-нибудь из взрослых не шикал на нас, обещая на завтра всякие немыслимые наказания, которые ещё больше нас смешили.
В этот вечер, когда мы улеглись, переполненные радостным ожиданием завтрашнего дня, дурачиться и мешать отдыхать нашим родителям и бабушке нам почему-то не хотелось. Мы лежали под тёплыми одеялами и молча смотрели на четкие в свете белого лунного света, льющегося через окна, очертания пришедшей к нам ёлки, которая, несмотря на свои скромные размеры, как нам казалось, уже заполнила всю залу не только своими внезапно выросшими ветвями с мягкой зеленью иголок, но и ароматом леса и морозного воздуха. Соседствующие с ней молчаливые фикусы затихли ещё больше, как будто уже поняли, что вот это небольшое, странное деревце с каким-то неприлично шершавым стволом и длинными тонкими колючками вместо надлежащих, по их мнению, для любого приличного дерева листьев – и чем толще и больше, тем лучше – и уж совсем неподобающим в приличном обществе смолистым запахом вдруг стало всеобщим любимцем в этом доме, который они давно считали своим на малолесистых просторах этого холодного большую часть года края.
Но нас, детвору, эти переживания двух обиженных фикусов не волновали, да мы, по правде, об этом и не догадывались, думали только об одном: вот наступит завтра и мы украсим ёлку найденными и сделанными нами игрушками, а дядя Ваня принесёт серебристую зеркальную верхушку со шпилем и мы все вместе встретим самый лучший праздник в году – Новый год!
С тем и уснули. Сон, как всегда бывает в детстве, пришёл незаметно и был мягким и обволакивающим. Уснули и наши родители. Спала и бабушка на тёплой печной лежанке. И всем, наверное, снились сны. Готов поспорить, что нам, детворе, разметавшейся на матрасах на нагретом «голландкой» дощатом полу, снилась наша ёлка. Во всяком случае, мне. Во сне она стала ещё выше и уперлась в потолок, а обиженные фикусы пропали где-то в ёе зелёной и сочной густоте, зала была ослепительно освещена яркими лампами в сказочных жабо, на ёлочных ветвях висели не только самодельные игрушки, которые мы вчера вечером начали приготавливать для её украшения, и не только те, что нашлись в старых запасах, но и какие-то новые и необычные: висел, например, игрушечный тепловоз и вагон со светящимися изнутри морозными окнами, которые привезли нас в Лебяжку, на свечной подставке-прищепке стояла, держа в руке свёрнутый флажок, стеклянная фигурка нашей проводницы в синем железнодорожном кителе, висел маленький деревянный дом на полозьях и из его трубы пыхал белый дым, рядом раскачивался и дымил миниатюрный трактор на гусеничном ходу, в желтой, дутой из стекла корзинке сидел с вытянутой шеей серый гусь, которого, как и вчера, раскачивало из стороны в сторону, в глубине ветвей алела открытая дверца игрушечной печки-буржуйки, сделанные из папье-маше весело раскрашенные корова Машка, кудрявые овцы, свинья, картонные гуси и куры во главе с охраняющим их петухом были развешаны по всей елке, прятались за гирляндами и спиральными лентами серпантина, и легкое дуновение ветерка оживляло их.
Внизу на пышном ватном снегу, очень похожем на тот, что мы видели через окошко нашего вагончика в полях по дороге со станции, стоял Дед Мороз, рядом с ним, как будто бы вылепленные из обожженной глины и раскрашенные в свои природные цвета, дворовая собака Жулька и благородный сеттер Дианка, с умилением смотревшие на него, одетого в побелённый и украшенный блёстками-снежинками дядин тулуп, в серебристую каракулевую шапку с красным, немного завалившемся набок верхом и с пунцовым от мороза и ветра лицом очень похожим на дяди-Ванино, только с пышной белой бородой и усами. Дед Мороз держал в одной руке маленькую серебристую верхушку для ёлки, а в другой – посох с таким же серебряным набалдашником. Из кухонного радио доносилась веселая музыка и часто голос знакомого всем нам диктора повторял фразу «наша великая страна вступает в новый 1954 год». В ответ на это Дед Мороз решительно стучал посохом по ватному снегу и при этом опять же дяди-Ваниным голосом громко произносил «Сказал достану – значит достану!» и, улыбаясь сквозь усы и бороду, поднимал над головой серебряную верхушку для нашей ёлки.
Во сне я от радости за то, что мой суровый, но, одновременно, такой добрый дядя Ваня выполнил своё обещание, и наша ёлка теперь украшена от нижних ветвей до самой макушки, засмеялся и проснулся, скинув одеяло. В зале было тихо, в окно светила полная молчаливая луна, вычерчивая белые квадраты на крашенном полу. Услышав мой ночной смех, проснулась мама, она бесшумно подошла, наклонилась надо мной и, положив мне на голову руку, мягко уложила меня, накрыла одеялом и прошептала, что мне что-то приснилось, но сейчас всё пройдёт и я снова усну. И я уснул, но до сих пор помню и до последних моих дней буду помнить ласковые руки мамы, ее тёплое дыхание и такой родной голос, звучавший в моих детских ушах в канун ушедшего в небытие того Нового 1954 года.
ДОРОГА В ДЕРЕВНЮ
«Давайте-ка съездим в мою родную деревню, – сказал как-то необычно теплым для конца апреля днём папа, обращаясь к моему старшему брату и ко мне. – Давно мы там не были. А сейчас самое время – весна и погода нынче стоит просто на загляденье – чего нам дома сидеть?»
С нашим папой всегда было интересно – он столько всего знал о травах, деревьях, птицах, лесных и полевых жителях! А тут еще и в деревню поехать. Мои самые ранние воспоминания о его деревне были как яркие вспышки, освещающие что-то радостное и щемящее сердце: начало жаркого лета, купание в неширокой и чистой речке с песчаным дном, усыпанном мелкой и гладкой серой галькой, склонившаяся до самой воды отцветающая белым цветом черемуха на другом берегу, удирающие по течению от деревенской детворы коричневато-желтые пушистые клубки утят с обеспокоено крякающей мамой-уткой и низкий деревянный мост над рекой, по нагретым доскам которого было так приятно бегать босиком или просто стоять и, оперевшись подбородком на отполированную временем поручень, глядеть в воду, где у тёмных брёвен-опор виднелись на течении стайки мелкой серебристой рыбёшки. Ещё помню пасеку за деревней и старика, угощавшего нас мёдом – дал нам с братом по тарелке, где лежали залитые янтарным тягучим мёдом куски сот, а сам пошёл с папой к колодцу за водой. А мы, городские глупые мальчишки, так с воском его и слопали…
А погода конца апреля-начала мая, и действительно, установилась той весной прямо-таки летняя – так частенько бывает в наших краях, где, между прочим, и сорокоградусные морозы зимой тоже были делом обычным. Да и со школой всё тоже складывалось удачно – я был в четвёртом классе, а брат в шестом – первомайские праздники и выходной день давали нам два-три свободных дня, так что в прогульщики мы не попадали.
Ещё папа сказал, что в этот раз мы будем добираться туда от железнодорожной станции не на «попутке», а пойдём пешком – где полем, а где лесом – и это будет совсем не близкий путь: километров двадцать с гаком, которые нам нужно будет пройти за световой день, чтобы к вечеру уже быть в деревне. «Осилите? – смеясь, спрашивал он нас. – Смотрите, никого на себе нести не буду! Ведь вы ребята у меня совсем почти взрослые, да к тому же ещё и охотники!» Боясь, что папа вдруг почему-то передумает брать нас с собой, мы хором закричали, что нести ему нас не придётся и мы со всем справимся. Вот только немного смущал нас этот самый неизвестный «гак», но мы, не сговариваясь, о нём промолчали, хотя очень хотели узнать, что же это такое. «Ну и хорошо!» – улыбнулся папа, потрепал нас по головам и добавил, что по пути мы заглянем на озера и откроем весенний сезон на пернатую болотную, а когда пойдём лесом, так ещё, если попадутся тетерева, то и на боровую дичь. Это вызвало у нас ещё больший восторг – мы, правда, были ещё малы для того, чтобы стрелять из охотничьих ружей, но бывать на охоте нам очень нравилось, особенно на весенней, когда небо сияет чистой голубизной, а всё вокруг зеленеет и цветёт, и в травянистых низинах березовых лесов скапливается прозрачная талая вода, куда с удовольствием прилетают строить семейную жизнь разукрашенные весенними красками красавцы селезни и их спутницы, серенькие скромные утки. Тогда, помню, охота была разрешена осенью и весной, однако весной только на селезней с подсадной уткой или с манком. Подсадной утки у нас, живущих в городе, конечно, не было, и поэтому папа заранее купил в охотничьем магазине манок-дудочку из оранжевой пластмассы и научил нас дуть в него так, чтобы было похоже на кряканье утки, ищущей и зовущей своего селезня.
В назначенный день мы выехали автобусом из нашего городка, добрались до ближайшей станции железной дороги, дождались там пригородного поезда и вскоре под перестук колес уже прижимались лбами к прохладному вагонному окну, всматриваясь в сгущающиеся вечерние сумерки, и всё боялись пропустить нашу станцию. «Мимо не проедем, – успокаивал нас папа, – это же мои края, я здесь родился и вырос и потому знаю каждый камень и каждую тропку». Тревога наша окончательно пропала, когда, наконец, электричка, звякая сцепками, остановилась и мы вышли на пропахшую поездами дощатую платформу станции – небольшое одноэтажное здание, вмещающее в себя кассу, зал ожидания с четырьмя массивными деревянными скамьями с вырезанными на спинках трафаретными надписями «МПС СССР» – папа объяснил, что это означает «министерство путей сообщения». Приехали мы, как и рассчитывали, совсем затемно, чтобы переждать на станции по-весеннему уже короткую ночь и, если удастся, немного поспать, прежде чем до рассвета тронуться в далёкий путь.
Однако расчёт на то, чтобы вздремнуть перед дорогой, не оправдал наших ожиданий: во-первых, деревянные скамьи «МПС СССР» в слабо освещённом желтоватым светом зале ожидания были чудовищно жесткими и уснуть на них было невозможно, как мы не устраивались на них, а во-вторых, на одной из скамей уже спал, закинув голову назад, то ли какой-то пассажир, дожидающийся своего поезда, то ли просто зашедший отдохнуть прохожий в сапогах, ватнике и шапке. Он чудовищно храпел, изредка вставал, шёл к помятому алюминиевому бачку с краником и прикрепленной на цепочке облупленной эмалированной кружке, пил воду и опять заваливался на эту пыточную скамью, чтобы продолжать также страшно храпеть. Мы в отчаянии затыкали уши, а папа, бесполезно взывая к совести храпуна – тот никак не реагировал на увещевания, – то и дело выходил на ночную платформу, где светил огоньком своего любимого «Беломора».
Таким образом, не поспав ни минуты и с трудом дождавшись начала четвертого часа утра, мы с великой охотой покинули станцию с храпящим дядькой, миновали в предутренней тишине немногочисленные спящие жилые постройки с темными окнами и вышли по сельской улочке в открытое поле. Было ещё совсем темно и довольно свежо – апрель обманчив, особенно по ночам, когда ещё может примораживать и весенняя грязь на дороге, хрустя, проваливается под шагами. Нам, не выспавшимся и спотыкавшимся на этих ухабах и ямах, начало нашего пешего перехода показалось не очень весёлым. Поклажа стала тяжелее и не так ловко, как вчера, висела у нас на плечах. Но мы не ныли. «Шире шаг! – командовал папа, двадцать с лишним лет отслуживший в армии. – Тут недалеко озеро, идем туда». Куда «туда» было не очень понятно в тёмном поле, но мы шли за ним, и через некоторое время, действительно, уперлись в берег невидимого поначалу озера. Прошли вдоль воды и нашли более-менее подходящее место, где можно было укрыться и ждать рассвета, а с ним и утреннего утиного перелёта. Больших надежд на него, правда, не было, так как весной птица летает не так активно и не табунится, как осенью, предпочитая разбиваться на парочки. Мы хорошо знали весеннее правило – охотиться можно было только на селезней – и поэтому допытывались у папы, как он будет отличать селезня от утки, когда ещё не совсем рассвело, да и летят они высоко и быстро. Папа в ответ посмеивался и говорил, что он знает один хитрый охотничий способ распознавания, но не раскрывал его, а когда мы уж совсем допекли его, коротко ответил «по звуку», чем вообще привёл нас в полное недоумение.
Тёмная пелена ночи уже стала заметно разбавляться где-то затерявшимся серым рассветом, но по-прежнему стояла полная и бесконечная тишина, изредка прерываемая звуками невидимых отсюда поездов. «Слышите? – спрашивал нас папа, всматриваясь и вслушиваясь в темноту, – тихо-то как! Такой тишины вы в городе никогда не услышите. Вот-вот, полетят…».
…Часто накануне утреннего перелета такую тишину, когда всё замерло в напряженном ожидании рассвета, внезапно прерывает раздающийся откуда-то сверху, с чернильного купола пока ещё ночного неба зловещий и протяжный крик «к-а-а-у!», который, удаляясь или приближаясь, повторяется несколько раз. Даже зная о том, кто так кричит, невольно вздрагиваешь от неожиданности. А это, пролетая над озером, кричит выпь – низкорослая родственница цапли – обыкновенная болотная птица, но с таким голоском, что не дай Бог! Недаром некоторые сравнивают ее голос с коротким рёвом быка. И вот что удивительно – этот её предрассветный пугающе-хриплый крик служит чем-то вроде сигнала для всего птичьего болотно-озерного мира – хватит спать! пора начинать перелёт! И, действительно, практически сразу за далеко разошедшимся «к-а-а-у!» можно услышать характерный посвист первых полетевших в темноте уток. Он усиливается с каждой минутой, над вами проносятся табуны птиц, свистят одиночки, некоторые уже с шумом и плеском садятся на воду, со всех сторон доносятся всплески, покрякивание, хлопание крыльев и ещё какие-то неведомые звуки. И одновременно, прямо на ваших глазах размывается темная пелена ночи и как на проявляемой фотографии появляются пока ещё серые, но вполне уже различимые очертания окружающей местности. Раздаются первые выстрелы – и пошла охота, которая длится до полного рассвета и начинает затихать только тогда, когда с полным восходом солнца птица завершает свой утренний ход…
…И в это утро на озере, где мы остановились по дороге в деревню, перелёт тоже состоялся, хотя никакого сигнала от выпи не прозвучало. Может её там вообще не было – не везде же она гнездится, а может и была, но проспала – в этом мы ее с братом могли понять. Так что обошлось без неё, без её пугающего «кау!». Тем не менее с посвистом и шумом разрезающих воздух крыльев полетели первые утки. Их пока ещё не было видно, но казалось, что они летят так низко, что, вот, протяни руку и добыча твоя. Прошло ещё несколько минут и папа сделал первые выстрелы. Однако охотничье везение было в то утро не на его стороне – то ли место было не самым пролётным, то ли низенький и редкий береговой камыш демаскировал нас, и потому в итоге мы довольствовались только парой сбитый по-весеннему раскрашенных селезней.
Когда совсем рассвело, мы не стали задерживаться у озера. Место это было открытое и неприветливое, а лес, через который нам предстояло идти, начинался на противоположном берегу – отсюда же все ещё были видны станционные постройки и то и дело доносился шум и гудки проходящих поездов. «Давайте-ка сделаем небольшой крюк, – сказал папа, – и подойдём вон к тем деревьям в поле». «А что там?» – спросили мы. «Кладбище, – ответил папа, – старое кладбище». Мы добрались до деревьев, но увидели только пустырь с разбросанными тут и там низкими холмиками, скупо прикрытыми жухлой прошлогодней травой. «А где же кладбище?» – спросили мы папу. «Было, теперь оно заброшено, – коротко ответил он и, сняв головной убор, поклонился пустырю. – Где-то здесь похоронена моя мама. Так мне говорили в детстве». Помолчав, добавил: «Мне год с небольшим был, когда она умерла. Я её и не помню». Он надел шапку, повернулся к нам: «Ладно, пойдёмте, сыны! Навестил я мою маму, а вы – вашу бабушку». Нам стало жалко папу и никогда не виденной нами его мамы, нашей бабушки, от которой, как мы знали, не было даже фотографии, как и от папиного папы, сгинувшего где-то в те же годы в круговороте гражданской войны. Папа был сиротой, рос у своей бабушки и в детском приюте.
Но, как и у всех детей, каковыми мы были тогда, наши головы вскоре уже были заняты другими мыслями, поскольку кругом была весна и ярко светило поднявшееся над лесом солнце. Невидимые в зените слепящего неба звонко пели свои песни жаворонки, славящие весну и близкое лето. Потревоженные черно-белые хохлатые чибисы с пронзительными и жалобными криками летали над нами или, притворяясь немощными, перебегали нам дорогу, отвлекая и защищая тем самым на всякий случай свои гнезда. Мы попадались на их уловки и всё это было для нас большой и веселой игрой в зеленеющих просторах.
Наконец мы вошли и в сам лес, покрытый зеленой дымкой набирающего силу и рост весеннего березняка, чередующегося с коричневатым-зелёным осинником и густыми кустами орешника. Редко-редко в этом лиственном царстве встречались одинокие сосны или сбившийся в кучу глянцево-зелёный ельник. Первыми пятнами сочной травой зеленели поляны, кое-где уже усыпанные мелкими желтыми и синими цветами; там же, где были деревья, у корней ещё темнела прошлогодняя трава, плотно полёгшая на землю под сошедшим с весенним теплом снегом. «Вот что, – сказал папа, – мы сейчас найдём хорошее сухое место, сделаем привал, перекусим и немного отдохнём. А то ночь какая-то сегодня беспокойная выдалась из-за этого храпуна. Давайте-ка, ищите подходящую поляну!»
Небольшая в ажурных тенях от деревьев полянка нашлась практически сразу – так мы хотели отдохнуть! И, как награда за прошедшую бессонную ночь, на ней горбился невысокий стожок с залежалым сеном. «Это чьё-то сено? – спросили мы, – а на нём можно поваляться?» Папа сказал, что можно, поскольку оно, явно, лежит здесь с прошлого года, уже, вон, и подгнивать начало. «Не вывез сено-то хозяин или просто забыл. Так бывает. Да и, насколько помню, жилья вблизи здесь никакого нет». Папа опустился на стожок, мы, побросав поклажу, тоже плюхнулись рядом на пахнувшее перепрелой травой сено. Потом перекусили и немного подремали. Когда поднялись, чтобы продолжить наш марш-бросок, папа, по-хозяйски оглядев полянку, сказал, что для косьбы она хороша, но вот старая трава забивает растущую новую, а потому в его детские годы крестьяне в обязательном порядке по вёснам сжигали старую, устраивая так называемые палы. Пал был в те времена обычным делом при ведении крестьянского хозяйства, люди знали, когда его проводить и не были себе врагами, чтобы создавать огневую опасность для своего жилья, построек и кормившего и согревавшего их леса. Мы упросили папу дать нам возможность принять участие в этом новом для нас деле, тем более детей огонь манит больше, чем взрослых. Он немного поколебался и, определив направление слабого в то утро ветра, выдал нам спички и указал откуда надо начать пал. Сухая трава быстро занялась блёклым огнём и ещё быстрее огненные змейки, соединяясь меж собой, побежали по поляне, оставляя за собой темные пятна моментально сгоравшего сухотравья, не успевая при этом опалить пробивавшиеся к солнцу зеленые ростки новой травы. На краю поляны пал глохнул – трава там была редкая, да и нам было строго-настрого наказано следить за тем, чтобы огонь не ушёл в березняк, хотя сухостоя и валежника, кстати, вокруг не было. Леса в те годы добросовестно чистили лесники и егеря, да и местные в окрестностях своих деревень не давали ему залежаться – всё шло в хозяйство.
Быстрый огонь, тем временем, добежал и до середины полянки и сопревших остатков заброшенного стожка, потом пошёл сначала по его сухому верху, углубляясь в сырые нижние пласты, задымился понизу густыми белыми клубами.
Вот тут-то и случилось неприятное.
Мы стояли возле стожка, с интересом наблюдая за разгоравшимся пламенем, когда вдруг неожиданно прямо из этих дымных белых клубов выскочил и заметался у наших ног какой-то небольшой зверёк. Он проскочил между нами, чуть ли не задевая наши ноги, отбежал чуть в сторону и замер, повернувшись и глядя не на нас, а на занимавшийся быстрым огнём стожок. Я успел рассмотреть его: маленькое, сантиметров пятнадцать, узкое тельце, с пушистым хвостиком, короткие ножки. Зверёк был очень красив – коричневый окрас с белой грудкой, на удлиненной шее светлая миниатюрная кошачья мордочка с небольшими округленными ушками. Мы не успели ещё никак среагировать на его появление, как он внезапно ринулся назад и опять, проскочив между наших ног, нырнул в уже горевшее прошлогоднее сено, из нижней части которого вместе с густыми клубами дыма начали проскакивать первые языки пламени. Ничего не поняв в поведении зверушки, мы замерли. Прошли какие-то мгновения, и зверёк выскочил из дыма и огня. В его пасти был зажат шевелящийся комочек. Отбежав, он скрылся за корнями ближайшей березы и тут же молнией, абсолютно не принимая во внимание наше присутствие, вновь метнулся между нами и снова исчез в дымно-огненной смеси; секунды – и он вернулся назад с очередным комочком в зубах и также скрылся за корневищами берёзы. Пламя разгоралось быстро, но зверёк успел ещё дважды, рискуя сгореть заживо, буквально нырять в огонь, вынося и пряча за березой такие же шевелящиеся комочки. Но в пятый раз пламя полностью охватил остатки стожка. Зверёк отчаянно забегал вдоль огня, нисколько не обращая на нас внимания и пытаясь найти окно в адском месиве огня и густого дыма, куда бы он мог проскочить, но жаркое пламя отогнало его окончательно. Тогда он метнулся к корневищу берёзы, ещё раз остановился, обернулся на вовсю полыхавший жарким огнем стожок и на секунду замер. В это время из-за березы послышался писк, и зверёк тут же скрылся в зазеленевшей траве. Мы молчали, поражённые увиденным…
«Кто это, папа?», – наконец, придя в себя, закричали мы. «Ласка! – ответил не менее поражённый случившимся папа, – зверёк такой, ласка». «А что это она таскала из стожка?» «Да-а, – удручённо произнёс папа. – Натворили мы дел с этим палом, дернул меня черт! Видно, у неё здесь под стожком было гнездо с детенышами, и она спасала их из огня».
Мы поняли, что папа был огорчён и чувствовал свою вину не только в том, что стал причиной разыгравшейся трагедии в семье ласки, но и в том, что мы, его дети, оказались без всякого злого умысла причастны к произошедшему, а потому сейчас со слезами предлагали ему поискать в прогоревших к этому времени и превратившихся в ломких, ещё пышущих жаром зольных остатках стожка возможно живых детенышей отважной и несчастной ласки. Но папа понимал, что отчаянные попытки ласки до последнего мгновения лезть в огонь говорили о том, что ей не удалось спасти из адского пекла всех своих детенышей и они, без сомнения, погибли. «Это моя вина, – говорил он, – я сделал промашку, недосмотрел. Вот, будет всем нам урок: на охоте, на рыбалке и в лесу, к сожалению, случается всякое и поэтому всегда нужно быть осторожными и с оружием, и с огнём, и с водой, и с уважением и любовью относиться ко всему живому». При этом он отошёл в сторону, закурил свой «Беломор» – он много курил, но особенно, когда у него были какие-нибудь неприятности.
Потом сказал, что надо бы как следует залить все места, где ещё что-то дымится, чтобы снова не разгорелось. За корневище берёзы, куда исчезла ласка со своими спасенными детёнышами, папа велел не ходить, чтобы больше не беспокоить и так пострадавшее ласкино семейство. «Она построит себе новый дом?» – спрашивали мы. «Конечно, – успокаивал нас папа, – и всё у неё будет хорошо, а на следующий год она принесёт новый приплод». Мы, вздыхая, таскали котелком воду из ближайшего болотца, тщательно проливая остатки тлеющего сена и дымки на поляне. А затем, собрав пожитки, пошли дальше, переживая за разорение гнезда ласки и, одновременно, восхищаясь её готовностью пожертвовать жизнью ради своих детей. Папу мы не винили, скорее, сами чувствовали себя виноватыми, а в правоте его слов об отношении ко всему живому вскоре нам пришлось убедиться, и в этот раз на моём примере.
Мы шли дальше и постепенно тяжкие мысли о пострадавшей ласке и ее семействе покидали нас, да и было отчего, поскольку куда ни бросишь взгляд, весна брала своё и радовала свежими смолистыми запахами высоких сосен, постепенно сменявших засилье лиственных деревьев, первыми весенними цветами и словно вымытым в чистой реке голубым небом с редкими белыми кучевыми облачками, предвестниками уже близкого лета. В ямах и затенённых местах ещё можно было увидеть остатки пористого похожего на пемзу сероватого снега. Из попадавшихся на нашем пути лесных болотец и водоёмов с талой водой, поросших по дну изумрудной зеленью, с тревожным кряканьем то и дело поднимались, заметив нас, уединившиеся парочки селезней и уток. Времени от времени мы останавливались, прятались под зазеленевшими кустами и, соревнуясь друг с другом в искусстве подманивания, до изнеможения дули в пластмассовый манок. Иногда селезни попадались на обман, возвращались, в нетерпении барражировали кругами над верхушками деревьев, покрякивая в ответ и высматривая, где же она, которая так призывно зовёт его. Папа больше любовался этой незабываемой весенней картиной утверждения жизни, чем стрелял, но, если стрелял, то, по-моему, он, отличный стрелок, намеренно делал промахи. Мы этого не понимали и нас огорчали неудачи его выстрелов. «Ладно, – через некоторое время сказал папа, – будет на сегодня. Вполне хватит и утренней добычи. Давайте-ка, пойдём. Нам ещё далеко идти». Он закинул ружьё на плечо, взглянул на часы и скомандовал двигаться дальше.
Пересекая одну из затенённых полян, папа остановился. «Знаете, что это такое?» – спросил он нас, показывая на выделяющиеся среди молодой луговой зелени сочные стебли какой-то травы, которая, раскрываясь узким и длинным глянцевым листом, уже кое-где украсилась белыми зонтиками соцветий. Мы, конечно, не знали. «Это черемша, – сказал папа, – её ещё называют диким чесноком, а иногда и луком. Вот, – он нагнулся и сорвал пару стеблей, – понюхайте». Мы, стукаясь лбами, втягивали, действительно, чесночный запах этого растения: «А её есть можно?» «Конечно, – ответил папа, – мы, деревенская детвора, всегда весной-в начале лета ходили в лес за черемшой. Она полезна для здоровья и при готовке еды была кстати. Давайте-ка, наберём её с собой!» Мы с удовольствием сделали ещё один краткий привал на этой полянке и нарвали два пучка черемши – один с собой в деревню, другой – для дома, чтобы удивить и обрадовать нашу маму.
И, чтобы дальше не отвлекаться от движения по маршруту, папа предложил попробовать и другой дар весеннего леса – берёзовый сок. В роще он выбрал крепкое, словно налитое молодое деревце с такой белой берестой, что мне, уже тогда увлекающемуся рисованием, захотелось изобразить на ней что-нибудь такое же радостное и весеннее. А брат достал из рюкзака наш туристический топорик. «Нет, – сказал папа, – запомните, сыны, это не топорное дело. Убери-ка его назад! Топором только погубишь дерево или поранишь его и оно долго потом будет болеть». Он достал из кармана свой острый перочинный ножик, которым любил ловко и аккуратно затачивать нам карандаши, и где-то на уровне своего пояса сделал на стволе березы небольшой надрез в виде буквы «Т». Тут же из надреза потекли крупные прозрачные капли. Потом ножом подцепил и отогнул вниз из-под верхних перекладин буквы бересту с розоватой внутренней плёночкой. Посмотрел по сторонам и, сорвав жёлтый стебель прошлогодней травы, ножом обрезал её с двух концов, сделав трубочку. Эту трубочку он вставил в самый нижний конец буквы «Т» и заполнивший разрез сок тут же буквально чуть ли ни струйкой полился по трубочке на весеннюю землю. «Давайте котелок!» – скомандовал папа. Котелок был немедленно подставлен под струйку. Мы были в восхищении и нам хотелось тут же попробовать берёзовый дар. Конечно, это был не автомат по продаже газированной воды с сиропом или без него, что стояли тогда на улицах наших городов и за секунды наполняли сомнительной чистоты стаканы общего пользования бьющим в нос напитком с сиропом – газировкой. Пришлось подождать, пока сока набралось достаточно, чтобы всем нам сделать хотя бы по паре глотков. Не скажу, чтобы он мне очень понравился, но в лесу, а тем более весеннем – всё казалось вкусным: и горькая черемша с луга, и сладковатый сок прямо от самой берёзы. Но прежде чем уйти, папа сказал, что оставлять дерево с открытой, пусть и небольшой, но раной – негоже. Так оно будет терять нужные для него в это время жизненные соки и может заболеть. Папа поковырялся рядом с корневищем в сыроватой земле, намял пальцами что-то вроде глиняного шарика, вложил его в надрез, придавил и ещё примазал поверху. «Вот так. Теперь всё будет в порядке! Идём дальше».
Так незаметно, с короткими остановками мы проделали большую часть нашего пути. На одном из привалов папа разрешил нам пострелять из малокалиберной винтовки, которую, бывая на охоте, по очереди носили мы с братом. Винтовка была трофейная, папа привёз её из Германии, где служил и где наша семья жила несколько лет после войны. Как заядлый охотник, любящий охотничье оружие, он не мог упустить случайно попавшееся в его руки необычное произведение оружейного мастерства – она была двуствольной и с вертикальным расположением стволов. Верхний ствол – нарезной под стандартный малокалиберный патрон, нижний – гладкоствольный под «бекасиную» дробь: дома в добротных зеленоватых немецких коробках с серебристыми вензелями, медалями и какими-то готическими надписями хранились небольшие снаряжённые папковые (бумажные) патроны оранжевого цвета с золотистыми головками-капсюлями, на которых было выдавлено изображение жёлудя. Винтовка была изящная, очень легкая, короткая – чуть больше метра – и поэтому папа, приучая нас к охоте, брал её с нами в поля, леса и на озёра для того, чтобы мы могли отрабатывать меткость в стрельбе. Сам он охотился с ней редко, только зимой на тетеревов, сбивая их издалека с веток берёз.
Мы тут же устроили с братом соревнование на эту самую меткость. Стреляли по воткнутым на краю вспаханного поля веткам, кускам засохшей земли, по изготовленным ещё дома самодельным бумажным мишеням. И, когда подошёл мой черёд, я было нацелился на вывернутый плугом засохший кусок земли, как вдруг на него села какая-то птаха, по-моему, трясогузка, которая своими движениями тут же привлекла меня и я, безотчетно, сдвинув мушку на неё, нажал на спусковой крючок. Выстрел смахнул её на землю, и я увидел, как она там затрепыхалась. Отставив винтовку, я подбежал к ней: трясогузка была жива и даже попыталась убежать от меня, волоча за собой неестественно вывернутое перебитое крыло. Ужас охватил меня. Я поймал её, бегом вернулся к папе и, от волнения не зная, что ему сказать, просто протянул руку с несчастной птицей, вертящей в моём кулаке головой. Папа осмотрел её, вынул нож и обрезал висевшее на коже крыло. Я заплакал. Папа, не говоря ни слова, опустил трясогузку на землю, и она, ковыляя и нелепо взмахивая уцелевшим крылом – видимо, пытаясь взлететь – скрылась в траве. «И что теперь с ней будет?» – продолжал плакать я. «Ну, что? – пожимая плечами, с неохотой сказал папа, – ничего хорошего: подберёт какой-нибудь зверь, лиса, в первую очередь». «Съест?» – в ужасе спросил я. Папа кивнул головой, а я зарыдал ещё горше. Брат был покрепче меня, но и он зашмыгал носом. «Вот, сыны, – обнял нас обоих папа, – за сегодняшний день у вас уже были два урока, – и, подумав, добавил, – да и у меня тоже. Надеюсь, вы их запомните». Конечно, папа имел ввиду этот ненужный и драматический пал травы, при котором чуть не погибло все семейство ласки, и мою стрельбу по невинной трясогузке.
Уверяю вас, что я, действительно, крепко запомнил эти уроки и, хотя ещё много лет страстно увлекался охотой, не пропуская ни одного сезона, но позже, в зрелом возрасте отошёл от этого с древних времён присущего мужчинам занятия, при этом нисколько не осуждая и продолжая уважать эту страсть у других. И вряд ли та неразумно погубленная мной трясогузка стала причиной такой перемены во мне, но свою роль маленькая трагедия в весеннем лесу несомненно сыграла. Да и мой папа уже никогда и ни при каких ситуациях, когда мы бывали в наших охотничьих и рыбацких походах, не вспоминал о необходимости пала травы весной – для него это тоже, видимо, был хороший урок, а, будучи грамотным охотником и отличным стрелком, он стал более разборчив в стрельбе, и ему очень не нравилось применять в охоте глагол «убивать», предпочитая вместо этого говорить «добывать». Да и в целом, охота и рыбалка для него были прежде всего мостиком в тот мир, который он любил беззаветно, и любовь к которому сумел передать нам, его сыновьям, – мир природы.
…Вскоре мы вышли на наезженную лесную дорогу, что шла от станции. Частые многолетние березы, высокие сосны и ельник все дальше и дальше отходили вглубь леса, сменяясь зеленеющим мелколесьем и кустарником, потом пошли обширные поляны и заросли кустов боярышника, говорившего о том, что где-то рядом течет река, и, наконец, внизу в неглубокой долине в зеленоватой дымке показались крыши деревенских домов. По знакомому с раннего детства деревянному мосту мы перешли неширокую речку, ещё по-весеннему бурлящую полой водой, над которой уже зеленела первыми распустившимися листьями черемуха. Вечерело, дым из труб топившихся печей вертикально уходил в сиреневое небо. Начинали перекликаться петухи, колхозные гуси, гогоча, возвращались с ближних полей, стоящие на улице деревенские жители, вышедшие встречать возвращающееся с выпаса стадо, приветливо здоровались с нами. Папу они знали, да и большая часть из них была в близких или дальних родственных отношениях между собой, а, стало быть, и с нами, поскольку наша фамилия происходила от названия этой деревни.
«Вот мы и дома», – сказал папа. Я посмотрел на него и неожиданно для моего возраста, когда такие понятия, как старость и молодость, ещё непостижимые и весьма отвлечённые понятия, вдруг осознал, нет, просто увидел, как был молод в тот чудесный, тёплый и мягкий весенний вечер на этой деревенской улице мой папа.
ЗЕЛЁНЫЙ КОНУС
Давно это было. Я ещё в школе учился, в шестом или седьмом классе. Как-то в начале осени папа предложил мне и моему старшему брату поехать с ним на охоту, но всего лишь на день, без ночевки. Мы любили бывать с ним на природе: на охоте ли, на рыбалке – всё равно, главное, чтобы с ним. План нашей однодневной вылазки был такой: рано утром в воскресенье – субботы тогда ещё были рабочими – нам нужно было первым автобусом выехать из нашего небольшого шахтерского городка на Южном Урале, доехать до конечной остановки в каком-то дальнем посёлке, узнать там у кондуктора, когда отправляется назад в город последний автобус этого маршрута, а уж затем пешком пройти три-четыре километра до озера, пострелять на вечернем утином перелёте, наиболее добычливом для охоты времени, – правда, ружьё было только у папы, а мы до охотничьего оружия тогда ещё не доросли – и, как начнёт темнеть, без всякого опоздания вернуться к автобусной остановке, чтобы доехать до дома и лечь спать в свои кровати, а не ночевать под открытым небом. Папе нашему утром надо было на работу, да и мы тоже были не на каникулах. Вот такая стояла перед нами задача.
Мы удачно добрались до места охоты – довольно большое и пустынное озеро с редким и низким камышом вдоль береговой полосы. Да и сам берег, мелкохолмистый и кочковатый, поросший бурьяном и невысоким кустарником, выглядел тоскливо в тот серый осенний день. Хорошо, хоть дождя не было. Но, как известно, охота пуще неволи…
Пока было светло, стрелять не пришлось – утки летали редко, да и, как мы ни прятались за кочками и в бурьяне, они, видимо, замечали нас и облетали стороной. Вся надежда была на вечерний перелёт. Ждать его пришлось недолго – всё-таки осень и темнело рано. Перелёт вскоре начался, утки живее пошли над нами, и папа активно встречал их выстрелами своего двенадцатого калибра. Мы с братом поочередно выполняли обязанности охотничьих собак и исправно находили и приносили сбитых уток, если они падали на берег, а упавших в воду доставать и не пытались, поскольку высоких забродных сапог у нас не было.
Охота завершилась быстро. Окончательно стемнело и даже собраться, чтобы идти к автобусу, было не легко – ничего не было видно. Тем не менее, вскоре мы уже шли гуськом за папой, натыкаясь в полной темноте друг на друга и спотыкаясь на кочках. Вот, по возрастающей тяжести поклажи становилось понятно, что поднимаемся вверх – карабкались на какой-то холм, вот, пошло полегче и даже потянуло вниз – ясно, что спускаемся вниз в обширную и поросшую кустарником лощину, которую, помним, пересекали днём, когда шли из посёлка к озеру. Ещё помнили, что посёлка того, куда мы сейчас направлялись, из глубины этой лощины не было видно, стало быть сейчас до него оставалось километра два. И нигде ни огонька, ни звёздочки на небе – видать, вдобавок к ночной темноте так и не растянуло завесившие небо осенние облака и хмарь – вокруг темно, хоть глаз выколи. Потом мы поняли, что стали опять подниматься вверх по склону, вот за ним и должна была быть та тропа, по которой нам предстояло открытым полем идти прямиком в посёлок к автобусу. И тут…
…И тут в этой кромешной темноте внезапно вспыхнул свет. Но не тот свет, от которого мы инстинктивно отворачиваемся или заслоняемся рукой, когда в темном помещении кто-то неожиданно включает яркую лампочку и слепящий поток заполняет всю комнату и к которому глаза не сразу привыкают. Нет, это был совсем другой свет. Во-первых, он не осветил всё вокруг, а лишь ту часть местности, на которую было направлено расширенное на десятки метров основание гигантского конуса этого необычного света, узким концом уходящего в небесные выси. Это был именно чётко очерченный конус, а не какой-нибудь прожекторный луч. Таким мы его видели, поскольку оказались в этот момент несколько в стороне, на самом краю освещённой части лощины, не дойдя немного до вершины холма. Во-вторых, цвет вспыхнувшего света не имел ничего общего с тем, к которому мы привыкли при зажженной электрической лампочке – он был зелёный или даже зелёно-молочный, какой бывает у неоновых светильников. И он не слепил, а, вспыхнув, превратил выхваченную им часть чёрной ночи в такой же зелёно-молочный световой день. Конус этот, как гигантский колокол, равномерно и неспешно раскачивался, как будто бы рассматривал или шарил по земле в поисках чего-то. И всё, что он освещал, было видно до малейшей детали: каждый листочек, каждую ветку густых кустов, каждую ямку. Но самым впечатляющим была такая картина: там, где конус света соприкасался с землёй, происходило нечто непонятное, напоминающее кипение: вздымались клубы белого и зеленого то ли дыма, то ли пара, который выше кустов не поднимался и тут же исчезал, как только свет уходил, уступая место ночной тьме. Нам довелось и самим испытать это «кипение» на себе, когда конус пару раз своим краем прошёлся и по нам. Ни запаха, ни звука мы не унюхали и не ощутили. Так, как будто что-то обдуло нас легким ветерком и тут же пропало без следа.
Застыв от неожиданности на месте, мы попеременно то задирали вверх головы, пытаясь разглядеть источник света, то изумленно пялились на зеленое бурление на земле, а поскольку лощина была ниже нас, то со склона перед нами открывалась просто фантастическая, неземная картина! Ничего не давали и наши попытки увидеть и определить, откуда идёт этот странный свет и где заканчивается узкое остриё конуса. Ясно было одно: начинается он где-то выше низкой в тот вечер облачности. При этом, источник света – что бы или кто бы это ни был – оставался недвижим. Поразительно было и то, что при этом стояла полнейшая тишина – не было слышно ни характерного звука летящего самолета, ни тарахтения винтов вертолета, если предположить, что с них для чего-то освещали странным светом унылую лощину – ничего!
Прийдя в себя, мы подтянулись поближе к папе – необычность того, что происходило, не могла не пугать нас – и начали спрашивать его, что же здесь происходит, кто светит и почему? Наш папа, бывший военный, фронтовик и артиллерист, а, стало быть, человек бывалый, у которого всегда были ответы на наши вопросы, сейчас пожимал плечами, молча смотрел на происходящее и было понятно, что и он ошеломлен не менее нас.
Всё это продолжалось минут пять, не больше. Свет внезапно разом погас – как будто кто-то щелкнул выключателем, – и всё погрузилось в темноту, ставшую ещё гуще. Мы ещё постояли, давая глазам возможность привыкнуть к тьме и ожидая, что будет дальше. Но дальше ничего не было. Только звенящая тишина темной ночи, да какие-то слабые звуки жизни из пока ещё не видимого за гребнем склона посёлка. Папа произнёс что-то вроде неопределенного «м-да», потом скомандовал «пошли!», и мы, молча и спотыкаясь, продолжили наш путь, благополучно вышли из лощины, нашли по каким-то ориентирам заветную тропу и без напоминания в ускоренном темпе зашагали к мерцавшему желтыми огнями окон домов посёлку, то и дело оглядываясь назад. Там за нами теперь ничего не происходило – лощина утонула в сомкнувшейся над ней ночной пелене. Помню, что было зябко. Во всяком случае мне. Но явно не от сырой осенней погоды.
К автобусу мы пришли вовремя. Долго ехали до своего городка и добрались до дома совсем поздно, за что нам, а особенно папе, нагорело от мамы.
Думали ли мы впоследствии о том, что видели? Конечно. И с папой на эту тему разговаривали, и меж собой рассуждали, большей частью, разумеется, по-мальчишески. Но ни в газетах, ни по радио или телевидению – правда телевизора у нас тогда ещё не было – не было ни написано, ни сказано ничего, что могло бы помочь нам понять, что же такое мы видели в небе и над землёй в тот темный осенний вечер.
В наших собственных рассуждениях мы пришли только к одному общему выводу, что это не был ни самолёт и ни вертолёт – во всяком случае ничто это не подтверждало пока мы заворожённо наблюдали за необычно светящимся гигантским зелёным конусом. Воздушный шар? Да, нет же, какой шар, да ещё и в ночную тьму? К тому же воздушными шарами, насколько я понимаю, у нас в стране тогда особо не баловались.
Надо также сказать, что в те годы – а это происходило в начале шестидесятых, уже после полёта человека в космос – так пышно, как это началось через десяток лет, пока ещё не расцвели всякие рассказы и байки об инопланетянах, неопознанных летающих объектах и прочих чудесах. Но мой интересующийся космосом, техникой и точными науками старший брат был более подкован и заострен на эту тематику, – доказав это позже своим выбором в жизни, – так вот он, хорошенько подумав и обговорив это странное явление со своими такими же головастыми друзьями, сказал мне по секрету от папы и мамы, что это точно были инопланетяне, что-то высматривающие на нашей грешной земле. В то время мы вовсю зачитывались журналом «Техника – молодёжи», где нам особенно нравился раздел под рубрикой «Антология таинственных случаев». Поэтому версия брата о внеземном происхождении виденного нами в тот осенний вечер «зелёного конуса» больших сомнений у нас не вызвала. То есть, что мы как раз и были свидетелями такого «таинственного случая». На том и порешили.
Прошло уже много-много лет после явления того «зеленого конуса» над тёмной лощиной, но я так до сих пор своего мальчишеского убеждения о том, что мне довелось увидеть, не меняю. И когда в какой-нибудь компании кто-то заводит речь о таинственных и неопознанных явлениях, то вдруг выясняется, что практически каждый из нас что-то и где-то этакое видел или слышал. И я не остаюсь в стороне – и рассказываю об этом давнем случае. Ничего, пока всё нормально. Слушают. Некоторые понимающе качают головами. Стало быть, верят.
Вот такая была история.
СЧАСТЛИВАЯ ЛИСА
«…В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в декабре…». Пушкинские строки лишь подтверждают, что в нашем суровом русском климате беззимье и бесснежье – явления довольно обычные. Одно из них мне хорошо запомнилось благодаря забавному случаю, происшедшему со мной много лет тому назад на охоте.
Мне было лет тринадцать-четырнадцать, когда в конце октября – начале ноября – обычном времени прихода снежной и морозной зимы в наши края – случился погодный конфуз: снег взял и не выпал, да и погода вплоть до стучавшегося в дверь декабря стояла «на дворе» совсем не зимняя, скорее осенняя, с зябкими дождями и промозглым ветром.
«Да-а, – сказал как-то папа, покуривая свой „Беломор“ и невесело глядя в окно на серое небо и мокрый двор, усыпанный облетевшими и вбитыми в грязь листьями, – на озёра за северной птицей ехать в такую погоду не хочется: далеко, да и намучаешься по нашим дорогам, а в лодке за день до последней нитки промокнешь под этим ноябрьским дождём. Одна простуда! Нет, на озёра мы не поедем, а, давайте-ка, сыны, – обращаясь уже ко мне и моему старшему брату, предложил он, – в выходной день смотаемся куда-нибудь недалёко на электричке и погоняем зайцев! Составите мне компанию? Ну, не сидеть же нам дома!»
А ещё папа сказал, что в такое бесснежье охота может получиться очень удачной, поскольку заяц-беляк живёт по своему календарю: осень настала – меняй свою серую с рыжими вкраплениями шубу на белую. И потому «косого» сейчас и за километр видно. Правда, и сам заяц, понимая, что он нынче как на ладони перед всеми своими врагами и обидчиками, в такую погоду ведёт очень осторожный образ жизни, дожидаясь спасительного снега, передвигаясь и кормясь поэтому только по ночам. А светлым днём он прячется где-нибудь под валежником в глухих лесных завалах или густых кустарниках, боясь лишний раз пошевелиться. Через него в такое время можно чуть ли ни перешагнуть – вожмется в землю и не тронется с места. Единственно, кто его точно может поднять и заставить выскочить на всеобщее обозрение – охотничья собака или волк с лисой. Собака-то ещё ладно – даже если и выгонит косого с лёжки на охотника, то не факт, что тот сделает меткий выстрел. А если промахнется, то, бывает, что гончая – по каким-то только ей известным принципам – зайца дальше гнать не станет. Так что шанс остаться в живых есть. А вот если волк или лиса, то те непременно станут преследовать, причем до последнего и тогда-то у ушастого в его белой шубке этих самых шансов будет очень мало.
Конечно, я был не против поехать. Охоту я любил сызмальства, а ездить на неё с папой, умелым и опытным охотником, было для меня сплошным удовольствием. Увлекался охотой и мой старший брат, но он уже потихоньку вступал в тот период юношеской жизни, когда появляются другие интересы и предпочтения, и потому, сославшись на свои планы, решил остаться дома.
Но мы поехали всё же не вдвоем: к нам с большим желанием присоединился давний друг нашей семьи и папин сослуживец, тоже заядлый и грамотный охотник, без которого мы редко совершали тогда вылазки на природу.
И вот уже когда за окнами утренней электрички потянулись под серыми небесами бесснежные и нерадостные поля с редкими рощицами голых лесов и жухлым камышом озёр и болот, папа объявил нам, что, возможно, нашу компанию пополнит и ещё один не менее важный участник нашей охоты – собака. И не просто собака, а натасканный охотничий гончак, которого ему обещал в любое время предоставить на «прокат» его старый хороший знакомый из деревни, примыкающей к станции, куда мы и направлялись. «Конечно, если он дома и жив-здоров», – с надеждой добавил папа. Я обрадовался, но спросил: «А как же собака с нами пойдёт? Мы ведь ему чужие». «Думаю, что пойдёт и подружится с нами, – ответил папа и улыбнулся, – его хозяин говорил мне, что Алтая – гончака так зовут – хлебом не корми, но дай сходить на охоту. Жутко любит это дело! Сам-то хозяин давно не охотничает: побаливает, староват стал бегать за зайцами, да ползать по камышам за утками. Посмотрим, может повезёт насчет собаки-то». Сомнения, конечно, были. А что поделаешь? Ведь не позвонишь, как сейчас, с мобильного. У большинства нашего населения тогда и обычных-то телефонов не было, а тем более в такой дальней и забытой Богом деревеньке.
Но всё сложилось удачно. Сойдя с электрички и пройдя деревенской улицей, мы постучали в калитку известного папе дома. За глухим забором залаяла собака, потом кто-то на неё прикрикнул, звякнула щеколда и калитку открыл с виду ещё крепкий невысокого роста пожилой мужичок, который сразу признал моего папу, всплеснул радостно руками и пригласил всех нас зайти в дом. Алтай – а это был он – ещё раз для порядка незлобно гавкнул, но, видя радушие своего хозяина к нежданным гостям, вылез из своей будки и присоединился к встрече, одобрительно виляя хвостом. Однако в дом мы, сколько ни просил радушный хозяин, заходить не стали за отсутствием времени – светлый день поздней осени и так очень короток, – а сразу же изложили просьбу о гончаке. Я в это время больше смотрел на него, красивого, сильного, породистого пса, светло-коричневого окраса с темными подпалинами вдоль крепкой спины, белой борцовской грудью, белым же вокруг черного блестящего носа полукружием, от которого на лоб тянулась и пропадала в тёмной и блестящей округлости головы светлая полоска, разделяющая его умные влажные глаза, внимательно рассматривавшие нас, и по его взгляду было видно, что наше одеяние, особенно, ружья на ремнях, патронташи на поясе и сумки на плечах возможно сулили ему на сегодняшний день радостные перемены в его затворнической жизни.
«Ну, Алтай, – повернулся к нему хозяин, – пойдёшь с гостями-то на охоту за зайцами?» Услышав ключевое для него слово «охота», гончак бурно заработал упругим хвостом и на его симпатичной мордуленции изобразился ничем нескрываемый восторг. От нетерпения он перебирал и подрагивал лапами, и, будучи не в силах уже сдерживать себя, громко и радостно залаял: «на охоту! на охоту!». Мы засмеялись, а я без всякого страха погладил его по крупной голове с аккуратными и в меру длинными прохладными ушами, за что он благодарно ткнулся мне влажным носом в ладонь. Контакт был установлен.
Выходя за калитку, мы спросили хозяина, надо ли взять Алтая на поводок. Он засмеялся и, помахав нам рукой, что, мол, ждёт с добычей вечером, прокричал вослед, что скорее Алтай нас возьмёт на поводок, чтобы мы не сбежали и не лишили его радости выхода в поле и лес.
За последними домами деревни начинался невысокий и редкий лесок – в основном березняк и осинник – затем пошёл вперемешку с ним лес покрупнее, его пересекали частые овражки, заросшие кустарником и жухлым разнотравьем. Места были вполне подходящие, чтобы с успехом потропить зайца. Мы растянулись, пошли «загоном», а Алтай уже давно и без всяких понуждений занялся исполнением своих прямых обязанностей охотничьей собаки: челночил между нами, тщательно проверял все попадавшиеся на нашем пути буераки и овраги, иногда замирал – то ли принюхиваясь, то ли прислушиваясь к только ему понятным запахам и звукам, – и по его напряженному телу было видно, что он ожидает главного – рвануть во всю свою природную прыть за любым, кто, не выдержав, выскочит оттуда, и гнать его, но гнать так умело, чтобы вынудить развернуться – пусть даже для этого придётся сделать приличный круг – с тем, чтобы вывести на охотника, то есть на одного из нас трёх. Правда и заяц сам тоже этому способствует, упорно в спасительном драпе держась границ своего ареала, где у него есть уже протоптанные тропы и готовые лёжки.
Алтай совершал все более длинные и продолжительные ходки, уносясь далеко вперёд нас. И вот, наконец, послышался его заливчатый и непрекращающийся лай, означавший только одно – он поднял и гонит на нас какого-то зверя. Мы в это время проходили густое мелколесье, я шёл на правом фланге, папа – на самом левом, наш товарищ – посередине. Я не видел ни того, ни другого. Мы только лишь иногда перекликались, стараясь не сбиться с пути и помогая тем самым нашему гончаку выгонять из лёжек затаившихся беляков и показывать Алтаю голосом, где мы есть. Приближающийся радостный лай «гоню, гоню! готовсь!» шёл сейчас как раз с левого фланга. Всё ближе и ближе, вдруг замер, и тут же бухнул выстрел любимого папиного двенадцатого калибра, и послышался его хорошо слышный в осеннем лесу победный крик «есть! взял!» И через некоторое время команда «пошли дальше!» Потом Алтай ещё ни раз, оглашая лес и окрестности азартным лаем гона, выводил зайцев на папу и нашего друга, гремели выстрелы и если они были удачны, то слышались радостные выкрики и традиционные охотничьи поздравления «с полем!»
Но всё шло как-то мимо меня. Может это было и правильно, поскольку в силу моих лет – шестнадцать пока ещё не исполнилось – мне не полагалось приличествующее охоте на зайцев дробовое тульское или ижевское ружьё, а таскал я с собой на плече малокалиберную винтовку, папин трофей со времён его службы в Германии после войны. Легкое, изящное, скорее, декоративное изделие немецких оружейников, конечно, не было предназначено для такой охоты. Надо было быть отличнейшим стрелком-виртуозом, чтобы попасть малокалиберной пулькой в бегущего опрометью, да ещё и петляющего зайца. Мы брали с собой на охоту эту винтовку, как правило, для развлечения – пострелять на меткость на привалах.
Вот и сейчас, услышав дальний от меня лай нашего гончака, я был почти уверен, что и этот очередной поднятый Алтаем заяц мне не достанется, а потому продолжил исправно выполнять роль загонщика.
Густое мелколесье расступилось, открылась небольшая полянка, на противоположном краю которой тянулись в серое ноябрьское небо несколько сосен. С карканьем с их ветвей поднялась пара ворон, на которых, делая замысловатые виражи, набросились тут же взлетевшие с кустов какие-то крикливые и встревоженные птицы, явно отгоняя их от этого места. Видно, выяснение отношений между пернатыми здесь шло давно. «Ага, – подумал я, – вот и возможность выстрелить. А то так за всю охоту и не потрачу ни одного патрона. Не попаду, так хоть пугану!» Слабый звук выстрела из моей винтовки все-таки как-то развёл спорщиков в разные стороны, но они вновь скоро сошлись уже далеко от меня, продолжая свою птичью ругань.
Я же, стоя посередине поляны, открыл затвор винтовки и, держа её в левой руке, полез в сумку на плече за новым патроном…
…Захлебывающийся лай невидимого за кустарниками Алтая вдруг стремительно переместился куда-то передо мной, и не успел я и сообразить, что, собственно, происходит, как из переплетения низких веток и высокой травы на меня выскочила… лиса! Она, буквально, влетела мне под ноги и под опущенный ствол незаряженной «мелкашки» и от неожиданности села, глупо расставив во второй балетной позиции задние лапы и уставившись на меня круглыми от изумления глазами. За ней из тех же кустов выскочил Алтай. Если бы он был машиной, то, наверняка, раздался бы душераздирающий визг тормозов и запахло подгоревшим металлом колодок и палённой резиной шин. Увиденное, видимо, потрясло его, ветерана-гончака, и он, ошарашенный, тоже сел. Картина, и в самом деле, была потрясающая, уникальная – на лесной поляне сошлись трое: я – остолбеневший от неожиданности горе-охотник с опущенной незаряженной винтовкой, лиса – чуть ли ни уткнувшаяся в её ствол и мои ноги, и метрах в трёх за ней – прочертившая по поляне след от торможения и выполнившая свои обязанности гончая собака Алтай. Последние двое – с высунутыми языками – едва переводят дыхание и, вперившись в меня сумасшедшими от бега глазами, задают один и тот же немой вопрос: «ну, и что дальше? стрелять-то будешь или как?»
Возникла классическая пауза.
Прервал её я тем, что, не найдя ничего лучшего, как ткнуть стволом остолбеневшую лису, уже готовую распрощаться с белым светом, и во все горло закричать на весь лес «па-а-а-па! лиса-а-а!!!» Дальше было ещё интереснее. Лиса вовсе не шарахнулась прочь от моего крика и тычка стволом. Очнувшись, она безучастно посмотрела по сторонам, затем, поднявшись, спокойненько обогнула меня и, не веря своему счастью от такого исхода встречи с «человеком с ружьём», не торопясь и не оглядываясь ни на меня, ни на Алтая, минуту назад готового её растерзать, без спешки скрылась за моей спиной в кустарнике. Алтай же, проводив рыжую взглядом, перевёл свой взор на меня – и не знаю, показалось мне это или нет, но столько было теперь в этом «тёплом» взгляде укоризны и ещё чего-то такого, что можно передать фразой «Эх, ты, охотничек! Бегаешь тут… (неразборчиво) … язык на плечо, стараешься для вас…». Или что-то похожее на это, но пожёстче – русского-то языка он за свою собачью жизнь наслушался вдоволь. После чего он презрительно развернулся и побежал в ту сторону, откуда пару минут назад выгнал на меня так счастливо отделавшуюся лису.
Да, в этой ситуации Алтай, наверное, был прав. Он, во-первых, и так переборщил в своём старании сработать по максимуму и чуть даже ни подмял лису у меня под стволом, рискуя в горячке преследования самому попасть под выстрел, а, во-вторых, – промахнулся ты или по какой-то причине вообще не выстрелил – дальше гнать не стал, поскольку он своё дело сделал: доставил потенциальную добычу к месту назначения – ты охотник, ты теперь и разбирайся!
…Время было послеобеденное, да и вообще темнело рано. Папин голос скликал нас собираться возле него, поэтому я взял винтовку на ремень и пошёл к нему. Четыре зайца-беляка составили нашу общую добычу. Папа спросил меня, чего это я кричал? Я честно рассказал о не вовремя переругавшихся воронах и каких-то мелких птахах, о незаряженной винтовке, о лисе и об Алтае. Мой рассказ позабавил слушателей, но не вызвал никаких нареканий – чего только на охоте не случается!, – а дал лишь повод для незлобивой иронии и шуток, которые сделали незаметным наш обратный путь до деревни. Красавец и труженик Алтай был, похоже, доволен проведённым с нами временем, а историю со мной и удачливой лисой, видимо, решил тут же забыть, поскольку, делясь своей радостью от участия в охоте, не обходил своим вниманием и меня. Встретивший нас у калитки хозяин, тоже довольный, улыбаясь, потрепал его по холке: «Ну, что? Сбил дурь-то? А то замучил меня своими переживаниями. Всё на охоту рвался!» И, приняв от нас в знак признательности двух зайцев, – один для него, другой для честно отработавшего свой хлеб Алтая, – пригласил приезжать почаще, хотя бы, вот, по первой пороше – должен же снег когда-нибудь наконец выпасть, уж скоро декабрь пожалует!
Мы попрощались с нашими гостеприимными хозяевами. Алтай стоял рядом и несколько недоуменно смотрел на нас: куда это, мол, вы собрались? завтра опять бы зайцев погоняли. «Увидимся ещё и поохотимся!» – помахали мы на прощанье нашему симпатичному помощнику и двинулись к станционной платформе, где дождались пригородного поезда и уехали домой.
Следующий день был понедельник. С утра папа ушёл на работу, а я в школу. На уроке русского языка учительница дала нам домашнее задание – написать сочинение на одну из трёх тем, среди которых была и свободная. Я не стал раздумывать – так мне хотелось рассказать всем о вчерашнем случае – и, хотя сочинение было задано не к завтрашнему дню, прибежав после школы домой, поел, сделал все уроки, не пошёл во двор к друзьям, а примостился за столом и принялся излагать на страницах ученической тетрадки в линейку о том, что произошло со мной на охоте. Пришёл из школы старший брат, попытался поговорить со мной, хотел заглянуть в тетрадку, которую я решительно прикрывал рукой, а потом отстал и занялся своими делами.
В назначенный день я вместе с одноклассниками положил своё сочинение на учительский стол. Прошло ещё два или три дня, и на очередном уроке русского наша учительница, держа кипу тетрадок, сказала следующее: «Ребята, я сейчас раздам вам ваши сочинения, и вы сами увидите ваши оценки, но одно, – она подняла вверх голубую тетрадку, – я прочитаю вам вслух!»
И прочитала всему улыбающемуся классу мой первый рассказ о счастливой лисе.
НЕСОCТОЯВШИЙСЯ УРАН
Папа лежал в больнице и его сосед по палате, узнав, что он заядлый охотник, предложил ему своего молодого спаниеля. Сам хозяин не был ни собачником, ни охотником, а спаниеля кто-то подарил ему маленьким щенком, без всяких документов, и он был бы рад, если бы эта будущая охотничья собака попала в надежные руки и использовалась по своему природному назначению. Папа посоветовался со мной – я уже был взрослым парнем и тоже увлекался охотой, – и мы решили, что не мешало бы посмотреть, на что способна эта собака, прежде чем согласиться на такое заманчивое предложение. Понравится в деле – возьмем, нет – вернём. Сделать это можно было уже скоро, поскольку через неделю, в первых числах сентября, открывался осенний сезон охоты на пернатую болотную и боровую дичь, а этот вид охоты был нашим любимым. Папа сообщил наше условие хозяину спаниеля. Тот отнесся к нему с пониманием и с радостью согласился.
На следующий день я отправился за собакой. Её владелец ждал меня на улице возле своего дома, с трудом удерживая на поводке рвущегося в разные стороны и стелившегося по земле крупного ушастого и шерстистого черно-белого спаниеля. «Вот, – сказал он, – познакомьтесь. Это Уран. Русский спаниель. Собака хорошая и умная. Забирайте, но только держите крепче!» «А ему точно полгода? – засомневался я. – Что-то он крупноват для такого возраста». «Точно, точно, это порода такая», – ответил хозяин, и, словно спеша отделаться от своего питомца, передал мне поводок. Потом вспомнил и отдал намордник, сказав, что вообще-то он смирный, не кусается и всех любит, но при поездках в общественном транспорте может потребоваться.
То, что вручаемый мне спаниель «всех любит», я понял по тому, как он сразу же проникся ко мне, незнакомому человеку, тут же облобызав мне руки и норовя лизнуть в лицо, когда я наклонился, чтобы для знакомства потрепать его черно-белые кудри. «А что он ест?» – крикнул я вдогонку попрощавшемуся со мной и спаниелем хозяину и услышал краткий и обнадёживающий ответ: «Да всё!» Уход хозяина нисколько не взволновал Урана. Он тянул меня в разные стороны и всё также стлался по земле, собирая мусор длинными ушами. На всякий случай я не сунулся с ним в общественный транспорт, а, держа его на поводке, пошел пешком.
Когда я открывал дверь квартиры, Уран был вне себя от радости, как будто он возвращался в свой обжитый им домой. Отстёгнутый с поводка, скользя по дощатому полу, он влетел в прихожую, моментом обежал незавидный двухкомнатный метраж нашего незнакомого ему семейного жилья и закончил свой обзор тем, что в гостиной махом, со всем нацепленным на него мусором и грязью, взлетел на диван и распростерся там, смешно, по-лягушачьи раскинув в стороны задние лапы и умиротворенно положив морду на передние. Пришлось ему указать, что его место будет возле входной двери, куда я заранее положил тканный коврик, и применить некоторую силу, чтобы стащить его вниз на пол. Такое отношение к себе ему явно не понравилось, но он быстро успокоился и принялся бродить по квартире, продолжая осматривать её. «Так, – подумал я, – пёс, видать, совсем домашний, но спаньё на диване мы запишем ему в минус. Посмотрим, как пойдёт дело дальше. Вот, выедем в поле…».
День выезда в поле на охоту пришёл быстро. Папа к этому времени был выписан из больницы, вполне здоров, и мы втроем – с нами был ещё наш добрый друг и верный соратник по охотничьим делам – погрузились в пригородную электричку, чтобы к вечеру быть уже на месте, а с утра, на зорьке открыть осенний сезон. В те далекие годы личный транспорт был редким явлением, и мы как раз представляли такое «безлошадное» большинство, так что при поездках на охоту или рыбалку на общественном транспорте вынуждены были ограничивать себя только самым необходимым. Поэтому везли мы с собой, помимо ружей и припасов к ним, палатку, теплые вещи – в сентябре погода у нас могла быть всякая – и еду. Уран, разумеется, тоже был с нами в этом пробном для него выезде на охоту. Он радостно суетился, лез с предложением дружбы к проходящим пассажирам, пытался взгромоздиться на жесткое деревянное сиденье, где сидели мы, пока не был водворен под скамью, утихомирился и к нашей радости сладко задремал там под стук вагонных колёс.
Ехать было чуть меньше часа. На безымянном полустанке, где электричка нехотя остановилась и практически в ту же минуту, звякнув своим зеленым металлическим телом, начала медленно отходить, мы спрыгнули на некое подобие платформы, едва успев сбросить на неё рюкзаки и держа зачехленные ружья на ремнях за спиной. Уран, струхнувший перед высотой от тамбура до платформы, был принудительно десантирован нами вместе с рюкзаками.
От домашней постройки обходчика на другой стороне железнодорожных путей послышалось ленивое и краткое тявканье. Уран и ухом не повёл – вступать в перебранку с невидимым собратом ему явно не хотелось, да и не для этого он сюда приехал. Он был на поводке, рвался в разные стороны, мёл ушами землю, втягивал в себя абсолютно новые для себя запахи окружающего негородского мира и казалось ощущал, что сейчас начинается что-то очень для него интересное. Мы пересекли жиденькую лесозащитную полосу и вышли на степной простор.
Край, в котором я тогда жил, согласно учебникам географии относится к лесостепи, хотя для точности я бы поменял местами в этом названии его составляющие, поскольку степей здесь значительно больше, чем лесов, разбросанных редкими островками. Местные жители называют их «колками», с ударением на первом слоге. К одному из них – километрах в трёх-четырех от полустанка – с небольшим озерком по краю, который в прежние выезды сюда облюбовал наш друг, мы и направились.
На больших же озерах, которыми тоже богаты эти степные просторы, солёных и пресных, неглубоких и сильно поросших камышом, осенью скапливались огромные пролетные табуны уток и гусей, и охота по своей добычливости была просто фантастичной. Но для неё требовались лодки, как правило неширокие и остроносые вёсельные плоскодонки, хотя среди озёрных камышей удобнее было орудовать длинным шестом (или по-местному – «тычкой»). И это всё нужно было доставить на озёра. Охотники чаще всего сговаривались и нанимали для этого грузовую автомашину. Делали это еще с лета, поскольку осенью, когда зарядят серые дожди, проехать по здешнему бездорожью было нелегко, а то и просто невозможно. Нанимали и какого-нибудь жителя из близлежащей деревни для присмотра за этим хозяйством. Поэтому мы, безлошадники и безлодочники, и решили в этот выезд держаться поближе к железной дороге, откуда и пешком дойти до места охоты небольшая проблема, да и домой вернуться не трудно. Что же касается «птисы» (так здешние «аборигены» произносили слово «птица», имея в виду уток), то её и на малых вот таких озёрах-болотцах было всегда вполне достаточно для хорошей охоты – во время вечерней и утренней зорьки в поисках ночёвки и кормёжки она начинала челночить между степными водоёмами. И это время, время перелётов, было самым желанным и добычливым для всех знающих охотников.











