Читать онлайн Депрессия и аутизм у психолога: история и лечение. Жизнь, болезнь, наука, и поиски работы
- Автор: Виталий Дудин
- Жанр: Общая психология
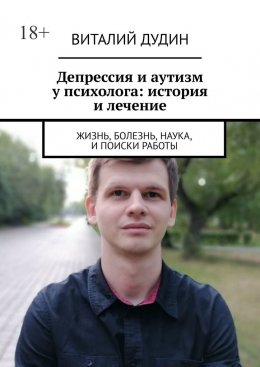
© Виталий Дудин, 2025
ISBN 978-5-0067-7957-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
- Депрессия и аутизм у психолога: история и лечение
- Жизнь, болезнь, наука, и поиски работы.
- Виталий Дудин
Предисловие
Книга о том, как практикующий клинический психолог, кандидат психологических наук угодил в клиническую депрессию, затем узнал, что у него расстройство аутистического спектра (РАС), а потом долго и сложно лечился, и находил способы так жить.
Для кого написана книга? Думаю, в первую очередь книга обращена людям ищущим, активным, стремящимся улучшить качество своей жизни, но то и дело «спотыкающимся» о ментальные трудности. Так, например, если вы ещё морально не готовы обратиться за помощью к специалисту, возможно я помогу снять иррациональное беспокойство и некоторые предрассудки относительно культуры обращения за помощью к психиатрам и психологам. А если вы уже проходите психотерапию или же принимаете препараты по рецепту врача-психиатра, но не чувствуете улучшений, то возможно вам будут к месту некоторые мои, основанные на личном опыте, соображения, как с этим быть. Также книга может представлять профессиональный интерес для студентов-психологов, психиатров и других представителей помогающих профессий, так как в книге довольно подробно описан анамнез человека с депрессивным расстройством и РАС, поэтому есть возможность ещё лучше понять образ мышления такого человека.
Однако всё же в большей степени эта книга автобиографична, и соткана из тем о зависимостях и совладании с ними, из тем о романтических стороне моей жизни, тем о стремлении найти и понять себя как человека в широком смысле, и в узком, когда речь идёт о профессиональной самореализации, соткана она и из тем о любви к науке и занятиях ею. Поэтому в каком-то смысле книга является романом, так как описывает процесс жизни современника.
Зачем или почему написана книга? Движущая сила, приведшая меня к написанию книги – моя смертность. Я начал писать в 35 лет, когда я холост, не имею детей, не состою в отношениях, год назад я прекратил давать психологические консультации, и с переменным успехом лечусь от психического заболевания. А я ведь живой. А у живых есть потребность что-то говорить, рассказывать, спрашивать, делиться соображениями о прожитой жизни. А у меня это вроде как хорошо получается. Но в моей квартире нет других людей, и у меня нет друзей «24/7», я не могу учить жизни ребёнка, и поболтать о том, как день прошёл, не могу обсудить со спутницей жизни как оно вообще живётся и пр. И реальность в том, что семьи в моей жизни может и не случиться. Поэтому я испытывают ответственность за жизнь человеческого существа, которым я являюсь, и в частности за его гуманистическое стремление рассказать кому-то о чём-то важном, с его точки зрения. А то ведь будет очень досадно уйти, и забрать всё с собой, так и не поделившись своими небольшими осознаниями с другими человеческими существами. К тому же сам факт работы с книгой даёт мне возможность чувствовать себя не так уж плохо, как например, могло бы быть. И, конечно, так я реализую один из смыслов моей жизни, который я сам себе выдумал.
В книге используется ненормативная лексика. Хоть мне и самому не совсем нравится этот факт, но тем не менее, исключи я её, то потерялась бы нить повествования о некоторых этапах моей жизни, описание стало бы неполным и искусственным потому как, я так и не нашёл подходящих заменителей такой лексики в руссом языке. Но её не так много, и её точно можно сосчитать на пальцах обеих рук, или даже одной.
Глава 1. История жизни и болезни. Подготовка жизненного плана
Условия и процесс формирования планов на будущее (где и как формировался взгляд на жизнь)
О месте и временах моего рождения, составе семьи
Родился я в конце 1989 года, в Республике Казахстан, городе Петропавловске. Город расположен на севере страны, в пределах лесостепной и степной зон. Ближайший крупный город страны – Кокшетау. Это возле него располагаются горы и красивые озёра Боровое (каз. Бурабай) и Челкал (каз. Шалқар). В России их называют «голубые озёра северного Казахстана». Ехать до них было примерно 200 км. До столицы Казахстана – Астаны (при мне столица переехала из Алма-аты в Астану) ехать в ту же сторону 440 км. Ближайшие крупные российские города – милионник Омск (около 250 км.) и Курган (примерно то же расстояние). А Тюмень, куда я перееду почти в 15 лет, располагается северо-западнее на 450 км.
Петропавловск как бы стоит на большом холме, то есть откуда бы ни заезжал в него – нужно подняться в горку. Или спуститься, если покидаешь город. Зимой холодно и раньше темнело, весной бежали ручьи и был прекрасный запах, летом жарко и долго светло, осенью бывало дождливо и много желтых листьев. Каждое время года занимало своё место, но зима была, по-видимому, главная, и отбирала у осени и весны по месяцу. Зима – примерно -10 – — 20 градусов, если морозы, то -35 градусов, наверное, бывало. Лето жаркое чаще всего +20 – +30 и больше. У меня нет объективных данных, но по воспоминаниям, если шёл дождь, то он был тёплым. То есть под ним невозможно было замерзнуть, и ещё часто шёл грибной дождь.
По городу бежит река Ишим, которая имеет и пологие и высоченные берега, а также издалека видится зеленоватой. На Ишиме есть бесплатный городской пляж и дамба – это, примерно, как искусственный водопад. Я полагаю, город с любовью относился к природе, в частности к деревьям – они везде и город получался зелёный и уютный. Городской парк, особенно в детстве, представлял собой будто другой мир. Там уют был умножен на очень большое число. Деревья, аттракционы, памятники, скульптуры, пруд с важными белыми птичками, огороженный уютным высоким сетчатым забором за который можно было без проблем заходить, кафешки и всё это сплетено тропинками. Мне нравился праздник Наурыз, это такое отмечание начала весны. Проходил он в конце марта, когда на улице ещё снег, но весна уже в разгаре, солнышко начинает греть, а длина светового дня ощутимо увеличилась. Тогда для машин перекрывали одну из центральных улиц. Она была такая широкая, что совершенно непонятно как так случилось, что в таком маленьком городе появилась такая широкая улица. И на улице устанавливали юрты, они были так разбросаны, и можно было ходить от одной к другой. Везде что-то жарили, парили, готовили, продавали. Люди ходили туда-сюда. И была такая атмосфера как на ярмарке с рисунка в какой-нибудь старой книжки. Мне нравилось всё это очень. Там не было места ни рекламе, ни политике, ни пропаганде, ни ещё какой-нибудь ерунде. Просто все встречали весну. На встречу Нового Года тоже использовали эту улицу, и на ней появлялась центральная ёлка (при том что периферических ёлок в городе не ставили, она была одна, и на неё ходили все горожане), горки, и красивые фигуры из снега. Мне запомнились эти фигуры своей простотой и теплотой. Их делали ремесленники, любители этого дела. У них далеко не всегда всё получалось гладко, и в плане самой лепки, и в плане окраски, но эти фигурки были живым физическим воплощением новогодней сказки. А из кубиков льда пока было мало построек в этом снежном городке, их скорее использовали как дополнительный материал. К теме центральной ёлки и строительного материала для постройки городка я ещё перейду позже, когда расскажу о том, как встречают Новый Год в Тюмени, а пока завершу это описание заметкой для психиатров, вдруг кому-то из вас книга попадёт в руки. Когда я катался на ледяной горке, на такой большой главной горке, куда стремятся все дети, и где выстраивается очередь, то скатившись с неё я встал, хотел отбежать, чтобы меня не сбили, но не успел, и меня сбил с ног другой мальчик, и так случилось, что я с высоты своего роста ударился затылком об лёд. Было больно. Это как что-то очень твердое ударяется о другое что-то очень твёрдое, но тогда одним из была моя голова. Писать даже больно. Может это падение частично повлияло на то, почему я вообще затеял писать эту книгу, то есть на развитие моей депрессии или аутистических черт. Конец заметки. Ниже возвращаюсь к описаю города.
В городе тогда было что-то около двухсот тысяч населения. Большинство – казахи и русские. Русского населения было достаточно много относительно других городов страны. Было порой заметно напряжение в национальном вопросе, но оно было скорее «общим» или «абстрактным», а в частности люди разных национальностей дружили друг с другом, дружили семьями и прочее. Такой город с маленьким неврозом. Но невроз был свой, родной.
При мне в городе, кажется, вообще ничего не строили и не открывали ничего глобального. Казалось, я был в каждом дворе города, знал каждую тропинку и их особенности. И там ничего не менялось, а если и менялось, то минимально, и я обязательно об этом узнавал. Ещё, кажется, в городе вообще не рожали. Я, конечно, видел беременных женщин, мам с колясками, детские сады, но всего этого было так мало, что будто и не было. В этом смысле город был статичен. Также у нас не было никаких «90-х». Годы как годы, жизнь как жизнь. И с моей точки зрения, как тогдашнего ребёнка, и с воспоминаний на то время уже взрослых людей.
Петропавловск – это областной центр Северо-Казахстанской области. А экономика области преимущественно является аграрной. То есть там много полей, на которых что-то растёт, это что-то потом собирают, обрабатывают и продают. Ещё часть экономики основывается на том, что регион является транзитным – область физически граничит с территорией России. Первую часть экономики можно было легко заметить включив телевизор, где практически всегда говорят о том, что начинается посевная кампания, заканчивается посевная кампания, результаты посевной кампании, и всё это под видео ряд полей, колосков пшеницы и комбайнёров. Вторая часть экономики частично отражается в том, что обменники валют в городе есть практически на каждом шагу. Позже переехав в Тюмень я удивлялся, что в городе нет обменников, а чтобы поменять валюту нужно было идти в банк. Прям так официально и сложно.
Компьютеры Pentium 1 появились примерно в начале моего обучения в школе, а мобильные телефоны где-то в средних классах. Компьютеры поражали своей ни на что непохожестью, и давали магическую возможностью пошевелить мышкой с колёсиком внутри, и увидеть, как на экране двигается стрелочка. Телефоны тоже чем-то сильно поражали, но вот не могу вспомнить чем именно. Ведь сама технология беспроводной связи уже существовала. Помню, что тогда мы писали sms на латинице, и были специальные обозначения для тех букв русского языка аналога которых нет в латинском алфавите. Например, букву «ч» писали как цифру 4. Фотографии моего детства черно-белые примерно до моих четырёх лет, видеозаписей меня маленького разумеется нет, снимать было не на что. При мне же появился фотоаппарат Polaroid, такие фото у меня уже есть. Ещё, например, в мои детские годы люди мыли свои машины не на автомойках, потому что их не было, а самостоятельно на дачах, реках, озёрах из ведра, а бывало из шланга.
Моя семья в состояла из матери, отца, старшего на пять лет меня брата и меня. Ещё в моём воспитании значимое участие принимали дедушка и бабушка. Развивался я нормально по возрасту, у «особенных» врачей не наблюдался, «сложносочинёнными» болезнями не болел. Перенёс три операции под общим наркозом. В детский сад я не ходил, так как была возможность оставлять меня у дедушки с бабушкой. В школу пошёл в 6 лет. И для меня это было сложным периодом, так как «побыть ребёнком в социуме» мне не удалось. То есть я не сидел рядом с кем-то на горшке, не ковырялся в носу, не плакал, и не засыпал после обеда с группой детей. Мне сразу нужно было стать типичным воспитанным первоклассником. Я ходил в четвёртый класс, то есть не перепрыгивал из третьего в пятый. Так было заведено в нашей школе. Хотя во многих других перепрыгивали. Сменил две школы в Казахстане и одну в России.
Мы три раза переезжали в квартиры с большей площадью. А дедушка с бабушкой жили в историческом центре, из окон был виден областной драматический театр. А театр по-казахски – сарай, поэтому он был драмсарай. А пол их квартиры был потолком для областной детской библиотеки. Было и третье место дислокации, не считая дач, которое мы с небольшой иронией называли «фазенда» – это был частный домик в подгорной части города. Несмотря на местоположение, это была почти полноценная деревня. А зимой она особенно превращалась в сказочную деревню с морозным воздухом, темнотой, снежными пейзажами, лаем собак, тишиной и запахом от затопленных печек.
Круг моего общения и интересы
Есть люди, которые могут дружить с одним человеком, и быть с ним типа не разлей вода, всегда вместе, лучшие друзья. У меня такого никогда не было. Не то, что бы я не хотел или не мог так дружить, а само собой так складывалось. Вероятно, не было потребности так накрепко прилепляться к одному человеку. Я переплывал из одной компании в другую, некоторые компании уже существовали, и я к ним вливался, в других случаях я был одним из тех, кто стоял «у истоков». Но, наверное, основными было две компании, которая была в средних классах, и другая – расширенная, которую я покидал, когда отправился в Тюмень. С одними ребятами в круг наших интересов входило:
– строительство различных балаганов (шалашей),
– шатание по небольшому нетронутому цивилизацией лесу в центре города возле старой церкви,
– игры в догонялки, прятки,
– скачки по гаражам, игры в мяч (в том числе тем мячом, который мы, по предварительному сговору, украли из-под носа городской команды по футболу. Потому что он был качественный),
– рыбалка (в том числе на сеть «телевизор», который мы также по предварительному сговору увели у незнакомых нам людей),
– купание на реке и озере. Мои интересы заключались в безразмерной любви к нырянию. Точнее нырять и пытаться достать ногами до дна, достать, и проделать всё то же несколько раз, каждый раз отходя всё дальше от берега, на глубину. Также нравилось плавать под водой, открывать глаза под водой, пробовать заплывать за буйки, плавать на спине. Но, жаль, никогда не получалось лежать на воде.
– игры в карты в подъезде,
– походы на футбольный стадион,
– походы в городской парк, катание на аттракционах,
– жарка картошки-печёнки в земле,
– делание «солнышка» или «до стука» на качелях – в нашем случае – это выглядело так: стоя с не пристёгнутыми ни к чему ногами сделать полный оборот вокруг оси качели. А когда получалось сделать один, то уже стремились сделать как можно больше,
– проведение техничных операций (всё по тому же заранее составленному сговору) по срыванию и съедание лука, чеснока и ягод с огорода школы для глухонемых детей. Последнее было необходимо для какой-никакой маскировки запаха табака и алкоголя. Пили мы дешёвое вино (марок «Агдам», «Талас», «777»), водку или пиво. Сигареты могли покупать поштучно в ларьках без оглядки на возраст. Кто-то курил с палочкой, чтобы руки не провонялись табаком. Кто-то, особенно смелый и смекалистый, курил левой рукой, утверждая, что мать понюхает правую руку и успокоится. До сих пор не знаю, правда это или ложь. Закидывали насвай. Он продавался себе спокойно на уличных «прилавках» у бабушек, торгующих семечками, жвачками, воздушным рисом. Одно время пробовали «пыхать бензин» – это значит чуть-чуть налить его в пластиковую бутылку и интенсивно вдыхать его пары. Первая желанная стадия «кайфа» – когда в голове начинаешь слышать звук «бзззз…». Отдалённо напоминает то, как звучит тишина, если нырнёшь под воду и прислушаешься к происходящему. Только от бензина интенсивнее. На следующей стадии приходили, кому большие, а кому поменьше зрительные и\или звуковые галлюцинации. Было в диковинку, интересно. Но вскоре приходили «отходняки», не помню точно, но кажется, у меня очень ломило кости, ну как-то всё тело поражалось моему поступку и болело. Поэтому к бензину я быстро остыл. Ну и «бычий кайф» это какой-то всё же.
– Естественно было и то, что живя в Казахстане, мы курили тлаву. Тут классика – сначала не смешно, потом распробовали, стало смешно и понравилось. Тут мало что могу сказать об отношениях с тлавой, но важно то, что они будут развиваться у меня в будущем.
Н-да, неслабый ранний подростковый опыт знакомства с разными веществами, изменяющими сознание. Но это действительно вызывало интерес, помогало переноситься «во вне», и даже было средством развития социальных связей. Хорошо и то, что я был достаточно разборчив и «тяжёлые» вещества меня не привлекали никогда и никак. Тяжёлые это те, которые в вену вводят. Возможно ещё и потому, что были люди-примеры, которые это употребляли, и я уже тогда, наблюдая за ними, понимал, что они в страшном тупике, «живые трупы».
С другими ребятами, когда я уже был чуть постарше, в круг наших интересов входили прогулки с девочками, ухаживания, любови, поцелуи и другие около эротические дела. В школе была девочка, с красивым именем и прекрасной внешностью, наполовину армянского, наполовину белорусского происхождения. Мы с ней встречались на тот момент по-серьёзному – проводили много времени вместе в одной компании, и даже делали попытки целоваться по-взрослому. Встречи с ней и мысли о ней вызывали у меня в душе исключительно положительные чувства интереса, теплоты, счастья, и взгляд на жизнь был очень светлым. А потом родители увезли её в Россию. И в том возрасте, меня, по крайней мере, такие события будто парализовывали. Ведь я не мог как в кино пробежать через аэропорт, забежать на трап и сказать ей что-то вроде: «давай оставайся, далась тебе эта Россия, будем вместе жить у меня дома, в школу по приколу вместе ходить будем, у меня собака классная ещё есть – пудель красиво стриженный, замуж за меня выходи, да пойдём покушаем, у меня мама как раз мясо по-французски сделала». Нет. Я просто был разбит, растерян и в чёрном-чёрном настроении. Как жить было? Непонятно, и я не помню, как прошёл через это.
Жизнь дальше приносила разные приключения, которые также сопровождал алкоголь, курение и насвай. Выпивка особенно ценилась нами. Так, было что когда мы со школой ездили отдыхать на турбазу, то заранее знали, что учителя готовятся нас обыскать, чтобы мы ничего греховного с собой не прихватили. Турбаза от школы была в 15 километрах. И мы за несколько дней до мероприятия поехали туда на велосипедах прятать выпивку в кусты. На тот момент это оказалось для меня одно из самых сложных испытаний в жизни, так как проехать на велосипеде тридцать километров без подготовки, да ещё и на обратном пути эти забирания в горку – это был ужас. Но в награду было то, что учителя нас обыскали и успокоились. И тот отдых на турбазе был прекрасен, в том числе благодаря нашей смекалке, настойчивости и тайнику в кустах. Ах, о кустах, кустах и о деревьях готов я петь. И став немного старше я также часто был в том лесу в центре города, который не затронула цивилизация, может быть потому, что он когда-то был ещё и кладбищем. В нём мы любили разводить костры, особенно поздней осенью или ранней весной, когда можно было смотреть на костёр, греться, подкидывать в него палки и о чём-то разговаривать с девочками.
Кроме того, что мы исследовали изменённые состояния сознания, мы ещё интересовались мобильными телефонами. Про них мы, кажется, знали всё. Тогда к тому же был период, когда технологии мобильников менялись с большой скоростью – от «кирпичей» без симки до цветных экранов, полифоний, блютусов.
Так сложилась, что в начале эта компания друзей была из школы, большей частью из одного класса. И мы были активными, творческими ребятами. Если устраивать внеурочные мероприятия – это к нам, если рисовать газету к празднику – это тоже к нам, и часто мы собирались у меня дома. Ещё я к тому времени уже хорошо играл на гитаре и использовал это тоже. Мы даже хотели сколотить рок-группу. Что-то там договаривались со школой, где репетировать, какие инструменты можно взять у них для наших целей. Все интересы были жизнеутверждающими. Никто из нас не был ботаником, не стремился «таскать пятёрки родителям», и быть любимчиками учителей-зануд. Тогда нам также повезло, что у нас была очень хорошая молодая классная руководительница, мы называли её ласково – Оксана, без отчества, но не при обращении к ней, естественно. И мне, так сложилось, было с чем сравнить, так как к концу школы, у меня сменилось ну точно пять классных руководителей.
Особенностью того периода было то, что наша, изначально небольшая компания, разрасталась, вбирая в себя разных людей из разных мест, и это было как минимум круто и чувствовалась мощность. У нас всех было одно место для сбора – база – футбольная коробка возле школы, которая не использовалась по прямому назначению, а использовалась для формирования и укрепления подростковых дружеских и романтических отношений. В те времена для каждого особенно важно было знать, что у нас есть «впряга», есть те, кто за нас «пойдёт». Наряду с этими словами в кавычках активно использовалось слово «стрелка», которую «забивали» с другими недружественными компаниями – значило это типа прийти и подраться толпа на толпу. Особенных воспоминаний на этот счёт нет, так как чаще всего в головах нас подростков брал верх разум, и мы «разводили стрелки», то есть собирались и решали всё словами. Компания наша в конечном итоге была большая, разношерстная и мы довольно хорошо уживались и от этого были по-настоящему крутые.
Личные интересы молодого меня
Мои интересы тоже касались нескольких разных сфер. Одним из главных интересов была музыка, в особенности игра на гитаре. В начальной школе дедушка с бабушкой сделали нам с братом неожиданный подарок, подарив акустическую гитару. А друг отца спел и на сыграл на гитаре такую красивую, но слезливую песню. И сын моей крёстной тоже уже играл на инструменте, и в этом преуспел, у него точно был талант. Вообщем, вскоре мы уже купили электрогитару, а это прям другой уровень для меня был. И мог я очень долго сидеть с инструментом, и что-то бренчать, разучивать песенки, аккорды, соло. Петь я не пытался, не хотелось, в моей голове эти два умения – играть на инструменте и петь – очень разные навыки, и не обязательно, если играешь на гитаре, то нужно петь. Поэтому я освободил себя на будущее от амплуа дворового подростка-сердцееда, которые покоряет девочек слезливыми такими запевами на гитаре в три аккорда, про какую-нибудь армию или тюрьму. Мне хотелось освоить инструмент по-настоящему, поэтому к сложности исполняемого я предъявлял серьёзные требования. Хотя, конечно, игра на гитаре давала свои приятные плоды и для общения с девочками.
Говоря про гитару, необходимо уточнить, что я тогда слушал. В далёком детстве я слушал то, что слушали все – чаще это зарубежная популярная музыка, типа Ace of Base. И чуть позже, наверное, уже после выхода фильма «Брат», я начал слушать русский рок и зарубежный металл. Тогда мои сверстники все делились на две большие группы: неформалов (те, кто слушает рок) и реперов. Может молодежных групп было и больше, но в процентном соотношении к двум первым они были ничтожны. Не помню, чтобы была группа любителей классической музыки, например. А вот про попсу не помню, она вообще была будто вне этого разделения, но неформалы всё равно относились к ней с пренебрежением или раздражением. Я был настоящим неформалом. Носил бандану с надписью «Nirvana», футболки, кажется, «Ария» и «Metallica», рюкзак «Король и шут». Без палева от родителей носил клипсу в ухе, потому что проколоть ухо они мне не разрешили. Неформалы и реперы были очень недружественно настроены друг к другу из-за разных вкусов и стремлений поклоняться разным «идолам». Я, например, реперов не любил, считал рэп тупым безвкусным направлением, раздражался от широких «джинсов-труб», которые они носили, с отвращением реагировал на знак «пацифик», потому что при любом удобном случае реперы рисовали именно его. А у нас – рокеров/неформалов был знак «Анархия», и иногда «Сатанинская пентаграмма». И если наше подростковое поведение хоть краем отражалось в знаке «Анархия», то пентаграмму, я во всяком случае, «любил» и рисовал от того, что она красиво выглядит и относительно несложно рисуется. Ну может и дух бунтарства и неверия в религию тоже манил. А так, кошек я не ел, кровь не пускал.
Мне нравилось всегда что-то делать руками. У дедушки с бабушкой дома были несколько ящиков с инструментами и другими материалами, и, наверное, классический для советского союза, отдел в стенке в зала со всякими коробочками, зеркалами, батарейками, проводами, небольшими механизмами, и там я проводил много времени. На «фазенде» мне доводилось много колотить, пилить, резать, строить – всё это делали чтобы облагородить домик и прилегающую к нему территорию, сараи, будку собаки, грядки, душ, беседку, палисадник и прочее. Это было интересное время. Дерево было основным материалом.
Также я старался изучать и ремонтировать технику. Было как-то радио или телевизор, кажется, разобрал и отремонтировал. Случайно вышло. Ещё одна из наших дач была расположена совсем рядом с аэропортом, и дедушка там работал. Поэтому мне подвернулась возможность полазить в настоящем большом лайнере, то есть самолёте-экспонате, который стоял возле аэропорта. В нём не было обшивки, остался каркас салона, торчали провода, трубки, кабели… Можно было вылезти на крыло. Я конечно и тогда радовался такой возможности, но и сейчас понимаю, что это было вообще прекрасно, я бы и сейчас туда залез. Мне нравятся самолёты, сам полёт, так ещё и была возможность увидеть и стащить для себя непонятные небольшие механизмы, агрегаты, изучить их.
Ездить за рулём на машине конечно тоже очень нравилось. Обычно я водил, когда мы ездили в лес за грибами или на дачи. И если в лесу я гонял по просёлочной дороге, то в сторону дачи дедушка давал мне вести даже по трассе. Такое доверие было приятно. Также я уверенно себя чувствовал, когда можно было гонять по размытой дождями дороге, а дедушка спокойно сидит себе, окно открыл, пассажир типа… Да, грибы собирать! Особенно нравилось собирать лисички – потому что они красивые, вкусные и растут классно, если нарвался на одну лисичку, то понятно, что наберёшь их много. После грибов поесть на поляне, чай попить – умиротворение.
Из спортивного: я умел быстро бегать на короткие дистанции, и далеко прыгать с места и с разбега. Как-то вот мне с этим повезло, так, что не встречал никогда кто быстрей бегает или дальше прыгает ни в школах, где учился, ни потом в университете. Приятно с этим жить. Есть у меня такое ощущение, когда бег начинаю, будто я могу «пятую» сразу включить, что ветер начинает в ушах появляться.
Также при моей жизни появился персональный компьютер, который уже предлагал игры и другие программы. Помню из игр, которые мне нравились следующие: «Зевс», «Эпоха империй 2», «Засранцы против гаи», «Дальнобойщики 2», «Небывальщина». Особенно приятно было проводить время за компом, когда на улице мороз. А когда вышел мультик «Масяня», то я узнал в какой программе он создаётся («макромедия Флэш»), и на долгое время она меня заинтересовала, я всё разбирался как происходит чудесное – как моя мысль может быть перенесена на экран компьютера и ещё быть подвижной (динамичной). Помню тренировался и рисовал какую-то таблетку, которая катилась и скакала. И отдельно у меня выделяется игра «Контра» – игра в которую я начал играть в Петропавловске ещё юным и продолжал периодически уже в Тюмени. С ней много было связано воспоминаний. Даст, Ассаульт, Мэншн – открывая эти карты я будто переносился в те прошедшие времена своей жизни. К тому же мне бы не пришло в голову играть в неё трезвым, поэтому в изменённом состоянии сознания она дарила мне приятные ощущения и ностальгию.
Возвращаясь к интересам в области музыки есть смысл рассказать о моём обучении игре на фортепиано. Хоть обучение строго говоря не относилась к моим подлинным интересам, а было больше воплощением родительских представлений о человеке культурном, тем не менее это занимало достаточно много моего времени. Учился я 3 класса (3 года). Ко мне домой два раза в неделю приходила бабушка из музыкальной школы давать уроки фортепиано, и почти каждый день я выполнял домашнее задание. Если в общем, то я не хотел учиться, если в частности, то иногда меня всё же увлекала игра на этом инструменте. Но вообще моя душа и нервная система тяготели к электрогитаре. На ней я сам учился играть в эпоху бумажных сборников с аккордами и «табов» из интернета, то есть ещё до эпохи ютуба и прочих приложений. Мне нравилось ощущать гитару в руках, нравилось, что струны издают звук у меня на виду, нравился корпус гитары, ощущения на кончиках пальцев и, конечно, возможность извлекать из неё «грязный» тяжелый разный звук, противоположный «стерильному математически точному» звуку фортепиано. И ещё пианино – это одинаковые на вид и на ощупь чёрно-белые гладкие клавиши и всё тебе. Все струны и молоточки спрятаны внутри. Музыкант как пользователь, а не как владелец инструмента, будто никакого «общения» с инструментом. Всё же время шло, я учился, и выучился до логического для себя завершения. Я научился нотной грамоте и натренировал слух, что и на гитаре играть и строить, и жить помогает. А прямо перед переездом в Тюмень пианино я продал.
Из речно-озёрных интересов мне очень нравилась и рыбалка на удочку. Первое знакомство с удочкой произошло, когда мы с отцом поехали рыбачить возле дамбы, точнее за ней. Получается мы ловили встревоженную рыбу, которая пару сотен метров вверх по течению упала сверху вниз с высокого искусственного водопада, и тут её ещё и поймали – слишком много событий подряд для рыбки. Да, сидеть, смотреть на поплавок водной глади, искусно отличать различные причины покачиваний поплавка – от волн и/или ветра или от поклёвки. А затем определять лучший момент, чтобы тащить, не спутав «хитрое» ловкое клевание от настоящей поклёвки. Помню, как ещё меня удивили события, которые будто нереальные, когда я поймал рыбу на пустой крючок, когда перезакидывал удочку, или поймать ерша за спинной плавник – как это вообще – не понимаю, но так удивительно.
Были и интересы, связанные с изобретательством. Когда я был юн, то хотел сделать машину, преимущественно из дерева. Помню, как в голове крутились стратегии о том, как она будет приводится в движение, как будет сделана система отопления и вплоть до того, какой в ней будет бардачок. В том возрасте я полагал, что реализую хорошее такое инженерное решение – создам печку в машине. Всё кажется простым, но до такой идеи нужно было дойти, как я считал. Примерно так: ставлю вентилятор, а перед ним плотную, тёплую (может и шерстяную) ткань: вентилятор гонит холодный воздух через ткань, в ней воздух прогревается и выходит тёплым. И уже в более позднем возрасте, я понял, что одежда не вырабатывает, а сохраняет тепло тела. В частности, возможно из-за таких детских особенностей мышления, я и оставил идею строительства машины на стадии её сколоченного каркаса на крыше домика на «фазенде».
Книжки я не любил читать. Но были несколько излюбленных, например, толстая такая энциклопедия родом из СССР – узнавать значение незнакомых слов – это увлекательно. А из книг, которые способны были перенести меня в приятное состояние была серия про древность с классными иллюстрациями, которые, кстати, тоже были составлены в логике энциклопедии. Кажется, они назывались примерно так: «Как бы ты жил в древнем Риме», «Как бы ты жил в древнем Египте», «Как бы ты жил среди викингов». В том же далёком возрасте у меня проклёвывалось что-то вроде стремления рассказывать истории, в том числе в письменном виде. Так, однажды нам задали написать что-то на свободную тему, и я описал как мы с родителями подобрали собаку на улице, потом эта собака с нами жила, и развернул целое рассуждение что-то там о собаках и людях, о поступках, вообщем интересно получилось, учительница даже написала возле оценки, что я молодец, а дедушка ещё в те годы где-то отыскал человека, который перепечатал этот рассказ, и выпустил на принтере. Приятно было и было ощущение, что тут кроется что-то моё, что-то к чему я неравнодушен.
Из мультфильмов, сказок и сериалов мне точно нравились: «Том и Джерри», «Простоквашино», «Жил-был пёс» (это «ты заходи, если что…») и сказки на новогодних каникулах. А не нравился «Ну, погоди!» – ощущение, что нарисован он был сильно пьющим, курящим, и неинтересным как личность гражданином советского союза на неуютной холодной кухне с синей плиткой на стенах. Про мартышек ещё мультфильм был, про пиратов, и тоже мне не нравился «дух» этих мультфильмов. Очень нравился «Альф», «Маска». Боялся, но смотрел Фредди Крюгера. С бабушкой и дедушкой любил смотреть «Поле Чудес», грустил в конце программы, когда Леонид Якубович говорил заключительные слова, так как хотелось продлить это ощущение домашнего уюта. Позднее, лет в 12—13 любил смотреть «MTV» и каналы, где под рок музыку показывали разные экстремальные спортивные и красивые видео.
Очень трудно сейчас вспомнить подробности, но у меня вызывало интерес то, что называется душа или психика. Поведение некоторых людей вызывало вопросы, хотелось понять почему они поступают так, а не по-другому, почему некоторые странные. И в моей голове было так много разных состояний, которые я стремился понять, исследовать их. Это ощущалось мной как приятное желание познавать, исследовать, «рассекречивать» то, что связано с душой, устройством человека и общества. Жаль, не могу вспомнить какими словами я бы тогда описал свой интерес. Но, вероятно, больше всего меня привлекали патологические проявления психики. В памяти всплывают несколько случаев, которые, конечно, не исчерпывают весь интерес к душе.
Помню, как возле магазина «Универсам», где мы часто любили тусить с друзьями я увидел голую, и скорее всего бездомную женщину, она шла себе куда-то медленно, была запачканной и, вероятно в состоянии алкогольного опьянения. Я мальчик то умный, в школе меня учат писать, читать, считать. А вот что общество людей может и такие удивительные вещи выдавать меня этому никто не обучил. Объяснение по типу: «ну она, наверное, болеет», или «она, наверное, пьяна» – никуда не годятся, это и ежу понятно. Меня интересует как так вообще вышло? Столько людей, такое складно сложенное общество, все друг на друга похожи, ходят на зелёный, стоят на красный, в туалет ходят в туалет, а тут на тебе. «Молекула» общества взяла и выпала из причёсанного строя – голой, говорит, хочу пройтись, лето ведь. Для меня это интересный такой «сбой» в системе общества, и в голове одного человека, который захотелось исследовать.
Другой случай – это женщина, возрастом переходящая в бабушку, она была дворником в моём дворе, и была, кажется, глухонемой, и скорее всего со значительными нарушениями умственного развития. Я тогда был ну совсем маленьким, поэтому воспоминания обрывочны. Но главные из них, что мы с моими тогдашними знакомыми её задирали и убегали. Она носилась за нами и произносила нечленораздельные звуки. И помню, как мне было её жаль, и тогда тоже хотелось понять, как так с ней вышло, о чём она думает, переживает. Но моего поведенческого репертуара хватало тогда только на то, чтобы быть на второстепенных ролях в процессе её задирания.
Другой случай, да простит меня одноклассница, что я её упоминаю, но надеюсь, она никогда не прочитает этого. Была красивая девочка, с красивым именем. Но с фамилией «Свинобой». Боже мой, это кому в голову могло прийти такую фамилию придумать?! Ладно, пусть это в какое-нибудь там средневековье она взялась, потому что кто-то забивал, бил, колол или что он там делал со свиньями. Сказал он «горжусь я тем, что я делаю, отныне зовите меня (Имя) Свинобой!». Ну так в средневековье бы и оставили его. А как эту фамилию пронести через поколения можно? Зачем девочке в моём классе, где у всех фамилии как фамилии знать, что она Свинобой. За партой сидишь, и на тебе шматком сальной жирной свиной кожи! Родители девочки, ау, Папа-Свинобой, ку-ку! Фамилию поменять можно ж. Но нет, – Мы – Свинобои всем свинобоям свинобои, а не какие-нибудь там Синицыны или Петровы! Иди дочь в школу, неси гордую фамилию в журнал на перекличку. Два вопроса для исследования тут возникли у меня: почему родители девочки не изменят фамилию, и как девочка совладает с чувством стыда за свою фамилию.
Другой интерес из области психологического – сны и состояния перед засыпанием. Что это вообще такое за явление: я засыпаю, отключаюсь, и там мне какое-то кино или мультфильмы начинают показываться, да ещё на таком странном «языке», снятые странными непоследовательными, нелогичными и через чур загадочными «режиссёрами». Откуда они вообще и зачем они мне. Вот ноги, например, мне нужны чтобы ходить, это я знаю. А сны мне зачем? Ладно бы так развлечения безобидное, но ведь есть ещё и кошмарные сновидения. А они то зачем? Мне что наяву проблем мало? И почему вот перед сном страхи какие-то, то мне ноги нужно укутать максимально под одеяло, чтобы там не проник никто в темноте, чудище никакое, то мне возле окна засыпать страшно. Ещё в том далёком возрасте я вроде и боялся, но одновременно понимал, что это ерунда какая-то прилипла ко мне, страхи эти непонятные, что-то неестественное.
Ещё одна микроситуация произошла, когда я только начал ходить на акробатику. А там большое незнакомое помещение, народу много. И вот на каком-то из первых занятий основного тренера подменяет другой. Стоим мы в шеренге, и он командует что-то невнятное для меня, даже сейчас то не воспроизведу с полной уверенность, но нужно было носки ног развести друг от друга на длину своей стопы. А я не понимаю, что он хочет, у меня шум в голове, и я замешкался и развёл носки широко. Подходит и давай орать, типа: «у тебя что 41 размер ноги?», и ещё что-то там продолжает. А мне тогда до 41 было расти и расти. И тогда мне, наверное, страшно то стало, неловко тоже, но точно помню, что и гнев я испытал тогда, подумал «ты что орёшь, придурок!». Тоже интересно стало, почему этот конь решил вдруг орать на меня. …что в его башке позволило и/или заставило себя так вести. Это что за социальная ситуация произошла, что мне от неё так скверно стало.
Другая история связана с тем, что во дворе обычной пятиэтажки, где жили мои бабушка и дедушка, в небольшом низкорослом палисаднике напротив подъезда, какие-то родители периодически обливали свою дочь, мою сверстницу, водой из ведра. Когда они выходили, она уже была голой, её окатывали водой, потом вытирали. Я видел её как зимой, так и летом. Ладно, причина такого поведения казалось бы лежит на поверхности – это закалка организма. Но два вопроса. Один не совсем интересный, но всё же: это единственный способ закалять организм: именно голой надо быть и именно во дворе, то есть на глазах у людей? Второй вопрос интереснее. Когда я видел эту девочку, я не мог оторвать от неё взгляд, она была красива собой, её манера стоять и двигаться, реакция на обливание… Меня к ней неописуемо тянуло. Это тоже были мои новые, неясные, но приятные и интересные переживания. Также, как и с вышеописанным мне захотелось понять, что это.
Ещё вспомню пару историй, описанных в книжках, над которыми я призадумался. Истории были такие мораль-ориентированными для детей. Сюжет первой разворачивался в школе. Один мальчик на перемене обнаружил, что у него нет еды, чтобы перекусить, хотя обычно она у него была. О существовании столовой там не упоминалось. И вот его одноклассники повели себя примерно следующим образом: один сказал что-то вроде: «ну, наверное, ты обронил еду где-то по пути в школе», другой сказал: «ну нужно аккуратнее и внимательнее быть, чтобы так не получалось у тебя». А третий ничего не сказал, он просто отломил половинку своего бутерброда, и поделился с ним. Мораль: третий молодец мальчик, будьте как он. Но только вот у меня как-то не сходилось в голове. Сейчас можно сказать, что авторы-моралисты как-то не оставили возможности для других вариантов. Например, что если я не поделюсь, то я плохой? Можем ли мы обсуждать мотивы (причины) такого моего поступка? Или только «чёрное» и «белое»? Да и странно, как же первых двух мальчиков Земля вообще носит, если они так поступают. Ладно Земля, пусть она неразборчива, как их наше общество носит тогда? Вообщем от этой морали у меня осталось неприятное ощущение. Легко было бы примкнуть в третьему добродетелю, ассоциироваться с ним, но это слишком поверхностный подход. Поэтому вот мне и материал для размышлений нашёлся. И в другой описанной ситуации материала тоже было достаточно. Вот она: события скорее всего происходили в деревне. Сидит большая семья и ест. На вид все здоровые, молодые, воспитанные, щеки румяные, жуют с закрытым ртом. Где-то на отдалении сидит очень сильно старый дед, он не за столом, а где-то так его поместили, чтобы другие здоровые и молодые не слышали, не видели, как он чавкает, как у него из «дырявого» рта еда протекает, не видели его сморщенное лицо и прочее. И тут появляется или новый персонаж или у кого-то из ранее присутствующих совесть взыграла, и он начинает отчитывать семью за то, что они с дедом как не с человеком обходятся. Стыдить всех начал, заслуги деда перед собравшимися перечислять. Вроде бы он даже вернул деда за стол. А я автоматически то вроде и подключился к такой теме, что же это за несправедливость, почему дедушка одинокий старый больной там сидит, а вы лбы здоровые молодые как свиньи с ним… Но и тут такой морально однобокой ситуация не может быть. Если уж авторы басни такие гуманисты, то как быть мне – ребёнку, которым я тогда ещё являлся, когда я вижу очень старое сморщенное тело, еду стекающую по щекам, запах этот… То есть морально правильно сделать так, чтобы за эту всю нестыковку заплатил ребёнок? Типа «Так, деда жалко, он воевал, да и дом его, давай его за стол посадим с ребёнком, пусть ребёнок страданёт, там все более-менее в выигрыше останутся, не считая ребёнка, он же не станет ещё права качать, мал». Но, а то что ребёнка будут жуткие чувства раздирать в этот момент – это ничего. И не от того, что ребёнок избалован, эгоист или просто козёл, а от того, что природа сама так распорядилась, чтобы в глазах смотрящего ребёнка вид глубокой старости или даже визуальное воплощение смерти не вызывали в нём симпатию и глубокое уважение. Кончено, эти книжные ситуации являются вроде как попыткой привить доброе, чистое, светлое. Но учитывая, что они уже не выдерживают критики человека, даже не достигшего десятилетнего возраста, значит, что взрослые как-то уж сами наивны, однобоки и не так уж умны, чтобы нормально проиллюстрировать свои учения ребёнку. Так это тоже стало интересным для исследования.
Другое, что витало в воздухе, в обществе и вызывало интерес – это религиозное – вера в бога, доводы в пользу его наличия, интерпретация явлений и поступков людей, основанная на вере в его наличие и пр. Далеко не сказать, что моя семья была религиозная, разве что мать иногда посещала и посещает церковь и знает несколько молитв. Так сложно вспомнить сейчас, но где-то совсем в начале мне нравилась идея наличия высшего существа, но когда несколько раз в тяжёлых для меня ситуациях на мои просьбы о помощи никакой реакции не последовало, само собой я усомнился, а потом и вовсе с меня спали чары. И столько много логически необоснованных, кричаще противоречивых и с потолка взятых допущений я обнаружил в этой идее божественного, что вопрос верить или нет быстро отпал. Но встали два других очень важных вопроса. Первый – как жить то мне, если сверху никто не поможет? Ждать, терпеть, молиться, стараться понять замысел, каяться, перефразировать свою просьбу сто раз – это сразу не ко мне, спасибо. Это же альтернативная концепция картины Мира должна какая-то быть у меня. Но её нет пока. От этого нелегко. Надо придумать. Второй вопрос – если идея религиозного мной отвергнута, так как не прошла проверки обыденной человеческой логикой, то почему же в обществе столь обширен «религиозный рынок», и почему у этого явления так много поклонников? …вопросы, которые также были подвешены у меня в сознании и хотели быть разгаданными. Рядом с этими вопросами были и на тот момент недавно свалившиеся на мою голову вопросы моей смертности и смертности моих близких. Тут, наверное, даже и необязательно проявлять интерес к психологии чтобы зависнуть на некоторое время от такой новости, а скорее не новости, а осознания, но тем не менее, я завис по-своему, и кроме переживаний беспокойства это вызывало у меня и ростки исследовательского интереса к феномену смертности и того как с этим совладать, когда итог ясен. Сопровождался вопрос смертности и моими столкновениями со смертью других людей. Так, я в разное время мне довелось видел трёх мёртвых мужчин вне гроба и вне спокойной церемонии похорон – одного в подъезде, второго под трубами в кустах, третьего под одним из непарадных крылец моей школы. Ещё маленького мальчика, которого насмерть сбил троллейбус, хотя в момент аварии моя мать отвернула меня в другую сторону, но я помню крик матери мальчика. И к тому возрасту я уже был научен, что в обществе жизнь человека – это ого-го! Сам человек – это большое творение природы! И раз так, то и умирать они, казалось бы должны как-то величественно что ли. Но нет. В кустах под трубами лежит себе спокойно в обычной поношенной одежде, он лежит, а все дальше живут. В подъезде также, и под крыльцом, и на перекрестке с троллейбусом. Всё так прозаично и приземлённо. То есть мало того, что итог ясен – смерть, так она ещё к людям чуть ли не в домашних тапочках приходит, без церемоний, просто как такие рабочие моменты Мироздания. Пришла, кролика забрала, пару свиней, корову старую, синичку, и мальчика – как-то так примерно, и все они в одном списке у неё были. Да ещё и смерть приходит невзирая на маленькие человеческие радости жизни, так моя бабушка по отцу умерла в день его рождения. К этому же тоже теперь нужно было выработать подходящее отношение. А по пути и само общество открывало свои малопонятные, и на тот момент для меня возмутительные стороны. Существуют же плакальщицы на похоронах. Это ещё что такое? Не хотят – пусть не плачут, захотят – так поплачут сами. Как в такое интимное сокровенное мероприятие люди умудряются запихивать театральность наигранность, коммерцию и эти искусственные слёзы, стоны?
Интересное психологическое, вызывающее у меня вопросы без ответов я также находил в поведении животных и отношениях между людьми и животными. Почему если с собакой дружишь, то она всё равно рычит, если приближаешься к её миске, когда она ест. Что нельзя отменить свою «природой записанную пластинку», и поверить, что я не претендую на еду? Кошка спокойно реагирует, а собака – нет. Другая ситуация: приехал как-то щенок к нам на фазенду, я захотел с ним подружиться, а он на меня гавкал не останавливаясь очень и очень долго. В конце дня он уже просто не мог отрывисто гавкать как собака, а практически русскими звуками произносил «ава-ава». Так видимо легче. Для протокола: я его не тискал, не пугал, а просто сидел недалеко от него в сенках, и делал попытки с ним поговорить – точнее интонацией голоса дать понять, что я нормальный и не представляю для него опасности. С другими собаками и до и после я находил общий язык. И с ним мы подружились, и он у нас прожил несколько лет, и на фазенде, и на работе у отца. Но вопрос уже возник: что это было за явление, которое помешало нормально общаться почти сразу? Ещё одна ситуация: мы завели волнистого попугая. Это попугаи, размером с воробья, которых можно научить разговаривать. Но нас не хватило на это. Когда в комнате работал телевизор – попугай чирикал без остановки. Делаешь телевизор громче – попугай чирикает громче. К сожалению, лично у меня воодушевление от появления в доме удивительного жителя довольно скоро сменилось раздражением. И не у меня одного, поэтому вскоре мы отдали попугая в хорошие руки, с клеткой и со всем его имуществом. Не знаю, тут возможно ситуация не совсем про животное, а про взаимоотношения людей с животными. Хотя нет, не только. Меня помню тогда расстраивал тот факт «умпрямости» и тугоподвижности природы. Мы ведь тысячу разных способов его уговаривали не чирикать, но он чирикал. Жалко было принимать факт, что некоторые живые существа будто только номинально живые, и не могут вступить в контакт с человеком, не способны менять своё поведение – как природа ему велела чирикать, так он и делает, не пересматривая ничего и не лазая в свои настройки. А так хотелось, чтобы такой красавец ещё и мог хоть чуточку понимать человека.
Следующая ситуация: у нас жили кошка и собака на фазенде. Характер и отношения у них были типичные: кошка важная и местами истеричная, собака наивная по отношению к кошке, добрая со своими и злая с чужими людьми. Они, наверное, уважительно относились к факту, что делят один дом на двоих, но дружбы у них точно не было. Один раз кошка окотилась, когда на улице было ещё холодно. Котята были в сенках, кажется. Сколько-то дней прошло, она ухаживает за котята, всё нормально. И в один день я и дедушка пришли на фазенду, а там случилась какая-то чертовщина. Насколько я помню, мы тогда поняли, что или собаки на неё напали или коты, или кот, что скорее всего. Ужас какой-то. Но, я, когда пришёл туда, помню чувство, что попал на место преступления. Прям в воздухе было напряжение, и вид у кошки и собаки встревоженный, потрёпанный. Кошка кажется двоих котят затащила к нашей собаке в будку для защиты. А один или два котёнка умерли. И тех, кого она затащила мы в начале за мёртвых приняли, потому что они были как ледышки, но потом оказалось, что живы и их отогревали долго. Суть здесь для меня важной и интересной оказалась, что наши кошка и собака в катастрофической ситуации поступили так мудро, взвешенно. Само по себе представляет ценность, что я стал непосредственным свидетелем того, как животные проявили способность к взаимопомощи. И, конечно, теперь всегда в поле моего интереса входят подобное поведение животных, выходящее за рамки «животного инстинктивного поведения».
И вообще не разделяя психическое человека и животных меня удивляло и хотелось узнать больше об устройстве общих явлений жизни. Например, как я могу видеть мир вокруг, как обрабатывается эта информация в голове, как появляются, и из чего сотканы мои мысли, образы в сознании, чувства и эмоции. Также кроме исследовательского интереса к психическому у меня было тесно связаны с этим эмоции сострадания к людям или животным, которые как бы находятся за «рамками своего нормального состояния» или за «рамками того, что принято в обществе нормальным». Я помню, что концентрировался на этом в частности и на вопросе страдания человека или животного в целом. Так переживал, думаю, ну что же это такое, ну зачем же, почему он (а) сейчас так страдает (или в более лёгких случаях – …попал в такую неловкую или неприятную ситуацию). Мне хотелось помочь чем-то, иногда я так и делал, а иногда нет, потому что не знал, как или не хотел испортить и так уже не лучшую ситуацию у кого-то. Например, я мог бы помочь чем-то той голой женщине, идущей по городу, но я не знал, как могла бы выглядеть моя помощь.
Когда я подумал написать о личных интересах, подразумевающих моё нахождение один на один с самим собой, я полагал, что вспомню намного больше, чем у меня получилось. Это, на мой взгляд, отражает то, что я долгое время являлся «выученным экстравертом», то есть ориентировался на то, чтобы больше проводить время с другими людьми, и соответственно, так удовлетворять свои интересы. Такое положение дел одновременно указывает и на то, что по своей природе я скорее «интроверт», то есть ориентированный на действия с объектом (а не субъектом) моего интереса и «взаимодействие» с самим собой. А необходимость переучивать свою природу вероятнее всего стала одним из факторов развития депрессии, о которой речь пойдёт позднее.
Перечисленные интересы касаются возраста до 15 лет и переезда в Россию, Тюмень.
Семья как источник идей и пример жизненного пути. Свободное изобретательство и достаток как мой жизненный выбор
Выше я описал свои действия, которые можно было наблюдать со стороны, они же являлись и проявлениями моего взгляда на себя и на жизнь. А он базировался на умозаключениях, сделанных по результатам моих наблюдений за семьёй. Вряд ли эти умозаключения были ясны для меня в том возрасте, я их скорее чувствовал интуитивно. Поэтому сейчас я пробую добавить чёткости, превратить их в слова и выразить. Вот они: «Можно свободно изобретать и иметь финансовый достаток – таким образом можно считать, что жизнь удалась». Тогда необходимо объяснить, что я понимаю под свободным изобретательством, и что для меня означает финансовый достаток.
В детстве я имел пример как можно жить себе на уме и зарабатывать хорошие деньги. Хоть невозможно выделить одного члена семьи с которого я набрался материала для формулировки своих умозаключений, всё же главную роль играл отец и его деятельность. А роль и вклад других членов семьи возможно был не столь заметен для глаз ребёнка, но так же значителен.
Тогда я видел, что работа отца представляла собой бизнес, связанный с крупяным производством. У нас было несколько разбросанных по городу цехов, где складировались огромные кучи разных круп: гречки, перловки, манки и пр. Компания отца их перерабатывала, фасовала и продавала. Также они производили и продавали макароны. Часть продукции в розницу реализовывали в паре арендованных точках продаж на рынках города, другую часть большими партиями покупали другие компании. В цехах и офисе работали хорошие люди, я, кажется, знал всех. На производстве было разное оборудование – большое, громкое, железное, красивое. Некоторое оборудование делали сами, например, погрузчики, дробилки и пр. Территорию охраняли собаки, один пёс – «Пират» был выше меня ростом, и я боялся, но всё же подружился с ним, другой – «Майк» – видевший жизнь коренастый коричневый дворняга-друг. С ними все ладили и хорошо кормили.
А домой работа «приходила» в виде пачек купюр тенге с большим номиналом, перевязанных резинкой. Помню, как я иногда их пересчитывал, интересные эмоции… Далее купюры переводились в блага жизни. Так, за моё детство мы последовательно, как по лестнице сменяли квартиры однокомнатную, двухкомнатную, трёхкомнатную. Все они были в центре города. У нас были две дачи. Был прекрасный частный домик в подгорной части города. Его участок был на довольно крутом склоне, из которого в итоге сделали три ровных яруса со ступенями. Там же большой экскаватор выкапывал подземелье, на котором поставили сарай. Мы ездили на классных иномарках. Мой друг как-то заметил, что мой отец меняет машины как перчатки. Кроме семейной машины всегда были рабочие. Маленькие и большие. Даже было как-то сразу три одинаковых, но разных по цвету микроавтобуса «фольксваген-транспортёр». У отца был свой водитель – хороший человек. А как-то раз мы поехали в магазин, и отец купил себе мобильный телефон, хотя ранее я кажется вообще не знал о существовании таких. Похожая ситуация была с компьютером, когда он появился в нашем доме, я не знал, чтобы он был у кого-то ещё из знакомых. К тому же он появился у нас в полной комплектации: принтер, сканер, модем. Соответственно одежда и еда были хорошими.
Моя семья вела социально открытый инициативный образ жизни, понимала, как поддерживать чувство интереса. Инициатором развлечений и идей для них часто выступал отец. Так, привычным явлением были совместные поездки с друзьями семьи и коллегами родителей большой компанией летом к воде, а зимой на горки и в леса. В Казахстане любили ездить отдыхать на озёра среди гор «Боровое» и «Челкар». Часто бывали в России на отдыхе (Омск, Курган, Новосибирск, Челябинск). В далёкую заграницу, типа Турции или ещё дальше, кажется не ездил вообще никто, даже не знали, как думать об этом. Всё перечисленное было за свои наличные деньги, не в кредит, не в ипотеку или долг, к тому же само слово «ипотека» я узнал только после переезда в Россию.
Таким образом, я не знал, что такое, когда родители работают с утра до вечера. Не знал, как ожидать их вечером к определённому часу домой с работы. Не знал, что у кого-то из них есть начальники. Не знал, что кто-то из них ездил на общественном транспорте. Не слышал, чтобы кому-то из них нужно было отпрашиваться с работы, например, по семейным обстоятельствам или по болезни. Не слышал, чтобы им мало платили. Не ждал вместе с родителями их отпуск чтобы что-то сделать, а просто, когда нужен был отдых, они его себе делали. Под этим я понимаю свободное изобретательство – знаешь, как делать деньги и делаешь их тем путём, который тебе нравится, и не зависишь от работодателя в лице государства или частного лица. Дышишь свободно, чувствуешь, что плоды труда важны и востребованы в обществе. И иногда я мог наблюдать как отец дома делает разные наброски, чертежи, схемы, переводит мысли на бумагу. Это было так произвольно и так изобретательно-творчески. Похоже было и то, как отец придумывал по сколько грамм фасовать пачки крупы для розничной продажи. Аргументы были примерно такие: «Ну что килограмм, это как-то ну… – килограмм, пусть будет 800 грамм». Аргументы конечно весомые, но самое удивительное для меня было то, что затем фасовали по 800 грамм, и на пачке было написаны серьёзные такие цифры: «800 г». Можно было подумать, что за решением фасовать именно 800 г. стоят серьёзные размышления в компании или соблюдение каких-нибудь гостов, но нет, просто с потолка. Так я будто на опыте узнал кое-что об этом мире, узнал изнанку товаров на прилавках. Они не все серьёзные, многое из этого – просто желания производителей, вот и всё. Примерно так же отец придумывал логотип, который будет на упаковках для розничной продажи. Само по себе явление, когда придумываешь логотип интересное. Тем самым ты что-то показываешь и говоришь миру, зная, что логотип будут смотреть, запоминать, отличать наши товары от ненаших. И очень прикольно, что никто не стоит над тобой, никто не скажет, что логотип надо переделать потому что он кому-то там из начальников или заказчиков не по вкусу. Логотип как позиционирование себя самого. В наше время можно полагать наличие у человека логотипа компании перестало нести такое весомое значение, ведь и подросток может сделать его в фотошопе или любой самозанятый. Но тогда иметь логотип – было уделом компаний. Компании необходимо было встать на ноги, и лишь потом логотип, как заслуженная вишенка на торте – возможность свободно изобрести.
Получается, мои родители не были бедными работягами, а занимали хорошее положение в обществе, имели статус. Как-то отец праздновал юбилей в кафе, и мне запомнился, что там было очень длинный стол, вообщем-то было больше похоже на свадьбу в плане количества человек. И было приятно наблюдать, что многие люди знакомы с моими родителями, у них хорошие отношения.
Подведя промежуточный итог, можно сказать, что моя семья понимала, как хорошо зарабатывать за счёт своих возможностей, делала это свободно, и плюс к этому была добросовестным работодателем и производителем товаров.
И дедушка с бабушкой тоже были открыты, веселы и общительны. Особенно если я ходил куда-то с дедушкой, то удивлялся как по пути он встречает столько своих знакомых, и умудряется со всеми постоять и поболтать. А когда я гулял у них во дворе, то мы с другом часто «залетали похавать» ко мне, где бабушка нас угощала. И они тоже умели зарабатывать деньги довольно изобретательным путём – делая и продавая самогон. Когда я оставался у них, то были как бы это сказать, часы «икс», когда дверь на кухню закрывается, чтобы если кто-то придёт, то не увидел, чем тут промышляют. Эти опасения, наверное, как пережитки «радужного» «свободного» сталинского времени, когда у стен были уши, и все отличающиеся по доносам быстро были изолированы от общество надолго или насовсем. И на кухне тогда было примерно, как машина времени у Шурика из фильма: трубочки, шланчики, привязанные к шкафу, колбочки, марля, а в ванной стояли фляги и интересный инструмент измеряющий крепость напитка, по размерам похожий на градусник для коров. Затем, особенно когда я оставался с дедушкой ночевать на фазенде, я видел, как за самогоном приходят покупатели. Это интересно, такое живое – производишь товар, и его раскупают, и всем от этого хорошо. Тут я оставляю за рамками этическую сторону того, что товаром был алкоголь, а не, скажем, лекарство от онкологии, которое избавило бы людей от страданий.
Вероятно, стоит упомянуть общие данные о психологическом климате в семье, точнее сказать о том, чего не было, и соответственно это чего не было не влияло на меня и на выбор жизненного пути. Меня дома не били, не запрещали толком ничего, не наказывали домоседством, не отбирали компьютер или телефон. Никто не возлагал на меня неподъёмные неадекватные надежды, мол я так надеюсь на тебя, ты у нас опора и бла-бла. Не сравнивали с другими детьми, не ставили в пример. У меня не было «труднодоступных» родителей, с ними можно было разговаривать на «ты» и в любое время, я чувствовал, что меня любят. И мать, и отец были единожды в браке, не было разводов, измен, семья не висела на волоске. У меня не было сводных братьев или сестёр. Меня не заставляли таскать пятёрки из школы, не заставляли зубрить —учился как хотел, лишь бы переводили из класса в класс по нарастающей. Примерно так.
И так как я начал свою жизнь в таких условиях, что в моём сознании сформировалось желание продолжать в том же духе – свободно изобретать, быть себе на уме, иметь финансовый достаток. Интуитивно я понимал, что моё желание вполне соответствует моим возможностям, то есть хорошим задаткам для интеллектуальной и творческой деятельности. Ещё, что внутри меня есть что-то такое, что мне не совсем ясное, но точно важное, неповторимое, живое, интересное, и мне это очень нравилось.
Таким образом жить мне хотелось по простой причине – потому что мне это нравилось. Хотя я и не видел себя в деятельности по обработке и продаже крупы или производстве самогона, остальное же мне хотелось перенять. А ведущую деятельность я предполагал для себя другую.
Я не представлял себя в качестве штатного сотрудника – работяги. В моём представлении, которое в большинстве своём подтверждалось и намного позднее, работяги – те, кто еле «тянут лямку своей жизни, в которой нет смысла иного кроме как заработать на базовые нужды». У них не остаётся времени жизни на саму жизнь. Всё «сжирают» до смерти скучные обязанности. Не вспомню, что считал бы этих людей жизнерадостными. Я мог наблюдать за родителями своих одноклассников, приятелей или друзей. Многие из этих родителей жили будто в клетке, они несвободны. Единственным, как я представлял, их развлечением было проведение времени в компании с алкоголем и «сальные», убогие шутки ниже пояса или про тех, кто в социальном плане живёт лучше их.
Были у меня и ноты бунта, когда я размышлял о работе по найму. Всмысле!?, Как вообще кто-то может говорить что мне делать? Как я могу зависеть от начальника? Что за бред: рабочий день с 9 до 6? Мне жить хочется, а не быть встроенным в какое-то расписание. Всмысле!?, я отпрашиваться или предупреждать кого-то должен, что нужно уйти сегодня раньше? Что за ерунда: работать 5 или 6 дней в неделю. Как так вообще получается, что весь световой день отнимает работа, а мне на жизнь может оставаться несчастный клочок времени вечером, и то, из которого оно опять же отнимается на приготовления к завтрашней работе!? Как вообще на их зарплату можно жить как человек? Как вообще можно всю жизнь просыпаться в кромешной темноте и вылезать из-под одеяла в холодную комнату с раздражающим освещением, бьющим по глазам, чтобы идти туда, куда ноги не ведут!? И с чего вдруг я должен идти и специально засыпать, чтобы выспаться перед работой тогда, когда я вообще спать не хочу! Мне было жутко, когда я думал, что из этого что-то может произойти со мной. Это безвыходное положение. И к этому ещё добавляются мягко говоря скромные жилищные условия – чаще убого маленькая квартира или квартира в депрессивном районе, в которые никогда не хочется заходить. Туда же добавляются однообразная дешевая еда, ни чтобы получить удовольствие от неё, а чтобы набить желудок и не помереть. Далее – дешевая одежда, сделанная без капли симпатии к человеческому существу, а лишь в коммерческих целях – одеть бедноту. Нет жизни у работяг, родились они, попробовали бегать, прыгать, побегали под дождём, увидели снег, поиграли с собакой и кошкой, съездили на велосипеде, искупались в речке, наелись мороженного, влюбились-разлюбились, потом сексом занялись, и всё. Вот и все «высшие» впечатления. Далее в узком смысле с понедельника по пятницу будут ждать выходных, а в широком – ждать, когда ж эта жизнь уже закончится!? Мне всегда было больно от того, что общество Мира засунуло человека-рабочего в такую клетку, низвела всё его человеческое существо до элементарщины.
Наблюдал я и ещё одну категорию людей – «людей в пиджаках» с чистыми руками, которые чаще всего были на службе у государя. И если работягам я сочувствовал, то вторых и вовсе за людей не считал. Помню, как несколько раз попадались они мне по телевизору в каких-то там ток-шоу, где они гавкают друг на друга, а в моменты затишья чешут языком об устройстве страны там, общества, произнося невероятные глупости. Два умника решили как-то раз объяснить какое-то там явление в обществе следующим образом, один толстый такой в пиджаке еле как встает на руки, как на ноги, только на руки, его держат и пока он в такой позе, краснее как рак ему ко рту подносят стакан воды, чтобы он пил. Мораль басни – вверх ногами пить сложно, так вот и в обществе какая-то похожая ситуация происходит. А выразить словами слов и не хватило в лексиконе. Короли метафор и переносного смысла. Ёлки-палки взрослые люди, ладно певцы какие-нибудь там, им циркачами быть по роду деятельности положено, но те то под умных косят, да ещё и имеют на руках рычаги управления обществом. И таким, конечно, я тоже не хотел стать. Потому что кроме того, что они глупые, так они ещё и, вероятно, не свободнее чем работяги. Ведь работягам хоть допускается посылать на три буквы того, кто тебе не нравится, им как бы простительно, а этим приходится фильтровать сказанное, и облачать это в якобы умные мэссэджи, таскать маску и не палить свою сущность.
Ну а других категорий людей я, наверное, и не наблюдал. Хотя нет, были ещё. На базаре, понятно, что я не хотел бы работать. У меня даже сейчас в сознании образы продавщиц, которые много курят, а в морозные дни сами стоят на картонке, где покупатели меряют обувь, в сильно усовершенствованных валенках, и чтобы согреться стукают одну ногу об другую.
Там же в детстве и чуть позднее я делал шаги на пути зарабатывания денег свободным, изобретательным путём. Если совсем в раннем детстве, то я сдавал бутылки. Было похоже на накопление – каждая бутылка стоила определённую цену. Находишь, моешь, считаешь и относишь, зная, сколько с этого поимеешь. По мусоркам, конечно, мне не приходилось искать, но я мог брать дома, у знакомых, или особенно большой «улов» был у соседа, который любил пить пиво из «чебурашек» (бутылок с тёмным стеклом). Особенно интересным было искать и думать, где ещё можно достать бутылок. Вознаграждение за удачную идею поиска не задерживалось – нашёл ещё, получил больше денег. Хороший обмен энергиями с внешним миром. Но карьеру на этом не сделаешь, поэтому сдавал бутылки я недолго. Позднее в летние каникулы хотелось заняться чем-то кроме гуляний с друзьями, и мы несколько раз работали у моего отца. Такие простые хозяйственные работы на свежем воздухе. Ещё позднее, моё умение играть на гитаре приносило мне плоды в виде оплаты за то, что я приходил к знакомому домой, и давал уроки игры. Сходилось два моих умения – что-то кому-то объяснять и умение играть в одно «умение объяснять и сопровождать процесс обучения игры на гитаре». Вот это и есть в моём представлении пример свободного изобретательства – помогать другому, приятному мне человеку, овладеть любимым мной инструментом, да ещё и за финансовое вознаграждение.
Источники душевной боли и депрессивные ростки
Не было бы этой книги, будь всё хорошо и гладко. Так, будто параллельно или независимо от психологического климата в моей семье, я ощущал что-то нехорошее, так трудно описуемое. Грусть безысходности.
У меня не было слишком много объективно трудных событий, потрясений в жизни, то есть чего-то что происходило бы вне моей головы. Ну, скажем, землетрясений, потери близких в раннем возрасте, насилия разного, гонений, суицидов, наркоманий родственников, проблем с жильём, финансами, переездов. Опишу те, что были, и по моему представлению, среди прочих факторов стали почвой для развития депрессии.
Было несколько козлин. Одни, когда я учился в первом классе не помню, как именно, забрали у меня солдатика (кажется солдатика, или какую-то другую дорогую мне игрушку, не помню). Я вроде бы сходил домой, и вернулся на то место уже с защитой и намерением вернуть отобранное, но их там не было, так их и не нашли. Это была горькая потеря. Я горевал о том, что Мир, в том числе, устроен и так.
Другие козлины угнали у нас велосипед. С братом мы катались по райончику, где у нас была «фазенда», нас остановили два очень неприятных мужика-наркомана. Один сказал: «дай прокачусь кружок и вернусь», второй остался с нами, типа ждать. Время спустя под каким-то предлогом исчез и он. До нас окончательно дошло, что только что произошло. Мы обратились к полисменам, и сами стали искать тех людей. Помню, что вроде даже нашли частный дом, где они живут, и мать-старуха сказала, мол, нет моего сыночка дома, а он в этот момент огородами скрылся. Всё перемешалось в памяти, но потеря была тоже очень горькой. Корил себя за наивность, доверчивость. Спрашивал у жизни – это как это вообще такое? М? Какова цель произошедшего, а, жизнь? Для чего мне это? Как природа обосновывает то, что мой велосипед, вопреки моему желанию, переехал жить к другому? Для чего, в частности, существуют козлины? Для того, чтобы у меня и у других похожих на меня вызывать гнев и разочарование? Но это ж как-то не гуманно, что ли… Так моё отношение к жизни в целом пошатнулось. Не была проблема в том, чтобы найти поддержку и успокоение от такой «ненастной» единичной ситуации. А дело в том, что я не согласился тогда с мироустройством, что есть необходимость включать в бытиё людей таких вот козлин и ситуации с ними связанные. Но, всё же как маленький, но полезный довесок, тогда я на опыте понял, что от полисменов вообще ничего хорошего можно не ждать. Типа: «алло, полиция, меня убивают!» – «ну и что вы нам звоните?! Вот когда убьют, тогда и звоните». Чего уж там до велосипеда, парочки детей и парочки наркоманов. И конечно тогда мне захотелось найти способ своего существования, чтобы миновать подобные ситуации и не испытывать впредь подобных чувств. Поиск предстоял долгим…
Было у меня три операции под общим наркозом. Один из моментов напугал меня до смерти своей безысходностью, и холодом что ли. Не помню какая из операций, было мне примерно 5 или 6 лет, повезли меня на каталке в операционную. Само по себе ужасающее то, что я из уютного мягкого тёплого дома оказался лежащим на стерильном холодном столе в окружении незнакомых мне лиц в халатах в комнате, где самое-то из жизни только уходить, но никак не жить. Смотрю я в потолок огромными глазами на большую эту круглую лампу, где по кругу много небольших лампочек, и мне говорят считай лампочки, и маску надевают эту прозрачную для наркоза. До трех, наверное, досчитал, а дальше задыхаться стал. И ужас настал. Длился он несколько секунд, наверное, но такая беспомощность и безысходность меня охватила перед тем как я отключился. Ощущение, примерно, как если вначале воздух ко мне поступал через мои две ноздри нормального оптимального для этой функции диаметра, то после надевания маски я будто пытался вдохнуть воздух через отверстие одной медицинской иголки. Точно после этого случая я как-то потише стал жить, раз даже такое может произойти. Это даже не то, от чего хочется плакать или искать утешения, это то, от чего в точку просто смотришь, а в голове перекати-поле.
Была ещё ситуация околосмертного опыта, связанная с дыханием. Я заболел чем-то простудным, обычное дело – кашель, горло болит. Тоже это мне ещё до десяти лет было. Остались с братом дома, в гости ещё пришёл наш друг. Играли что-то, разговаривали, тихий обычный вечер. И я задыхаться стал. Не могу сделать вдох и всё. Паника в голове, и внимание бегает то направляется на то, как сделать вдох, то направляется на панику. Какая-то часть воздуха всё же поступала внутрь, потому как мне хватило оповестить брата фразой: «я умру». Сколько минут это длилось всё – я не знаю, но удивительное было то принятие неизбежного, которое пришло в первые мгновения с паникой. Я подумал что-то вроде – «ну, жаль, конечно, что меня так вот перед фактом сразу поставили, заблаговременно не предупредили, ну раз нет воздуха для меня, то берите меня наверх…». В какое-то мгновение пропал интерес (если можно назвать это интересом) к попыткам сделать вдох и стало возможно переносить эти издевательства природы над своим живым организмом. Хотя это скорее природа сама и вручила живым такую способность отвлекаться перед смертью. Примерно, как те люди, которые падают свысока, они же по пути «смотрят мультики», так как и тут природа сжалилась, и не стала оставлять человека в ясном рассудке, пока он летит несколько секунд к земле, в которую ему уже только врезаться. А возвращаясь к ситуации где я задыхался, скажу наперёд – я выжил тогда. В конце всех метаний и попыток вернуть дыхание я лёг на пол, и медленно пришёл в себя. Был тихо счастлив возможности дышать.
Другая ситуация с похожими паническими эмоциями была летом, когда я с отцом и его другом поехали на рыбалку на реку Ишим. У реки есть очень крутые и высокие берега, мы не торопясь спустились по серпантину из тропинок, и стали рыбачить. И как-то поманил меня берег на него забраться немного, начало его было не таким уж крутым. И я пополз на четвереньках, перед этим определив для себя точку, где мне нужно будет остановиться, потому что там уже начинается крутой подъём. Ладно бы я шёл, но я быстро так скакал туда опустив вниз голову, пропустив намеченную точку, обнаружил себя в ужасающем положении: мне уже не спустится вниз никак, ни задом, ни передом, только падать, а наверх мне тоже не забраться потому, что я толком не вижу, что там, и уже потерял возможность оценивать насколько берег крут или пологий, чтобы по нему передвигаться тем или иным образом. Вообщем, назад уже никак, вперёд жутко страшно – вперёд – может значить усугубить и без того ужасное положение. Отца бы позвать, да его и не видно уже, да и что сказать то, я пока объяснять буду что произошло год пройдёт. Теоретически можно было бы «прилипнуть» к песку и лежать, пока меня не найдут, я же всё-таки не падал, пока был на месте и не двигался. Но находиться в этом подвешенном состоянии, на распутье, оказалось настолько болезненно для меня, что я не пробыл в нём долго, и будто «очнулся» в следующий момент, когда руки и ноги несли меня вверх, всё-таки вверх. Залез не знаю, как, всё закончилось. Рискнул и выиграл. Спустился обратно по серпантину вниз рыбачить.
И если в целом говорить про ситуации околосмертного опыта, то они изменили моё отношение к жизни в целом не в лучшую сторону. Хорошо, есть жизнь, и у меня никто не спрашивал, хочу ли я её начать или нет, а просто в какой-то момент я начал жить, дышать, моргать и пр. Но с этим ещё как-то ладно. Но зачем мне переживание вот этих пугалок смертью? Зачем они запечатлеются так ярко, красочно, подробно в моём сознании? Мне от них только плохо. И от понимания, что ответов на свои вопросы не найду мне становилось хуже. Не могу сказать и чего-то в духе: «я начал ценить жизнь от того, что знаю теперь, что она закончится» или «я принял свою смертность». Так, качество моей жизни только снизилось.
О, школа! Она оставила след в моей жизни, который не вывести. Есть такая пора в детстве, когда взрослые спрашивают типа: так тебе в школу скоро? На следующий год в школу? Хочешь в школу? Я не хотел идти в школу, и отвечал, что туда я не пойду. Одновременно с этим я встретился с тем явлением, когда над жизнью постепенно сгущаются тучи, а я сделать с этим ничего не могу. Я понимал, но не хотел принимать тот факт, что я туда пойду, и у меня теплилась надежда, что что-то может произойти, но я всё же знал, что не долго осталось той надежде. Я проиграл ту войну за свободу и независимость. Оделся и пошёл в школу. Первая смена, это вот вставать с утра, холодно, темно, на душе так тяжко. Тяготило меня то, что туда идти надо, именно надо. Я не хочу, но надо. Надо было быть в том месте, где я быть не хочу. Надо. А я не хочу. Но надо. Я там что-то должен делать, а мне там не нравится. Люди новые, помещения новые, не вызывающие никакой симпатии, учителя эти ещё. Очень много времени моей жизни теперь проводить там, куда я не хотел. Каждую секунду, минуту, час мне там быть. Приплыл, теперь мне там в этом «надо» вариться ещё столько, сколько я ещё и не прожил. Очень долго и очень надо. Но не мне. Мне не надо, я не хочу. Мне не уютно, мне тяжело. Я чётко ощутил подавленность, да, меня тогда, к сожалению, подавили. И это история длиною ни день, ни неделю, а её конца вообще не видно для меня – первоклассника. И вот так сложилось, что природа пугает меня смертью, а общество засунуло меня в рамки школы – и эта «война» была заведомо проиграна, ведь силы слишком неравны.
Ассоциативно связано с рассказанной историй о школе другая история, случившаяся позже, классе в 3 или 4. Учился я со второй смены, утро проводил дома с мамой. И случилось, что я начал рыдать. Меня просто раздирало чувство невыносимости моего бытия, невыносимости всего вокруг, непонимания, что вообще со мной происходит. Я рыдал не останавливаясь, как бы волнами – больше, потом меньше, потом опять больше. Можно даже сказать мне рыдалось. Успокоения не чувствовалось от такой разрядки. И я не помню, как рыдание сошло на нет, и сколько времени оно продолжалось. Это было первое проявление эмоций в моей жизни, которые я не мог объяснить психологическими причинами. То есть если в общих чертах, меня никто не обидел, в школе не предвиделось ничего особенного, с родственниками или друзьями ничего не стряслось, мне не было физически больно и пр. Это событие пришло, потрясло меня, осталось необъяснённым, и легло на полку в моей памяти с пометкой, что-то вроде: «может быть когда-нибудь я пойму, что это было». И в течении жизни я нередко «проходил» мимо этих воспоминаний, но объяснений так и не находилось. А когда в 33 года я обратился к психиатру, то спустя некоторое время понял, что причины рыдания были всё же не психологическими, вот от чего я их и не мог найти, причины были физиологическими, то есть связанными с работой моего головного мозга. Это, как я понимаю, был такой «маленький привет» от моего будущего расстройства аутистического спектра и депрессивного расстройства или, другими слова – их «дебют».
Ещё где-то в районе начальных классов со мной случилась первая отчётливая невзаимная любовь. Она училась со мной, была миленькая, маленькая, тоненькая физически и с тоненьким голоском, жила в деревне, расположенной недалеко от города. Я сходил по ней с ума сильно. А она по мне нет. Это был первый раз, когда моя симпатия к девушке и симпатия девушки ко мне не возникли совместно. До этого мне как-то приятно везло, что если мне нравится она, то ей нравлюсь я. А тут вообще никак. Мне приходилось довольствоваться мыслями о том, что когда-то из-за чего-то она разглядит во мне кого-то романтического. Особенно испытанием для меня всегда была суббота. Тогда мы ещё учились в субботу. Эта девочка приезжала на учёбу не каждый раз в этот день, а по какому-то неведанному расписанию. Ну да, ведь жила она далеко, расписание автобусов – дело ненадежное, да и её родители, наверняка, иногда устраивали для неё полноценные выходные. Поэтому одна суббота могла принести мне радостные переживания, когда примерно в середине второго урока в класс заходила она, и садилась, и я знал, что сегодня она тут, и мне хорошо, и мы сможем обменяться хотя бы несколькими словами, я смогу посмотреть на такую красоту. Но в основном субботы приносили мне горькую реальность, когда ни в середине второго, ни в середине третьего урока она не приезжала. А я так ждал, смотрел на входную дверь в классе, прислушивался к звукам в коридоре, вдруг она идёт, буквально гипнотизировал реальность и себя… Не приезжала… что означало, мне придётся дотянуть лямку сегодняшней школы в серых тонах, без любви, и выходные для меня уже были почти насмарку. Боженьки, а я же ещё маленький был и уже тогда такие переживания. Ужас. Но так я её и не расположил к себе. Не помню, чем всё закончилось тогда, но спустя много-много лет я узнал, что она тоже переехала в Тюмень. Но, мой поезд романтических чувств давно уехал, столько разных станций было, остановок, и не красива она мне теперь вовсе.
Со сном у меня всегда были непростые отношения. Знаю, что дети часто берут себе несколько часов сна в течение дня. Я никак не спал днём. Соответственно, отказывался от таких предложений. Наверное, в связи с этим хорошо, что я не был в детском саду, так как там мне вероятно пришлось бы заставлять себя спать днём под «гнётом» недовольной воспитательницы, которая хочет время тихого часа посвятить другим своим делам, а не укладыванию неукладываемых детей спать. Но мои отношения с дневным сном нельзя было назвать проблемой – не сплю, ну и не сплю. А как-то раз я всё же лёг полежать днём, после того как мы пришли с отцом с рыбалки, и уснул. Проснувшись я будто очнулся от многолетней комы: я не мог понять кто я, что вокруг меня, какое сейчас время вообще, какой день. То есть я был настолько растерян, все «стандартные настройки сознания» сбились, был примерно, как после наркоза, и мне потребовалось время вновь собрать себя и понять, что произошло. А самое сложное для меня было ложиться спать на ночь. Я не хотел спать, у меня мозг не переходил в режим сна, вне зависимости от того устал я или нет. И в этом был мой большой конфликт с Мирозданием. Как бы ну и так проблем хватает, ну можно я хоть буду иметь возможность отключаться на ночь, перезагружаться там, неужели обязательно кошмарить меня 24/7, я ведь не магазин, не ларёк.
Многие дети боятся стоматологов. Но я не многие дети. Я один из тех, кто боялся стоматологов. Это моими ногами нужно было идти в ненавистную и устрашающую меня больницу, позволять тёткам-латентным садисткам сверлить мне зубы, сильно ковырять своим металлическим крючком в больных зубах, и наматывать зубные нервы на эти свои иголки. Я не знал, что может быть страшнее в жизни чем поход к стоматологам – это был Ад на Земле. Это подавляло меня долгие годы, начиная с первого визита до 30 лет, примерно. Это так долго. Важно сказать, что я точно не видел выход из этой ситуации. Я принял для себя убеждение: «так будет всю жизнь, пока у меня есть зубы». Картина моего мира состояла из этого. Как вообще можно полноценно радоваться чему-то сегодня, если я знаю, что через время я снова окажусь на том чёртовом кресле?
В школе почему-то к нам приезжали стоматологи смотреть и лечить зубы. Они размещались в каморке возле столовой и лестницы, ведущей в библиотеку и актовый зал. Странная была локация в стенах школы для меня, там смешивались в один котёл разные чувства: теплота и интерес в отношении библиотеки и актового зала, аппетит в отношении столовой, и ужас в отношении «филиала» Ада. Стены настоящей стоматологии то пугают, а тут они будто из прошлого века возникали, и инструменты, и подход к лечению имели соответствующий. Не удивился бы если бы у них была бормашина старая с крутилкой как у механической мясорубки. Они приезжали в третьей четверти – самой длинной, самой холодной, самой тёмной четверти. Казалось бы, ну хватит негативных событий для такой четверти, но нет. И вот каждый год в один момент во время урока к нам приходят в класс, и говорят, типа по три человека к стоматологу. Ну и? Мне про урок типа дальше думать, пока эти троицы уходят и приходят? Я трясся, паниковал, не мог ни на чём сконцентрироваться, мыслей, которые могли бы меня поддержать просто-напросто в голове не было. Хотелось, чтобы всё провалилось, и я туда же. Год за годом, год за годом. Третья четверть. И как-то раз я решил для себя, что не пойду туда, и не сяду к ним в кресло, и рот не открою. А идти то надо было, просто надо и всё. Каким-то образом я подгадал с учителем и временем окончания урока и трафиком этих троиц, что вышел с урока и остался не учтённым. Хотя так страшно было, что кто-то взглянет в какой-то список и увидит, что напротив моей фамилии пусто, и как начнёт преследовать меня до тех пор, пока душу не вытрясет из меня. Но этого не было. Невероятное везение. Но везение временное, потому как потом мне же и пришлось всё лечить. Но перед тем как лечить я смог запустить некоторые зубы, так, что в них образовались не дырочки кариеса, а кратеры, поэтому их было не спасти, и годам к 25 у меня уже не было трёх жевательных зубов. У меня были основания запускать зубы, хоть эти основания и не были в полной мере рациональными, но, тем не менее, так я обеспечивал себе эмоциональную безопасность. Много и долго можно перечислять случаи в кабинете стоматологов, от которых я натерпелся, но про один и последних, который мне запомнился можно.
Жил я тогда уже в Тюмени. И не знал я ещё тогда на опыте, что можно избежать многих проблем, если обратиться в частную платную стоматологию (хотя и это не факт, но шансы сохранить психическое здоровье кратно увеличиваются). Не знал, поэтому пошёл в государственную поликлинику, которая располагалась на окраине города, на уродливой улице с названием «Народная», где с одной стороны серые страшные панельки, с другой стороны гаражи, на земле грязный снег, чёрная жижа, и со всех сторон холодный ветер, рядом газовая заправка и как бы городу конец. Стены внутри поликлиники соответствует экстерьеру улицы. И, конечно, толстая старая недовольная жизнью врачиха, которой, я уверен, так нравится ставить обезболивающий укол вообще не туда куда надо, ну типа только в рот попасть и ладно, и не в её вкусе ещё и заморачиваться тем, чтобы обезболить именно тот зуб, который она будет лечить. Укол же был. Какие претензии… Но ладно мне же не впервой тогда так было, мне на жизненном пути видимо её родственники попадались с одинаковыми жизненными взглядами. Поэтому она начинает – мне больно – я терплю. Она продолжает – мне ещё больнее – я терплю, корчусь там конечно, по креслу ерзаю. Она кончает – мне сильно больно – изо рта брызгает кровь на её белое одеяние – я вообще куда-то сполз на пол будто. Я сползал как будто убегал от неё. И вот перед глазами у меня остаются красные капельки на белом и осадок мыслей, что так кажется всё-таки быть не должно. Ну нет, всякое бывает, но уж такое вот прям ну не должно. Даже в российской федерации на улице «Народной».
Подобное поведение врачей, когда они используя в качестве прикрытия общеизвестные факты, мол их лечебные вмешательства зачастую могут быть болезненными для пациентов, дают волю своим «садистическим демонам» и вкушают сладость власти и возможности издеваться над другим человеком я наблюдал не один раз. Раз я большую часть жизни работал с людьми, и меня заносило в официальные и государственные конторы, то им всем нужно было быть уверенным, что с моим здоровьем всё нормально. Нужно было проходить медкомиссию. Один из анализов предполагал, что в мой половой орган, прямо в дырочку, откуда я писаю, нужно вставить что-то вроде мини ёршика и поелозить его там, чтобы собрать биоматериал. Два раза, кажется, с периодичностью в несколько лет я приходил туда, где сидела такая же женщина, как и в рассказе о стоматологичке и тыкала эту штуковину в меня, и у меня такая резкая интенсивная острая боль была, что в глазах чуть не темнело. Моей молниеносной реакцией или желанием, которое я подавлял, так как нахожусь в обществе, даже не натягивая штаны было как ёбнуть ей наотмашь по ебалу и заорать бляяд! нахуй! сука! долбаёбка! И на хуй! Но я терпел, ведь я не знал, что впереди меня ждёт прекрасное открытие.
То открытие – это девушка-врач, которая выполнила ту же самую процедуру уже на следующем медицинском осмотре, и выполнила её так, что я не почувствовал ни капли боли. Она была просто морально здоровым человеком, по крайней мере для выполнения своих медицинских функций. Я зашёл к ней в кабинет, снова приготовился к худшему, она подошла, сделала процедуру, доброжелательно сказала, что всё, и я могу идти, и обратно переключила внимание на свой телефон, продолжив печатать. Я был рад этому событию.
Возвращаясь к стоматологам, в итоге итогов я дошёл до того, что там с ними я переживал насилие над собой, такое моральное насилие, один из видов насилия, предоставляемых народу государством. К сожалению, почвой для этого насилия послужило отсутствие у меня знания, что визит к стоматологу не обязательно должен быть ужасно болезненным. Как я узнал потом в расследовании причин свой фобии, моя мать сама панически боялась стоматологов. И для неё эти все вождения меня к врачам были той ещё пыткой. И конечно, она сама не знала, что стоматолога можно посетить и совершенно не впадать в паническое состояние, поэтому она как бы отстранилась от этой сферы моей жизни. Также я часто слышал от окружающих, что у стоматологов совсем не больно лечить зубы. Слышав такие мнения в начале я искал проблему в себе, думал, что я как-то слабоват для мужицкого перенесения боли, очень обидно из-за этого было. И вот я в ситуации, где мне говорят, что стоматологи – это не больно, а я эту боль чувствую. Добавляется к этому то, что анестезию то мне всегда ставили, и ожидали несколько минут, чтобы подействовала, нередко и добавляли, но мне всё равно было ужасно больно. Ну и тут я конечно рассуждал что-то вроде, ну организм у всех разный, возможно на меня плохо действует анестезия – то есть опять всё на себя спирал. Всё, получается, выхода нет из этой ситуации. Всё, варианты кончились. Как бы Мир, окружение уже ничем тут не поможет мне. Иди и живи с этим, иди и терпи, возьми свою панику и закрой дверь с обратной стороны, раз ты такой какой-то сложный. То ему ни это, и это ему не то. Замечательно, правда?
И конечно, о психологической составляющей, а именно о «сатанинской» мотивации стоматологичек я ни с кем не говорил, так как уж слишком эти размышления «на любителя», слишком «не относящиеся к реальности». Поэтому надо было ходить в стоматологам, вот я и ходил. И удачным уловом я был для садисток в белых халатах, так как отвечал важным критериям: в моих глазах на пороге кабинете читалось, что я подавлен, и никуда отсюда не уйду, потому что знаю, что лучше сейчас отмучиться, чем потом, потому что потом ничего не измениться, и при моей жизни не настанет будущего с новыми технологиями безболезненного лечения зубов. Так как слишком ещё недалеко мы от тёмных веков живём. В глазах же читался ужас, что манит садистов, примерно, как вампиров кровь, я никому не скажу о произошедшим со мной, я не кусаюсь, не ору и не реву, вообщем-то не привлекаю ненужного внимания из коридоров поликлиники. Такая вот гипотеза о моих отношениях с зубными врачами, довольно складная, но проверять её я не буду про прагматическим причинам: «дело стоматологов» у меня закрыто. Я теперь их совсем не боюсь. Может и хочется поделиться, но там долго рассказывать, как я справился с этим. Единственно то, что относится к этому параграфу, так это осадок на душе, оставшийся у меня после продолжительного «акционного» морального насилия. Тут про стоматологами всё. Ниже абзац уже на другую тему.
Была у меня одна из компаний, в которых я тусовался. Нас было пять человек. И событие произошло ещё в те годы, когда не было мобильных, и мы заранее договаривались во сколько и где встречаемся. Также созванивались по домашним телефонам, и звали друг друга гулять. А если происходил ну вообще какой-то сбой, то просто берёшь, и идёшь по тем местам, где мы обычно тусовались, и находишь друзей. Да, мобильных не было, но уже с этой компанией мы бухали. Это к слову о возрастных ориентирах истории. Так в один, кажется летний день я ожидал звонка от друзей, но не дождался. Позвонил им сам, их родители сказали, что они гуляют. Странно, но ладно. Нет, это уже странно, без ладно. Собираюсь, выхожу, и иду по всем местам, где можно было нас найти. Обошёл везде, нет никого нигде. Я тогда так расстроился, что хотел день провести одним образом, а получилось всё насмарку. И это расстройство было так сложно остановить, ещё из-за того, что я не понимал куда все делись. Я вернулся домой, и не помню, вечером или утром следующего дня я дозвонился до одного из друзей, и тот мне сказал примерно так: «ты что не понял, мы же тебя кинули». «Кинули» – значит в одностороннем порядке приняли и воплотили решение о прекращении общения со мной. Ни до, ни после слово «кинули» в таком значении я не встречал. Не помню, как я тогда отреагировал, понятно, что не обрадовался, но и большим, шоком, подкосившим меня это тоже не стало. Хотя следующие несколько дней я с трудом перестраивал свою жизнь на одиночное бытие. Было особенно трудно не знать, что повлияло на их решение, почему именно со мной перестали общаться, и конечно, хотелось общаться. Летними днями и вечерами иногда подступала такая грусть об упущенных прогулках, о том, что именно сейчас я мог бы гулять, но я этого не делаю. Помню, что мне совершенно не нравилось проводить время в одиночестве, я будто нёс это бремя, мотал моральный срок. Этот этап жизни было каким-то безгранично-серым. Но и идти проситься в компанию я тоже не был намерен.
А дело то в чём? Чем же я не подошёл так внезапно своим друзьям. Тем более что и ранее ни за день, ни за два ничего не происходило такого, никаких сор, претензий и пр. Всё шло, дружба плыла. А дело в одном рыжем толстом скунсе, как я понял позднее. Был один парень, который занимал лидирующую позицию в компании, но, вероятно, с приходом меня он начал её утрачивать. Против его часто играло и то, что его родители заставляли сидеть дома с его очень маленьким братом. Обидно, когда друзья строят балаганы, и в них пробуют алкоголи и бензины, а ты дома сидишь с неинтересным, как минимум потому, что очень маленьким, братом. Ну и вообще за ним замечалось, что он тот ещё лжец. Профессиональный. Помню, даже как-то он всем навязал, что у группы «Король и Шут» вышел новый альбом. Говорит, «Новый год на плечах» называется. Тогда интернет, наверное, уже был, но не так, что в один момент в википедии можно было проверить достоверность информации. Навязал, ещё название придумал такое, молодец. Ну так себе человек, вообщем.
Что я вынес из этого? То, что общение с людьми в общем то явление неустойчивое. Не константа даже друзья такие. Но без драмы. Вынес и то, что я способен прерывать общение с людьми, которых на сегодняшний день считаю близкими. Это непростое, но приятное понимание. Поддерживает независимость. Понял, что у меня есть проблема того, что самому с собой мне находится не нравится. Я не знал тогда, как вообще должно нормально ощущаться длительное пребывание наедине с самим собой. Но сделал заметку, что к этому нужно вернуться, чтобы разобраться что к чему. И уже намного позднее, годам примерно к тридцати, мне пришлось возвращаться к этому вопросу, когда он встал очень болезненно. А тогда в детстве время шло, шло, и прошло, наступила осень и школа, и я сблизился с другими ребятами, и это было лучше. Я их и раньше всех знал, но теперь стал общаться по-другому. Компания, созданная нами, оказалась психологически здоровой, и меня больше не «кидали», и мы никого не кидали. И до сегодняшнего дня поддерживаем отношения, хоть и живём в разных странах.
О, школьная алгебра и школьная геометрия, всей душой я вам не симпатизирую. Подумать только, я конечно, отличником не был никогда, не считая младших классов, но чтобы три двойки за четверть – это всё же не слабо. Если правильно вспомню, то в 7 классе – алгебра «2» в четверти, и в 8 классе – алгебра и геометрия «2» в разных четвертях. Больнее всего было, что для меня вся алгебра с геометрией были не больше чем расположенные в разных местах строки цифры, латинские буквы и геометрические фигурки, нарисованные линейкой. Сути предметов я не понимал совершенно. Точнее так – когда я занимался с репетиторами, то понимал, что там и как нужно считать – «механику» я делал без проблем. Но как только я её сделал, она у меня сразу же выпадала из головы – «сдал и забыл». Потому что ну не закреплялось у меня эти «трехэтажные» уравнения просто потому, что по учебной программе так надо. Мне – школьнику было не надо. И даже тому человеку, который сейчас пишет этот текст, это не надо по-прежнему, а прошло уже почти полжизни. Надеюсь, что полжизни. В силу того, что я не понимал и не хотел, уроки алгебры и геометрии стали, наверное, «почвой» для развития моей тревожности. Это ведь надо было как-то существовать с моим уровнем знания этих предметов. Ладно, домашняя работа всегда списывается или у одноклассников, или с ГДЗ (сборника готовых домашних заданий). Хорошо, контрольная или четвертная работа либо заблаговременно списывается у знакомых из параллельных классов, либо во время самого процесса у одноклассников. Это я сейчас рассуждаю так просто, хотя для этих процессов, естественно, нужно было стать мастером выкручиваться из безнадёжных ситуаций, и сенсеем по списыванию под носом училки. К доске вызывают не так часто, да и одноклассники всё равно помогают шёпотом, да и училка многого не ждёт от меня.
Но мы ведь движемся в светлое разумное будущее, и конец 9 и конец 11 класса расставит всё по местам. В начале я готовился к ЕНТ (Единое национальное тестирование – это в Казахстане), а в итоге сдавал ЕГЭ. В сущности, и то и другое – одно и то же. Но на этих прекрасных экзаменах не будет возможности ни у кого списать, никуда подсмотреть, ни в туалете обменяться шпорами – Ничего. Допрыгались, не знающие математики! Выведем вас на чистую воду! И вон из высшего общества! Полы мести, или на что вы там вообще ещё сгодитесь… И как тут сохранить спокойствие? Кому и как что доказать? К кому бы подойти и сказать, что я не осёл, если я не люблю и не понимаю математику? Не к кому. В итоге несколько лет жизни в ожидании высшего педагогического суда. Математички льют свой садистический сок при каждой удобной и не удобной возможности сокрушаясь о тех, кто не бельме в математике, что им в ПТУ всем нужно, что ну не мучайте уже никого, забирайте документы да идите в шарагу. Да, я ненавидел учителей математики. Это была ненависть. Чувство очень интенсивное и очень продолжительное. И мой организм выделял на это психические ресурсы. Очень затратно и травматично для школьника. Очень досадно слышать неприятные слова и не иметь возможности найти поддержку своей позиции из вне. Не в смысле среди друзей или родителей, они то на моей стороне были. А в смысле что вот ЕГЭ придумали люди без мозгов, утвердили на каком-то там высшем уровне, спустили это вниз до училок математики всех школ страны, и эти училки транслируют это, ощущая сзади себя такую «впрягу». Это ж они истину несли, так как на федеральном уровне утвердили, печать синюю поставили. А что я? А я сижу и снижаю свою тревожность на уроке путём того, что красиво переписываю цифры в тетрадь с доски. Для меня тогда тетрадь была как холст, как листок на котором «рисуют цифрами». Подытожу абзац – тут я, наверное, впервые всерьёз и глобально столкнулся с проявлением массового идиотизма – общество заставляет меня учить то, что я не перевариваю и не хочу, общество грозиться устроить мне жесткий конечный экзамен, и тоже самое общество придумало самую идиотскую форму проведения этого экзамена, общество продолжает – если я не знаю математику, то я и как человек то не очень. А я умный, имею свою точку зрения, и заявляю, что это эта прослойка общества характеризуется снижением интеллектуальных способностей, а не я. Но социальные роли у нас разные и силы: я один, и я школьник, а их много, и они учителя, завучи, директора школ, и выше и выше и тупее… Я не мог так просто отмахнуться от этого, типа забыть, забить, сказать себе что-то вроде: да фиг с ними… Нет, тут я столкнулся с тем, что это такая глобальная проблема человечества, общества.
Это как мне жить в том мире, где большая масса не пойми каких людей могут задавить своим количеством жизнь другого человека. Не я ж один математику не люблю. Да и не суть здесь именно математика, с помощью неё я просто показал пример. Не я ж один нормальный, но имеющий непопулярное мнение страдаю от того, что моё мнение и вкусы не влезают в это ваше прокрустово ложе. Перетечёт этот абзац, наверное, плавно в другую тему. Ведь, ладно экзамен, чёрт с ним, я его сдам переживу, так меня ж не только экзамен впереди ждёт. Как только я окончу школу, и за мной закроют ворота, то там меня уже ждут – «коллекторы от родины», или если говорить на бытовом языке – представители военкомата.
Оценки по математике с того мгновения уже перестают что-либо значить, перестают быть модными, и речь заходит уже о моей морали, высока ли она, или низка. Если она высока, говорят они, то я бегу к ним навстречу, прыгаю в хаки, по линейке заправляю постель, хожу строем, бреюсь налысо, люблю распорядок и выполнять команды от уполномоченных от родины, бросаю дом на два года, и затягиваю унылые армейские песни в три аккорда. Ну вообще ку-ку, конечно, так я типа моральный долг отдаю родине. Хотя, те долги, которые я у пацанов брал, я их отдавал, но то деньги были. А ставить рядом слова «долг» и «родина» – это такой бред, что его даже всерьёз и анализировать не хочется. А так как я к ним не бегу, и должником себя не считаю, то моя мораль, по их оценке, автоматически низка, да и вообще, как человек я признаюсь ими стрёмный. Но на их оценку моих человеческих качеств мне сильно безразлично с высокой колокольни. Меня беспокоит другое. Ведь, раз я к ним не бегу, то они бегут за мной, за таким стрёмным, но всё же бегут, хотят выбить долги. Я могу временно спрятаться «домике» – пойти в ВУЗ учиться на 5 лет. Но они ж и там у ворот меня поджидать будут. В общем и это не выход. Да и прятаться, косить по болезням там, поджимать хвост – это не в моём вкусе. Ах, родина, родина. Ах, степи казахские, да берёзки русские. Получается родина меня преследует. Преследует. Во те на, абьюз в масштабах стран! Я не хочу, а меня заставляют. А в данном случае мне к кому обращаться? Кому сказать, что я в корне не согласен с тем, что кто-то когда-то определил, что имеет право использовать два года моей жизни против моей воли? Я на этом собрании не был, и если б был, то не голосовал бы «за».
И остаётся у меня в душе конфликт, чувство непонимания с обществом, по крайней мере со значительной его частью. Но всё же пролился свет на это моё затруднение, и стало мне немного, но всё же легче, когда я узнал о научных трудах одного хорошего человека – Эриха Фромма. До того, как он и его коллеги высказали свежее предположение о природе психопатологии, учёные думали рассуждали примерно так:
– болеешь психически?
– да.
– ну это дело в тебе, давай тебя обследовать, потом тебя поправлять.
А Фромм и его коллеги сформулировали свой взгляд примерно так: болеет не человек, болеет общество. И далее они открыли большие ворота в область изучения самого общества и проявления его болезней. Поэтому, ответственно заявляю, что когда я не люблю математику и не намерен отдавать «долг» родине, то со мной всё в порядке, а вот общество поехало крышей в этом вопросе. И пусть «их» много, а меня мало. Я верю своим глазам, ушам, мозгу и сердцу. Полностью меня не отпустило, конечно. Потому что – одно дело знать об ограничениях общества, другое дело жить свою жизнь в этом обществе не имея возможности на это повлиять. И этот конфликт, и проживание жизни точно не добавили мне сил и радости, так как практически каждый день приходиться сталкиваться с «болезненными крошками или песчинками общества», ведь ясно, что «метастазы» добрались не только до математики и армии, а распылились и впитались в простые, бытовые и другие аспекты жизни.
Было ещё кое-что, что фоном воздействовало на моё психическое состояние очень длительное время – музыка. Я слушал русский рок. И зарубежный металл. Но металл ладно, а вот о русском роке есть что рассказать. Это, как я окончательно понял, очень много лет спустя, сильно подавляющая радость к жизни музыка. По мне так смысл русского рока – воспевание страдания, подливание в процесс страдания сладких манящих оттенков, красок. Жаль, наверное, но тогда я объединил мух с котлетами, и взял русский рок за эталон своей любимой музыки. И за жизнь посетил, наверное, много рок-концертов и близких к ним, в моём восприятии, таких как: «Би-2», «Глюкоза» (ранняя), «Звери», «Ночные снайперы», «Мара», «Агата Кристи», «Ария», «Калинов Мост», «Кукрыниксы» два раза, «ДДТ» два раза, «Бумбокс», «Лера Массква», «Город 312», Сергей Бабкин, «IOWA», Вячеслав Бутусов два раза, Океан Ельзи.
Возвращаясь к «мухам» и «котлетам», так «котлетами» выступало звучание музыкальных инструментов – гитары, баса, барабанов и пр. Мне очень нравилось слушать их партии, отделять во время слушания какую-нибудь одну и вслушиваться, наслаждаться, представлять, как бы я её играл. Даже тело как будто внутри реагировало на звучание. И на гитаре нравилось играть любимые мелодии. Но к «котлетам» примешались «мухи» – это вот эти депрессивные рокеры: чаще мужчины, реже женщины, часто употребляющие наркотики, алкоголь, в текстах своих песен препарирующие до атомов грусть, тоску, бессмысленность, злость, отчаянье, предательство, подавая это в симфонии приятных звуков. Конечно, в каком-то там подростковом возрасте они сыграли положительную роль дав мне отреагировать (или прожить, или пережить, или изжить) свои подростковые эмоции, связанные с потерянностью в Мире, с непониманием Куда всё? Чего происходит вокруг? Кто я?… Но далее эта музыка мне строить и жить уже мешала, но я не знал, что она так влияет на меня. Она встроилась в мою жизнь как, скажем, моя рука, или ухо. То есть у меня и мысли не было, что её (рок-музыку) можно отделить от меня, что я могу её оставить, а сам уйти. Не понимал, что есть на свете ещё музыка, где я мог бы наслаждаться красивым звучанием инструментов – то есть «котлеты в чистом виде, без депрессивных мух». Оно и не мудрено, ведь на рынке доступной музыки была русская попса, рэп, шансон, джаз. В попсе музыка элементарная и бездушно-электронная, в рэпе и музыки то нет вроде, разве что бас, шансон без обсуждений, а джаз и ребёнок сыграет просто дёргая струны или тыкая клавиши невпопад.
Поэтому «сидел» я на русском роке, слушал его, депрессовал, и считал, что всё что там поётся – есть мудрость народная, и все, кто там поют – есть мудрецы, жизнь пожившие, и делятся они со мной молодым. И нечего мне альтернативные варианты взгляда на жизни искать. «Любовь красива, но жестока, общество сильнее меня, но оно не для меня, меня мало кто понимает, я страдаю, но я ещё держусь» – вот и вся философия русского рока.
В итоге я отделался и от музыки этой, но потрепала она меня и заблудила основательно. В некотором смысле она была для меня не то другом, не то наркотиком, к которому я часто обращался. Обращался, когда грустно, когда совсем плохо, обращался, когда весело (ох, это так странно…), и всегда этот друг-наркотик не давал мне ничего кроме депрессии под хороший аккомпанемент. Ничего кроме. А я ведь из тех, у кого чуть ли не постоянно в ушах были наушники. Вот и получалось такое простое коварство привычки: мне плохо, а я мало что другого знаю, кроме как обратиться туда, где это «плохо» ещё больше размножат по душе.
Ранее я говорил об обучении игре на фортепиано, в этом параграфе отмечу, что оно для меня было очень болезненным. Я не хотел учиться играть на этом инструменте, не любил его. У меня не было кумиров-пианистов, которых я бы слушал в плеере, например. Моё тело как бы не отзывалось на этот инструмент. Но тогда я не мог отстоять своё право бросить учёбу. Родители спокойно, но очень убедительно оставляли меня за пиано. Сложное время было. Обучение предполагало, что почти каждый день я делал домашнее задание, и два раза в неделю занимался с преподавательницей. А начал учиться я поздно, лет в 11, кажется. Как раз тот мой возраст, когда невероятно хотелось всё свободное время проводить на улице с друзьями. И не то, что бы я каждый день прямо часами сидел за инструментом, нет, но даже те минуты, что я выполнял домашнее задание были для меня сложными, тянущимися, подавляющими моё настроение. И я мог психовать, если что-то не получалось.
Преподавательница была женщиной странной, особенно что касалось времени. Она приходила ко мне домой в 14 часов, вроде бы. Но фактически она, наверное, пришла в 14:00 несколько раз, все остальные разы она опаздывала, и опаздывала нормально так. На пол часа, сорок минут, бывало и на час. И вот каждый раз, когда наступало 14 часов я начинал ожидать от Мира чего-то чудесного. Мне так хотелось, чтобы что-то произошло, и с меня спали эти оковы. Чтобы занятий больше не было. Мне так хотелось, чтобы какое-то явление встало на мою сторону, потому как родители и преподавательница хотели, чтобы я занимался, а я был один в своём нежелании. И преподавательница ещё обременяла меня своими опозданиями. И с каждой минутой, шедшей после 14 часов моя надежда на чудесный исход всё возрастала, я будто проваливался в грёзы в состоянии бодрствования, но параллельно «голос реальности» говорил «блин, сейчас уже она придёт». Ещё добавлял, «вот пока ты наивно надеешься на что-то… а она то уже несколько минут как вышла из своего дома, прошла по улице, и сейчас где-то рядом… исход был определён заранее, зря ты мечтаешь, только хуже делаешь». И, наверное, в 98% случаев «голос реальности» был прав. В какие-нибудь 14:19 или 14:34 раздавался звонок в дверь, и все понастроенные в уме воздушные замки в миг рушились, растворялись, сменяясь скверным настроением и походом до двери чтобы её открыть. Но 2% всё же было, и иногда она умудрялось забывать о том, что у нас занятие. Забывать, да. Хотя это тоже не было спасением, ведь это была отмена всего лишь одного урока, а не всего обучения.
От ростков депрессивности здесь то, что значимая часть моей жизни регулировалась не мной, была не в моей власти, использовалась не мной. Внутри я сопротивлялся, бунтовал, но там глубоко в душе я будто считал это одной из характеристик жизни, что так и должно быть – что есть некоторые страдания от которых я не смогу избавиться, потому что так устроена жизнь и всё, и точка. Это очень горько. А если отойти на расстояние от этой ситуации и взглянуть издалека, то станет ясно, что я просто был «хорошим мальчиком», который не мог отстоять свои права на свои желания и свои нежелания, на время своей жизни. Слишком «тихо» и скромно, как оказалось, я их отстаивал. В итоге я всё же их отстоял. Но это заняло достаточно много времени по моим меркам. И здесь также на примере пианино я понимаю, что есть ещё немало жизненных ситуаций, где мне будет сложно отстаивать свои права, и где я, как и в первый раз буду сталкиваться с той горькой верой в то, что так устроена жизнь и с этим ничего не поделать, и только потом, спустя время выпрямляться и стоять за себя. А у истории с пианино жизнеутверждающий конец: перед переездом в Тюмень я самостоятельно продал пианино за хорошие деньги, так инструмент и занятия остались в Петропавловске, а я уехал. Молодец! А из моего исполняемого репертуара больше всего мне понравилась и запомнилась «К Элизе» Бетховена.
Переезд в Тюмень начинался интересно и будто понарошку. В начале я просто знал, что мы скоро переезжаем. Оповестил друзей. И вообщем было такое приятное время, я даже чувствовал себя немножко крутым, что мы собрались ехать в довольно крупный российский город. Тем более что уже пару раз я был в Тюмени, и думал, что тут просто улёт – высокие дома, мосты-развязки, большие дороги и расстояния, и пробки как по телевизору в Москве или США. Ничего этого в моём городе не было. Время шло, я доучился последнюю четверть в своей школе, продали квартиру, продали производственные здания, и переезд превратился в реальность. К тому времени я уже не хотел такую реальность.
Мы отъезжали из квартиры бабушки и дедушки. Рано утром в ноябре меня пришли провожать мои друзья и подруги, мы постояли с ними в подъезде, говорили заключительные слова, обнялись и я стал унывать. Сел в машину, включил плеер. Две песни сопровождали весь путь: Павел Кашин «Чёрный ящик», Мумий тролль «Иди, я буду». Они раскрашивали моё горькое уныние. На таможне вышла заминка, родители не стали декларировать деньги, которые везли собой, а это как бы сказать не очень приветствуется. Долго таможенники делали мозги по этому поводу, хотели, чтобы с ними договорились как договариваются с дэпээсниками. Пока всё это происходило, я как во время ожидания преподавательницы по музыке, грезил наяву сидя в машине на таможне примерно следующее: «Ай, чёрт с ней этой Тюменью, произойди что-то такое, чтобы развернулись мы и поехали обратно, приехали бы и было бы всё хорошо, как и раньше было, услышь меня Мир, сделай так, пожалуйста». Но родители поделились с таможенниками, они обрадовались и пропустили нас дальше. И две песни заиграли в плеере ещё трагичнее. Когда мы въехали в город, было темно. Потаскали немного вещей на третий этаж, я зашёл в квартиру. Переезд был завершён. Было уже поздно, спать не хотелось, но хотелось не видеть себя в тех обстоятельствах – в той квартире, в том городе, в том холодном ноябре, поэтому хотелось заснуть. Было грустно ложиться, так как мне хотелось покурить, закинуть насвай, напиться, поговорить матом с друзьями и посмеяться с друзьями, как подростку, но вместо этого было стерильное и скучное окружение семьи, и тоска по уже по-настоящему и навсегда утраченному дому. Не помню, как уснул, но ещё раз засыпать при подобных обстоятельствах никогда бы не хотел.
Постепенно новое место жительства открывалось мне с неприглядной стороны. Мы поселились на тогда ещё краю города, я поступил в школу, где было полно придурков. Микрорайон, да, как и город в целом, странным образом был будто против зелёной растительности – бетон, да асфальт. Это меня одновременно и расстраивало, и раздражало от того, как вообще так можно жить. К слову, до сих пор во дворе, где сейчас живут мои родители, и дому, которому уже лет тридцать точно, есть одна, случайно выросшая берёза и маленькое дерево, которое кажется начало умирать ещё с моего приезда, но никак не может это сделать – всё остальное, в стиле города: асфальт, кирпич, гаражи и так необходимый для человеческого счастья шлагбаум. Я несколько лет не понимал, почему у меня осень перестала чувствоваться так как она чувствовалась мной ранее, «правильно» что-ли… Потом я понял, и оказалось, что под ногами нет жёлто-красной листвы, которой можно пошелестеть и попинать, как в клипе у Шевчука. Голый асфальт, пожалуйста. Ну не совсем голый, конечно, но раз деревьев на весь город считанное количество, то и листвы соответственно.
Климат. Если «из далека», то он вообще не различается, но раз всё мое нутро было направлено на поиск различий двух городов, то в Тюмени климат мне не нравится. Если дождь – то обязательно холодный. Если летний вечер – то обязательно нужна кофта. Если жара, то можно на ней расплавиться, но прям кожей чувствуется, что воздух не прогрет, а жара исключительно из-за лучей солнца. А в Петропавловске воздух приятно прогревался. Зима была и Петропавловске дикая порой, но в Тюмени есть какие-то такие дни с ветром, который продувает все кости насквозь, хоть что на себя одень. И вся эта погода она очень давила на моё психическое состояние – я не мог ничего сделать с этим, и моё настроение напрямую зависело от погоды, редко, когда были исключения. Да и вообще трудно было знать, что я из северного города переехал ещё севернее, и заметных плюсов, компенсирующих эту потерю вообще никаких не наблюдаю.
Тяжело я переживал расставание с моим кругом общения. У меня не было интереса заводить новых знакомых, друзей – оно постепенно получилось как-то само собой, фоном. Но было одно событие, которое сильно усложнило мою адаптацию на новом месте жительства – это была моя влюблённость. Уже проживая в Тюмени, на школьных каникулах я поехал в Петропавловск, и в моей компании было пополнение – новая подруга. Помню, как мы с ней встретились, и внутри меня что-то началось, что уже нельзя было остановить. Мы вместе проводили время в компании друзей, побольше узнавали друг друга, но как бы никак не романтизировали свои отношения. Я вернулся домой, началась другая четверть, иногда мне приходили приятные воспоминания об общении с ней, но я как-то строго для себя решил, что ничего у нас с ней не будет. Просто потому что мы живём в разных городах, мы далеко друг от друга, и не нужно мне влюбляться, а потом страдать от этого. Близилось лето, и каникулы, которые я полностью собирался провести на родине. И за несколько дней до моей поездки эта девушка мне пишет сообщение, с которого начинаются наши романтические отношения. Моё ранее принятое строгое решение от радости улетело в урну.
Эти отношения подарили мне чудесный период жизни. В них были «главная фигура и фон». «Главная фигура» – это те самые яркие глубокие прекрасные чувства по отношению к девушке, которые я когда-либо испытывал. А «фон» – чувство желанного полного удовлетворения тканью повседневной жизни, желание продолжать чувствовать окружающее и двигаться, благодарность способности жить и Бытию. Тогда я точно знаю, что был полностью доволен своей жизнью, и ничего не хотел менять. Если изменений и хотелось, то только простых и приятных, но не тех, которые необходимо производить из-за того, что по-другому уже невозможно. Я и раньше влюблялся, было даже в двоих девочек одновременно, но та влюблённость, как я чувствовал и верил не может быть исчерпана, прекращена, и поэтому смотрел в будущее с пониманием того, что путь мой будет уже не столько мой, сколько наш совместный. Помню меня тогда очень вдохновляла идея, что мы теперь как одно целое. И я мог переживать на опыте это чувство. Мне повезло, что повстречался такой человек, с кем я будто не знакомился как с кем-то другим, а мы нашлись/повстречались как части чего-то одного. От того и все процессы нашего человеческого взаимодействия мигом были настроены сами собой. Не нужно было притираться, стесняться, притворяться, доносить друг до друга каждый свою «философию отношения к жизни», так как она были релевантны. Это были отношения, включающие в себя моё идеальное видение дружбы, романтики и просто какого-то магического, и такого складного притяжения двух живых существ.
Помню мне случилось в один момент пережить два по существу разных взгляда на жизнь, на существование. Так как я приезжал в Казахстан уже в качестве россиянина, то мне необходимо было идти в государственную контору отмечаться, и продлевать разрешение на нахождение в стране более трёх дней. И мы с девушкой пошли вместе туда заняться этой волокитой. Мы стояли в очереди вместе, но в один момент я зачем-то куда-то отошёл на несколько метров. Чем-то я занят был и как-то в процессе этого всего мой взгляд перевёлся в ту сторону, где стояла Она. И вот за мгновения до того, как в центре, в фокусе моего поля зрения оказалась она, я успел разглядеть и почувствовать серое бессмысленное «ничего», скуку, брошенность и ненужность происходящего: протёртый карман дешёвой курки у дядьки, наспех сколоченный безвкусный стол, где толпа заполняет бумажки ручками на ниточке по образцам, которых всегда не хватает, наеденные не от хорошей жизни животы мужчин и женщин, нелепый головной убор женщины в годах, и всё это как-то обрушилось на меня, и было чёрно-белым, безжизненным, мёртвым будто кроме этого помещения, кроме этих бессмысленных занятий нет больше ничего, всё сведено к этому ничто. Следующим мгновением в поле моего зрения и внимания попадает Она. Её образ так красочен, полон жизни, дыхания, интереса. Её невысокий рост, манера стоять неповторимым образом, вязаная шапка, одежда, прекрасное лицо. Я как-то тихо так, негромко, про себя радовался, что мои глаза видят её, что она есть, она существует в том месте, в том Мире, где оказался и я, что мы встретились, что мы вместе, мы соединены, и мне в этом невероятно повезло, я не могу хотеть и не жду каких-либо подарков судьбы ещё, у меня всё исполнилось, дальше – всё прикладное, этим я займусь уже сам, без ожидания чудес от судьбы.
Такой взгляд на мою жизнь, на мою возлюбленную был тогда постоянен. «Пик» наших отношений пришёлся на лето, которое я провел в Петропавловске. Мне было очень необходимо то лето, ведь прошлой осенью на меня обрушился переезд, осень, зима и весна в пока ещё чужом городе, и было так хорошо вернуться на тёплую родину, позабыть о трудностях моих реалий и отдаться любви. Я наслаждался тем временем, что мы проводили вместе – гуляли круглыми днями, оставались с друзьями на съёмных хатах веселиться, пить, курить, накуриваться, ездили купаться на троллейбусах и автобусах на общественные пляжи и укромные места на небольших дачных водоемах, обнимались, целовались, долго стояли у неё в подъезде перед тем как я вылетаю, чтобы успеть долететь к назначенному времени домой к бабушке с дедушкой. После возвращения домой и до сна мы висели на телефоне. Домашний бежевый телефон родом из детства, её голос в трубке, я внутри уютного советскосоюзовского клетчатого кресла – такими были завершения моих летних дней.
Я был счастлив всё то время, пока мы были вместе, даже если я и уезжал в Тюмень. На расстоянии мы писали друг другу нереальное количество sms и созванивались, тогда ещё по домашнему телефону через «межгород».
Однако такая жизнь продлилась недолго. Однажды красивым прохладным осенним днём, ещё до снега, у меня получилось приехать в Петропавловск не во время каникул, а как-то посередине. Я сделал сюрприз. Для друзей он получился. И вот мы стоим с ними в той самой футбольной коробке возле школы, которая не использовалась по прямому назначению, болтаем и смеёмся, и чуть вдалеке, откуда обычно все приходили в коробку, я вижу божественно красивую красную шляпку и любимый силуэт. О, эти моменты расставаний и встреч с ней, так они всегда были эмоционально интенсивны и значимы. Кончено наши взгляды встречаются, начинается что-то вроде романтического отрывка из книги или фильма, когда мы устремляемся друг к другу, соприкасаемся и прочее. Вероятно, для стороннего наблюдателя это выглядело бы как: влюблённые голубки стандартным образом встречаются после долгой разлуки. Но я как участник этого прекрасного момента увидел и почувствовал какую-то инородную переменную, которой точно не должно было быть. Встреча наших взглядов и стремления друг к другу были не такими гладкими и полностью отданными под управление любовному чувству. Что-то смутило меня, но я и думать не мог, что же именно, хотя это неизвестное уже бесповоротно изменило мою жизнь. Через несколько часов я узнал, что в сердце моей любимой поселился мальчик Саша из нашей школы. И шляпка, от вида которой утром того дня я чуть не упал в обморок от переживания счастья, предназначалась не для меня, а скорее для мальчика Саши. Потому как я, будто нежелательно-внезапный муж, возьми и приедь из командировки в понедельник, хотя ждали меня к пятнице. Я каким-то образом эту историю узнал, узнал, что у них романа вроде как и нет ещё полноценного, также не помню как мы помирились в этот же день, приняли решения продолжать наши отношения, она даже подкрепила договорённость тем, что удалила то ли фото, то ли переписку с ним из телефона, а я принял решение каким-то образом переработать и объяснить для себя подобный поступок моей любви и продолжить жить. В течение дня я считал, что скорее мой рассудок находится в ясном состоянии, ничего сверхъестественного не ощущал, разве что было больно и обидно на душе. Было такое рабочее состояние будто весь день был на базаре, долго ходил, выбирал, покупал и нёс много вещей домой. И не знаю, как, но мне удалось уснуть в тот день.
Ночь открыла королевскую дорогу в моё бессознательное и показала, что же я в действительности пережил за день. По уровню безысходности это состояние походило на то, когда фильмы показывают период чуть позже средневековья и где в белой постели, на неудобной огромной подушке и в горячке лежит безнадёжно больной умирающий человек, ему со всех сторон плохо, помочь ему уже нечем, и на него обрушился концентрат мирского страдания, перед тем как он выдохнет последний раз. Я не помню содержания сновидений той ночью, но я много раз просыпался, физически меня воротило от душевного состояния, было желание что-то совершить, подвигать мышцами, чтобы «стряхнуть» ту боль, которая во мне, но на дворе ночь, тишина, темнота почти полная и в движениях не было смысла, хоть двигай, хоть не двигай. Перед глазами низ шифоньера, вторая подушка, потолок и так по кругу и всю ночь, а когда наступала дремота, то тут же начинался ужасный сон о том её поступке, убивающем меня, и я сразу же стремился выпрыгнуть из сна, а выпрыгнув попадал всё в ту же комнату и наяву испытывал всё те же состояния, что и во сне, но с другого взгляда, от «другого режиссёра». Со мной случилось то, что я очень боялся, и я не в силах никак это изменить, не смогу забыть, не смогу с этим жить. Наши отношения уже не вернуться к тому, что было раньше. Все её слова, все мои надежды и мечтания по поводу её отношения ко мне, все надежды на то, что она дорожит мной, думает обо мне и что я являюсь для неё тем самым человеком на всю жизнь… всё разбилось, разломилось без предупреждения, и на смену этому мне пришли эмоции родом из ада. Уже не помню, что было утром, не помню, как мы встретились и посмотрели друг на друга, но с того момента наши отношения умерли, хоть формально и продолжали существовать ещё несколько месяцев. А потом и формальное существование закончилось, когда она сказала, что её любимый человек должен быть с ней рядом, а я не рядом, я в Тюмени. Смешно было не пройти по такому простому критерию, и тяжело, что всё то романтическое чудесное созданное небо нужно было закончить опять же потому что я не рядом. Можно было бы сказать, что-то вроде: а как же те слова? как же там любовь? как же наши сокровенные мечты? мы же с тобой случайны образом «обманули» систему и чувствовали самую подлинную любовь без страданий… Но ответ был бы о том, что я не нахожусь рядом, а, следовательно, не подхожу по критерию, как итог романтика сворачивается, она уходит, и дарит свою любовь везучему мальчишке, что живёт так близко, что аж в соседнем дворе. Поэтому от этих причитаний я воздержался. И стал ещё больше не любить Тюмень, не специально, конечно, и не логично это было. Мало того, что город забрал и друзей, и любовь всей жизни, так в него ещё и возвращаться надо, и вставать в жизненный строй, чтобы идти дальше.
Я долго убивал в себе любовь к ней, но она не убивалась. Всё тянуло встретиться, сказать что-то, что изменило бы что-то, воскресило бы отношения, но это было нереалистично. Да и что тут сказать, раз меня так променяли. Тогда, если так можно выразиться, я пользовался тактикой «подавления» чувств к ней – старался не думать, отвлекаться, забыть, удалить контакт, фото, сообщения, даже сжег её памятные вещи, подарки, которые с таким теплом берёг. Я подавлял чувства, а они трансформировались там внутри и вновь прорастали в виде фантазий и надежд. Даже как-то возвращаясь домой из школы я заметил, как на отдалении едет машина такая же как у её отчима, я присмотрелся к номерам, точные цифры я никогда не знал, но я увидел, что номера казахские, с буквой «Т» вначале, указывающей на тот самый регион страны. Дальше машина повернула в сторону моего двора. Пока я её наблюдал, ноги несли меня, хорошо хоть никакая машина меня не снесла по пути, потому что я грезил, что это приехала она, попросила отчима привезти её, что она решилась на такой шаг, машину я увидел издалека, поэтому у меня было время замечтаться и «уйти от реальности», пока я приближался к своему двору. Вместе с мечтаниями, был и внутренний голос, который, конечно, разубеждал меня в том, что такое чудо может произойти. Не помню, как всё закончилось, но конечно, в итоге это была не она. А вся эта ситуация была лишь типичной психической реакцией человека, переживающего горестные чувства.
Вся история началась, и тогда я был счастливый подросток, но постепенно превратился в несчастного юношу. Я был уверен, что никого больше не смогу полюбить вообще и так оно и происходило. Вся эта история заняла около шести лет моей жизни, из них только около года пришлось на наши отношения. Ещё год у меня были другие отношения, которые я прекратил, поняв, что другую я всё же не полюбил, мне так показалось только в самом начале, и что сердце моё проситься снова в те отношения. В целом суть ясна – я долго был «заколдован», в конечном итоге сильно сдал из-за этого, жаль, кончено, что вся эта боль пришлась на столь юные годы, хотя вряд ли для такого найдётся оптимальный жизненный период. А потом меня «расколдовали». И если дальше по тексту будет смысл рассказать, как это произошло, то расскажу. А пока такую любовную историю я рассказал потому как она, как я говорил выше, сильно усложнила мой моральный переезд на другое место жительства. А когда я внутри для себя прекратил те отношения, «слез с дохлого коня», то появилось вдохновение быть открытым для новой любви уже из Тюмени.
Мой переезд всё же состоялся, он был болезненным, но он прошел. Болезненным он был в первую очередь потому, что это не я принимал решение уехать из родного дома, и не я выбирал место, куда я еду. Если глобально то, в итоге я согласен с тем, что переезд был необходим – но это другая тема. А в продолжении этой важно сказать, что я заплатил очень большую цену за изменение в своей жизни. Так, я утратил чувство, что мой город – это мой родной дом. Я любил тот город, любил там жить, и он был продолжением меня, моего внутреннего мира, моего пространства, а я был продолжением его. В нём я был как рыба в своём водоёме. Там были мои корни, и так, если по большому счёту, то меня никогда не тянуло «вырваться из маленького городка в большой свет». Но случилось, то, что случилось. Печаль была, и, наверное, частично осталась и до сих пор, что уехав из родного места, из дома, я так и не обрёл другой дом. У меня по-прежнему нет любви к городу Тюмени, нет чувства, что я нахожусь в своей тёплой родной любимой среде, нет ощущения, что я растворён в городе. Я здесь как отдельная единица, выстраивающая деловые, практически рабочие отношения с городом. И вот спустя двадцать лет я уже не жду и не хочу, чтобы эти отношения стали качественно другими. Казалось бы, если мне вернуться обратно жить в Петропавловск, то всё, я, как и прежде окажусь в своей среде, но нет. Я всерьез размышлял о переезде, и часто посещав его «примерял» на себя возвращение… Но мы расстались с Петропавловском, и он, как и я пошёл своей дорогой. Он стал другим. Практически все, кто мне дорог уже уехали оттуда, или умерли. А облик города поменялся и продолжает это делать вообще не в ту сторону, как было раньше. В мой любимый зелёный старый парк пришла birdshit architects, уютный палисадник возле школы, где было много разных красивых растений теперь является безжизненным асфальтом на котором тесно стоят машины все на одно лицо, и даже из нашего двора исчезли все голубятни кроме одной, которая доживает пока умрёт её пожилой хозяин так же в окружении асфальта и машин. Много и красивых изменений, конечно, произошли в городе. Но он уже чужой мне. Тепло родного дома я и там теперь не чувствую. Поэтому в тот день, когда я отъехал из квартиры своих бабушки и дедушки я стал человеком без родины, только этого ещё не знал. Грустно, но что уж тут.
Таким образом:
В моей жизни не случалось трагедий и катастроф, которые бы подорвали моё психическое здоровье – а значит, мне как бы не было прямых показаний обращаться к психологу.
Моё социальное поведение было в рамках нормы – не замкнут, общителен, адекватен – а значит, и тут показаний для обращения к психологу не нашлось.
Я не имел симптомы явных и «популярных» для лечения психических заболеваний (шизофрении, умственная отсталость, тяжелый аутизм и пр.) – а значит и психиатры меня не ждали в свои кабинеты, и никто не намеревался меня туда отвести.
Но я чувствовал и понимал, что со мной что-то не так. Как-то сильно я центрируюсь на своих переживаниях и мыслях уже не столько потому, что они просто вызывают здоровый исследовательский интерес, а потому что они вызывают у меня беспокойство. Но в моём словарном запасе практически не было тогда слов чтобы «ухватить моё состояние за хвост», описать его, сделать внятным для наблюдения и понимания. А если всё же сделать попытку, то явление, которое более всего озадачивало меня – это нечто берущее свои корни от состояния грусти. Но грусть – не совсем подходящее слово. Грусть бывает светлой, спокойной и в целом может потенциально нести позитивную функцию – побуждать человека к изменению его жизненной ситуации. Тоска, уныние, печаль, скорбь – тоже не подходящие для моего состояние определения. Моё же состояние можно назвать «враждебным» по отношению к человеку, потому что никаких потенциальных позитивных функций оно не несёт. Также это состояние очень интенсивное, мимо него «нельзя пройти не заметив», когда оно приходит, то весь фокус внимания концентрируется на нём, остальное выпадает из поля зрения. Оно ощущается как какое-то разъедающее, ну то есть, оно, например, «не бьёт», «не давит», оно как будто разъедает и отравляет душу. Можно сравнить, как если съесть что-нибудь от чего можно отравиться, тогда в животе и в горле есть соответствующее ощущение чего-то что организму не нравится, чего-то что ему не нужно и от чего он хочет избавиться, вот примерно тоже состояние, но на психическом уровне. И точно могу сказать, и хорошо, что такое подходящее слово есть в языке – я страдаю от этого состояния. Именно страдаю. Что-то, что сильнее меня (в данном случае это состояние) довлеет надо мной, и я буквально пассивно переношу это. Спасенья нет. Надежды тоже. Как если бы придавило большим камнем, и очень хочется его убрать, но дальше большого желания ничего не происходит, разве что пальцем пошевелить, который оказался не придавленным, и всё.
Если говорить о других характеристиках этого состояния, то отмечу, что оно незаметно для окружающих – то есть его не нужно было даже как-то скрывать. Максимум, что окружающие могут отметить, что я не в настроении. Также его течение было скорее приступообразным, то есть: ничего – ничего – потом как скрючит эмоционально на минуту или несколько минут – потом опять ничего – ничего. Но «ничего» после приступа уже не просто «ничего», а «ничего с осадком, со шлейфом этого состояния». И этот шлейф может тянуться и несколько суток. И сейчас вспоминая эти состояния, мне хотелось написать, что я довольно быстро восстанавливался и мог легко функционировать после приступов. Но осознаю, что это не так. Я будто был как собака, у которой злобный хозяин, который её колотит. Он её поколотит, она взвизгнет, отбежит, «проглотит» всё это, и через минуту снова к нему подходит, хвостом виляет, ластится, а главное доверяет, и хочет с ним дружить. Так вот «собака» тут – я, а «злобный хозяин» – жизнь в целом, а в частности работа моей психики. И это состояние красной нитью проходило сквозь всю жизни, включая ситуации, перечисленные выше. Но в тех ситуациях хотя бы можно было отследить внешнюю причину (фактор) вызвавшую такую эмоциональную реакцию, тогда как в других случаях это сделать было невозможно – состояние приходило и уходило как внезапный и невидимый порыв ветра – как подул, так и исчез. Но, а я всё же старался понять откуда оно возникает, какой внешний фактор его запускает, и отсутствие ответа списывал на свою недостаточную внимательность, точнее внимательность у меня была выкручена до предела, просто мне не доставало понимания за чем именно следить, что фиксировать. Ведь сложно отыскать то, что не пойми, что.











