Читать онлайн Лекции по этике
- Автор: Иммануил Кант
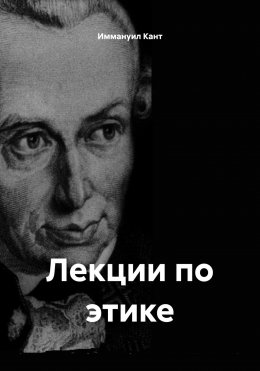
Лекции Канта по этике: необходимость полного перевода на русский язык.
Лекции Иммануила Канта по этике (Vorlesungen über Ethik), сохранившиеся в студенческих конспектах 1770–1790-х годов, представляют собой уникальный материал, раскрывающий эволюцию его моральной философии. Хотя в России существует сборник под редакцией А. А. Гусейнова ("Лекции по этике", изд. "Республика", 2000/2005), он включает лишь избранные фрагменты, преимущественно из конспекта Collins, опуская значительные пласты лекционного наследия. В то же время в академических кругах обсуждается возможность полного перевода всех сохранившихся лекций, включая Moral Mrongovius, Moral Kaehler и другие записи. Такой проект был бы крайне важен по нескольким причинам.
Во-первых, существующий русскоязычный сборник даёт лишь частичное представление о лекционной этике Канта. Например, в него не вошли важные разделы о конкретных добродетелях (таких как дружба, честность, супружеские обязанности), которые подробно разбираются в конспектах Mrongovius и Kaehler. Также опущены детальные критические анализы античных учений (стоиков, эпикурейцев, Аристотеля), присутствующие в полных версиях лекций. Это создаёт искажённое впечатление о том, как Кант преподавал этику: в его курсах было гораздо больше прикладных примеров и полемики, чем можно предположить по сокращённому переводу.
Во-вторых, полный перевод позволил бы русскоязычным исследователям и студентам увидеть связь между лекциями и опубликованными работами Канта. Например, в Mrongovius содержится более развёрнутое обсуждение лжи (включая знаменитый вопрос о том, допустимо ли лгать из милосердия), чем в известном эссе "О мнимом праве лгать из человеколюбия". Аналогично, лекции о религии и морали помогают понять, как Кант переосмыслял теологические идеи в рамках своей философской системы. Без доступа к этим текстам российские учёные вынуждены опираться на вторичные источники или английские переводы, что затрудняет самостоятельный анализ.
В-третьих, полное издание лекций по этике заполнило бы существенный пробел в истории философии. Кант не просто повторял в лекциях то, что писал в книгах, – он экспериментировал с формулировками, отвечал на вопросы студентов, разбирал случаи, которые не вошли в канонические тексты. Например, в непереведённых фрагментах обсуждается, как применять категорический императив к вопросам воспитания или брака. Эти материалы показывают, что кантовская этика – не застывшая догма, а живая традиция, развивавшаяся в диалоге с аудиторией.
Наконец, полный перевод способствовал бы развитию русскоязычной кантоведческой школы. Сейчас многие специалисты вынуждены работать с немецкими оригиналами или английскими версиями (например, Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant), что ограничивает доступ к материалу для студентов и исследователей, не владеющих этими языками. Между тем лекции Канта – это не только исторический памятник, но и актуальный ресурс для современных дискуссий о морали, свободе и ответственности. Их публикация на русском позволила бы включить российскую философскую традицию в глобальное обсуждение кантовского наследия наравне с западными университетами.
Таким образом, издание полного перевода лекций Канта по этике – не просто академический жест, а насущная необходимость. Оно восполнило бы пробелы в существующих переводах, раскрыло новые грани мысли Канта и дало бы импульс для дальнейших исследований. Без этого русскоязычное кантоведение остаётся зависимым от выборочных интерпретаций, тогда как полный корпус текстов позволил бы самостоятельно оценить развитие идей философа от лекций к опубликованным трудам.
Всеобщая практическая философия.
Вся философия является либо теоретической, либо практической. Теоретическая философия – это правило познания, практическая философия – правило поведения в том, что касается свободной воли. Теоретическая и практическая философия различаются по своему объекту. Теоретическая философия имеет своим объектом теорию, а практическая – практику. В целом философия делится на спекулятивную философию и практическую философию. Говорят вообще о теоретических и практических знаниях, какими бы ни были их объекты. Знания являются теоретическими, когда они составляют основу понятий об объектах, тогда как они практические, когда составляют основу применения знаний об объектах. Так, например, существует теоретическая геометрия и практическая геометрия, теоретическая механика и практическая механика, теоретическая медицина и практическая медицина, теоретическая юриспруденция и практическая юриспруденция, хотя объект в обоих случаях один и тот же.
Следовательно, если знания являются теоретическими и практическими независимо от объекта, то такое различие касается только формы знания: теоретическая форма относится к оценке объекта, а практическая – к его созданию. Но здесь кроется разница между теоретическим и практическим в отношении объекта. Практическая философия является таковой не по форме, а по практическому объекту, и этим объектом являются свободные действия и поведение. Теоретическое – это знание, а практическое – поведение. Если абстрагироваться от объекта, то философия поведения – это та, которая дает правило хорошего использования свободы, и это использование представляет собой объект практической философии без учета объектов.2
Таким образом, практическая философия рассматривает использование свободной воли не в отношении объектов, а независимо от какого-либо объекта.3 Логика дает нам правила относительно использования рассудка, а практическая философия – относительно использования воли; рассудок и воля – это две силы, из которых все возникает в нашем духе. Если же мы назовем высшими способностями способности движения и действия, то первой будет высшая познавательная способность, или рассудок, а второй – высшая способность желания, или свободная воля. И у нас есть соответствующие дисциплины для этих двух способностей: логика для рассудка и практическая философия для воли. Низшие способности не могут быть обучены, потому что они слепы.
Здесь мы рассматриваем существо, обладающее свободной волей, которым может быть не только человек, но и любое разумное существо. Мы излагаем здесь правило использования свободы, и это составляет практическую философию в целом. Таким образом, практическая философия содержит объективные правила свободного поведения. Подобное объективное правило указывает, что должно произойти, даже если этого никогда не случалось.5 Субъективное правило указывает, что происходит на самом деле, ведь даже для пороков существуют правила, согласно которым действуют.
Антропология занимается субъективными практическими правилами, наблюдая только за фактическим поведением людей; моральная философия пытается регулировать их хорошее поведение, то есть то, что должно происходить. Практическая философия содержит правила хорошего использования воли, так же как логика содержит правила правильного использования рассудка. Наука о правиле, как человек должен вести себя, составляет практическую философию, а наука о правиле фактического поведения – антропологию.
Обе науки тесно связаны, поскольку мораль не может существовать без антропологии, ведь прежде всего нужно знать, способен ли субъект достичь того, что от него требуется, что он должен делать.4 Хотя можно рассматривать практическую философию и без антропологии, то есть без знания субъекта, в таком случае она будет лишь спекулятивной или идеей, так что человека в любом случае придется изучать позже. Всегда говорится о том, что должно произойти, но никто не задумывается, возможно ли это, поэтому известные предостережения, которые являются тавтологическими противоречиями правила, будут происходить фатально, повторяя лишь то, что уже известно, а проповеди с кафедры о таких наставлениях окажутся тщетными, если проповедник не учитывает человеческую природу (и в этом Шпалдинг превосходит всех остальных).
Следовательно, нужно знать человека, чтобы понять, способен ли он сделать то, что от него требуется. Рассмотрение правила бесполезно, если нельзя заставить людей охотно следовать ему, поэтому, как мы сказали, эти две дисциплины сильно зависят друг от друга. То же самое происходит с теоретической физикой, которая тесно связана с экспериментами, ведь и с человеком можно проводить эксперименты. Например, можно проверить, верен ли слуга. Действительно, при экзамене на проповедника следует учитывать не только его знание догматов, но и его характер и сердце.
Таким образом, практическая философия является таковой не по форме, а по своему объекту. Это учение о действии. Подобно тому как логика – это наука о разуме, объектом практического должна быть практика. Следовательно, это наука об объективных законах свободной воли, философия объективной необходимости свободных действий или воли, то есть исключительно всякого возможного хорошего действия, подобно тому как антропология – наука о субъективных законах свободной воли.
Практические правила, указывающие, что должно произойти, бывают трех видов: правила умения, правила рассудительности и правила моральности. Объективное практическое правило выражается через императив, в отличие от субъективного практического правила. Например, старики обычно говорят, что то или иное так, но не должно быть так, однако в старости не следует экономить больше, чем в молодости, потому что в старости уже не нужно столько, так как впереди не так много жизни, как в молодости.
Таким образом, существует три вида императивов: императив умения, императив рассудительности и императив моральности. Каждый из этих трех императивов выражает долженствование, следовательно, субъективную необходимость и, конечно, необходимость свободной и хорошей воли, потому что это соответствует императиву и требуется объективно. Все императивы содержат объективную необходимость, конечно, при условии хорошей свободной воли.
Императивы умения проблематичны, императивы рассудительности прагматичны, а императивы моральности моральны. Проблематические императивы указывают, что при подобном правиле обозначается необходимость воли относительно произвольной цели. Средства утверждаются ассерторически, а цели проблематичны. Например, практическая геометрия использует такие императивы, поскольку при построении треугольника, квадрата или шестиугольника необходимо действовать согласно определенным правилам. Таким образом, это произвольная цель, достигнутая благодаря предписанным средствам.
Таким образом, все практические науки в целом, такие как геометрия, механика и т. д., содержат императивы умения. Они чрезвычайно полезны и, кроме того, должны предшествовать остальным императивам, потому что сначала нужно установить цели, которые хотят достичь, и располагать средствами для их достижения, прежде чем можно будет реализовать поставленные цели. Императивы умения предписывают только гипотетически, поскольку необходимость использования средства всегда обусловлена.
Практическая философия не содержит правил умения, а только правила рассудительности и моральности. Таким образом, это прагматическая и моральная философия: прагматическая в отношении правил рассудительности и моральная в отношении правил моральности.
Благоразумие – это искусство в использовании средств относительно всеобщей цели людей, то есть счастья, поэтому здесь цель уже определена, чего не было в случае умения. От правила благоразумия потребуется две вещи: определить саму цель, а затем – использование подходящих средств для её достижения. Таким образом, это правило суждения о том, что есть счастье, и правило использования средств для его достижения. Следовательно, благоразумие – это искусство определять как цель, так и средства её достижения. Определение счастья – первое в сфере благоразумия, ведь до сих пор существует большой спор о том, состоит ли счастье в обладании вещами (erhalten) или в приобретении престижа (erwehen).
Ибо кто кажется более счастливым? Тот, у кого нет средств, но который и не нуждается ни в чём, что мог бы получить с их помощью, или тот, кто уже имеет много ресурсов, но нуждается в ещё больших? Несомненно, определение цели счастья, выяснение его сущности – это первый вопрос в сфере благоразумия, а вопрос о средствах его достижения – второй.
Императивы благоразумия предписывают не под проблематичным условием, а под ассерторическим, всеобщим и необходимым, присущим каждому человеку. Наиболее точная формулировка – не «если ты хочешь быть счастливым, ты должен делать то-то и то-то», а «поскольку каждый хочет быть счастливым (что предполагается у всех и каждого), он должен соблюдать то или иное». Мы имеем дело с субъективно необходимым условием. Нельзя сказать: «ты должен быть счастлив», так как это было бы объективно необходимым условием, а «поскольку ты хочешь быть счастлив, ты должен сделать то или иное».
Но мы можем представить себе императив, в котором цель устанавливается в соответствии с условием, предписывающим не субъективно, а объективно – и это моральные императивы, например: «не лги». Это не проблематичный императив, иначе он звучал бы так: «если тебе это не вредит, не лги». Следовательно, этот императив безусловен или подчинён объективно необходимому условию. В моральном императиве цель сама по себе не определена, и действие также не определяется согласно цели, а направлено исключительно на свободную волю, независимо от цели. Таким образом, моральный императив предписывает абсолютно, не учитывая целей.
Наше свободное действие или бездействие обладает собственной добродетелью, придавая человеку внутреннюю ценность, абсолютно непосредственную – ценность моральности. Например, тот, кто держит слово, всегда обладает внутренней ценностью – ценностью свободной воли, какой бы ни была цель. Однако прагматическая добродетель не придаёт человеку никакой внутренней ценности.
МОРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АНТИЧНОСТИ
В основе всех моральных систем античности лежит вопрос о summum bonum. В зависимости от того, как понимается это понятие и как отвечают на этот вопрос, различаются системы древних. Эту summum bonum я называю идеалом, maximum того, что можно мыслить, относительно чего всё определяется и формируется. С любой точки зрения сначала должно быть представлено образцовое, идея, архетип всех наших понятий о благе.
В чём состоит высшее благо? Самый совершенный мир – это установленное высшее благо. Но к самому совершенному миру относится как счастье разумных существ, так и достоинство этих существ быть счастливыми. Древние правильно видели, что одно лишь счастье не может быть единственным высшим благом, ведь если бы человек стремился к счастью, не различая справедливого и несправедливого, то он, несомненно, обрёл бы счастье, но не достоинство его, а высшее благо – это соединение обоих. Человек может стремиться к счастью лишь постольку, поскольку делает себя достойным его, ибо это условие счастья, которое разум требует от себя.
Позже мы рассмотрим, что счастье состоит в добродетели свободной воли, в чувстве пользования всем, что природа так щедро ему дарует. Тот, кто богат и имеет все сокровища, разве спрашивает себя, как использовать эти богатства? Таким образом, характер и совершенство свободной воли, содержащей основание достоинства счастья, предполагают моральное совершенство. Физическое благо или благополучие (к которому относятся здоровье, богатство и т. д.) не составляют высшего блага.
Представим, что мир был бы полон разумных существ, которые всегда поступали бы правильно и потому были бы достойны счастья, но при этом находились бы в нужде, окружённые скорбью и лишениями, не обладая никаким счастьем – тогда высшее благо не осуществилось бы. И представим обратное: все существа были бы окружены счастьем, но без какого-либо доброго поведения, без достоинства – и в этом случае высшего блага тоже не было бы.
В античности существовало три школы идеала высшего блага:
1. Кинический идеал – школа Диогена.
2. Эпикурейский идеал – школа Эпикура.
3. Стоический идеал – школа Зенона.
Кинический идеал – это идеал невинности или, точнее, простоты. Диоген утверждал, что высшее благо состоит в простоте, в умеренности наслаждения счастьем. Эпикурейский идеал был идеалом благоразумия. Эпикур считал, что высшее благо заключается только в счастье, а доброе поведение – лишь средство для его достижения. Стоический идеал был идеалом мудрости, полной противоположностью предыдущего. Зенон утверждал, что высшее благо состоит исключительно в моральности, только в достоинстве, то есть в добром поведении, а счастье было бы следствием моральности. Тот, кто ведёт себя хорошо, уже счастлив просто от этого.
Киническая школа считала, что высшее благо – дело природы, а не искусства. У Диогена средства достижения счастья были отрицательными. Он утверждал, что человек по природе довольствуется малым, ибо, не имея от природы никаких потребностей, он не испытывает и недостатка в средствах и наслаждается счастьем даже при их отсутствии. Диоген полагал, что накопление ресурсов и даров природы увеличивает наши потребности, ведь чем больше у нас средств, тем больше возникает нужд, и суждение человека склоняется ко всё большему удовольствию, что создаёт беспокойное состояние духа.
Руссо, утончённый современный Диоген, также утверждает, что наша воля по природе добра (она обеспечивает нас всем необходимым), а портимся мы, создавая искусственные потребности; он также считает, что воспитание детей должно быть чисто отрицательным. Юм придерживается противоположного мнения, полагая, что это вопрос искусства, а не природы.
Диоген говорил: «Вы можете быть счастливы без богатства, вы можете быть нравственны без добродетели». Его философия была кратчайшим путём к счастью. Благодаря умеренности живут счастливо, ведь можно обойтись без всего. Его философия была и кратчайшим путём к моральности, ведь если у человека нет нужд, то нет и желаний, и его действия совпадали бы с моралью, так что такому человеку ничего не стоило бы быть честным, и, следовательно, добродетель была бы в нём лишь идеей. Таким образом, простодушие – кратчайший путь к моральности.
Эпикурейская школа считала, что высшее благо – дело искусства, а не природы, как утверждали киники. В этом было различие между двумя школами, и здесь эпикурейцы были прямыми противниками киников. Эпикур полагал, что хотя мы от природы не имеем пороков, мы склонны к ним, поэтому ни невинность, ни простодушие не гарантированы, и необходимо обращаться к искусству. В этом Зенон сходился с Эпикуром, который также считал это делом искусства.
Например, если невинная крестьянка свободна от порочных привычек, это главным образом потому, что у неё нет возможности развратиться, а если крестьянин довольствуется плохой пищей, то не потому, что она ему безразлична, а потому, что у него нет лучшей; если бы ему представилась возможность улучшить свой рацион, он бы её желал. Следовательно, простодушие – лишь отрицательное. И Эпикур, и Зенон придерживались этой позиции, хотя у каждого она выглядела по-разному.
Два элемента высшего блага: благо физическое и благо моральное, благополучие и добродетель. Поскольку всякая философия стремится к единству в познании и к минимизации принципов, предпринимались попытки доказать, можно ли свести эти два принципа к одному. С этой целью один термин называют «целью», а другой – «средством». Так, согласно Эпикуру, счастье было целью, а достоинство – лишь средством, поэтому счастье становилось следствием нравственности. Зенон также пытался объединить оба принципа, считая, что нравственность – это цель, тогда как достоинство и добродетель сами по себе составляют высшее благо, а счастье – лишь следствие нравственности.
Идеал Диогена – естественный человек. Прототип Эпикура – человек светский. Модель или archetypon Зенона – мудрец, который испытывает счастье внутри себя, наслаждаясь всем, кто имеет в себе источник безмятежности и честности, будучи царём, управляющим собой и не подверженным принуждению к тому, что он сам себе предписывает. Такой мудрец предпочтительнее богов именно тем, что им не свойственно, ибо божество не должно преодолевать никаких искушений или препятствий, тогда как подобный мудрец достигает совершенства благодаря усилиям по их преодолению.
Можно представить и мистический идеал, согласно которому высшее благо заключается в созерцании высшего существа внутри сообщества. Это платоновский идеал – идеал фантастический. Идеал Христа – идеал святости, образцом которой является сам Христос. Христос – тоже лишь идеал, прототип морального совершенства, святой по божественной благодати. Но это не должно касаться людей, призывающих Христа, ибо они лишь стремятся к этому идеалу, приближаясь к нему насколько возможно.
И Эпикур, и Зенон ошибались. Первый не хотел признавать за достоинством ни мотива, ни ценности (счастье – мотив, а достоинство – добродетель). Второй приписывал добродетели внутреннюю ценность и помещал в ней высшее благо, лишая её мотивов. Высшее благо Эпикура – счастье или, как он его называл, удовольствие, то есть внутреннее удовлетворение и радостное сердце. Учитывая упрёки в его адрес, ясно, что это не философия наслаждения, и его учение было сильно искажено. Сохранилось его письмо, где он наставляет одного человека, ставя скромные цели – иметь радостное сердце и поленту, то есть простую пищу. Такое удовольствие было удовольствием мудреца. Хотя он лишает добродетель её ценности, превращая нравственность в средство для счастья.
Зенон поступил наоборот, возведя счастье в ценность и не предоставив добродетели никакого мотива. (Мотивы – все побуждения нашей воли, исходящие из чувств.) Осознание достоинства счастья не утоляет человеческое желание, и если человек не удовлетворяет своё желание, он несчастлив, даже если чувствует себя достойным. Добродетель нравится больше всего, но не удовлетворяет полностью, пока все добродетельные не станут счастливы. Желания добродетельного сильнее в стремлении к добродетели, чем к счастью. Чем добродетельнее и менее счастлив человек, тем болезненнее для него отсутствие счастья, если он его достоин, тем больше он доволен своим поведением, но не своим состоянием.
Эпикур обещал человеку довольство собой, если тот сначала достигнет счастливого состояния. Зенон обещал человеку удовлетворённость своим состоянием, если тот сначала достигнет довольства собой.
Человек может быть доволен или недоволен собой прагматически или морально. Это сильно варьируется. Часто человек думает, что испытывает угрызения совести, хотя лишь боится судьи проницательности. Если в обществе кого-то обижают, дома следуют упрёки от судьи проницательности, в котором видят врага, ибо упрёки проницательности – те, что причиняют вред; известно, что другой не заметил и доволен, значит, это упрёк проницательности, выдаваемый за моральный.
Эпикур говорит: «Веди себя так, чтобы не ожидать упрёков ни от себя, ни от других; будь счастлив так». Идеал святости – согласно упомянутой философии – самый совершенный, ибо это идеал чистейшего морального совершенства; но поскольку он недостижим для людей, он основывается на вере в божественную помощь. В этом идеале не только достоинство счастья имеет величайшее моральное совершенство, но и величайший мотив – счастье, хоть и не в этом мире.
Таким образом, идеал Евангелия содержит чистоту нравов и величайший мотив – счастье или блаженство. Древние не ставили цель морального совершенства, а рассматривали его как нечто, исходящее из природы человека, которая весьма несовершенна, как и моральные законы. Их системы морали не были чистыми, приспосабливая добродетель к человеческой слабости, оставаясь неполными. Но в этом идеале всё совершенно, в нём – величайшая чистота и счастье.
Принципы морали исполняются во всей их святости и резюмируются так: «Ты должен быть свят, ибо человек несовершенен», и этот идеал имеет дополнение – божественную помощь.
О принципе морали.
Исследовав идеал высшего морального совершенства, рассмотрим, в чём состоит принцип морали. До сих пор мы лишь говорили, что он заключается в доброте свободной воли, но теперь нужно проанализировать его точнее. Всегда трудно установить первый принцип любой науки, особенно когда в ней уже достигнут прогресс. Например, сложно определить первый принцип права или механики. Здесь нам нужен моральный критерий, позволяющий единодушно судить о том, что хорошо или нет, предоставляя принцип, из которого вытекает основание для нашей воли.
Нахождение этого принципа зависит от того, где мы поместим моральность и как отличим моральное от аморального. У человека с талантом и умением спросим: каков его характер? Есть ли у него, помимо хороших качеств, моральная доброта? Каков высший принцип морали, по которому мы судим обо всём и который отличает моральную доброту от прочих «доброт»?
Прежде чем ответить, рассмотрим исторические моменты, когда принцип определялся по-разному. Учение морали (не система, а концепция, на основе которой строится система) основывается на эмпирических или интеллектуальных основаниях, из которых выводятся соответствующие принципы. Эмпирические основания – те, что происходят из чувств, поскольку они им приятны. Интеллектуальные – те, где мораль выводится из соответствия действия законам разума.
Таким образом, systema morale est vel empiricum vel intellectuale. Если моральная система опирается на эмпирические основания, то они бывают внутренними или внешними – в зависимости от объектов внутреннего или внешнего чувства. Внутренние основания морали составляют первую часть эмпирической системы, внешние – вторую. Если мораль выводится из внутренних эмпирических оснований, говорят о чувстве, которое может быть физическим или моральным. Физическое чувство коренится в определённом эгоизме. Это требование действия при условии, но условии, необходимом и универсальном, – bonitas pragmatica.
2. Проблематический императив гласит: нечто хорошо как средство для желаемой цели – bonitas problematica.
3. Моральный императив выражает доброту действия в себе и для себя; следовательно, моральное требование категорично, а не гипотетично. Моральная необходимость заключается в абсолютной доброте свободных действий – bonitas moralis.
Из этих трёх императивов следует:
Всякое моральное требование – это обязательство (Obligation), тогда как необходимость действия, вызванная правилом проницательности или прагматическим требованием, обязательством не является. Обязательство (Verbindlichkeit) – это практическое и именно моральное обязательство. Всякое обязательство возникает либо из долга, либо из принуждения.
Всякое обязательство – не только необходимость действия, но и принуждение (Nothigung), необходимое исполнение действия; следовательно, obligatio necessitatio, а не necessitas. Божественная воля необходима в моральном отношении, но человеческая воля не необходима, а навязана. Таким образом, практическая необходимость не предполагает обязательства для Высшего существа; оно действует морально необходимо, но не обязано.
Почему нельзя сказать: «Бог обречён быть святым»? Моральная необходимость объективна, но если она одновременно субъективна, то не содержит требования. Моральная необходимость – это объективно необходимое исполнение, а когда субъективная необходимость случайна – обязательство.
Всякий императив выражает объективно необходимое исполнение действий, которые, однако, субъективно случайны; например: «Ты должен есть, если голоден и есть что поесть» – это субъективное и одновременно объективное принуждение, поэтому не содержит требования или обязательства.
Таким образом, для совершенной воли, для которой моральная необходимость не только объективна, но и субъективна, нет ни требования, ни обязательства. Но для несовершенного существа, для которого моральное благо объективно необходимо, есть и требование, и принуждение, а значит, и обязательство.
Следовательно, моральные действия должны быть лишь случайными, если они исполняются морально несовершенной волей, требующей принуждения, и потому подпадают под обязательство; таков случай людей.
Всякое обязательство – это necessitatio practica, а не pathologica, объективное, а не субъективное принуждение. Патологическое требование – то, где мотивы исходят из чувств и ощущения приятного и неприятного. Тот, кто действует, потому что это хорошо само по себе, руководствуется мотивами и побуждается практически.
Таким образом, causae impulsivae, поскольку они извлекаются из блага, исходят из разума, и тот, кто побуждается ими, определяется per motiva, тогда как causae impulsivae, извлечённые из удовольствия, исходят из чувств, и побуждаемый ими определяется per stimulos.
Следовательно, всякое обязательство – не прагматическое или патологическое требование, а моральное. Мотивы извлекаются либо из прагматических, либо из моральных оснований внутренней доброты.
Всякое прагматическое основание всегда обусловлено, поскольку действия являются средствами для достижения счастья. Следовательно, здесь нет никакого основания для действия самого по себе, а лишь постольку, поскольку оно служит средством. Таким образом, все imperativi pragmatici обусловлены гипотетически (hypothetice necessitant) и не абсолютно. Однако imperativi morales обязывают абсолютно (necessitant absolute) и выражают абсолютную благость (bonitas absoluta), точно так же как прагматические императивы выражают условную благость (bonitas hypothetica).
Согласно принципам благоразумия, правдивость может быть опосредованно хорошей (например, в торговле, где она так же ценна, как наличные деньги), но, рассматриваемая абсолютно, правдивость хороша сама по себе и во всех отношениях, тогда как ложь всегда вредна. Следовательно, моральная необходимость абсолютна, и motivum morale выражает абсолютную благость (bonitas absoluta).
Как возможно, чтобы действие обладало абсолютной благостью (bonitas absoluta), объяснить нельзя. Однако уже сейчас можно уловить следующее: подчинение нашей воли правилам, имеющим всеобщую значимость, предполагает внутреннюю доброту и совершенство свободной воли (liberum arbitrium), поскольку таким образом она согласуется со всеми целями.
Обратимся на мгновение к казуистике: правдивость согласуется со всеми моими правилами, поскольку одна истина соответствует истине других и гармонирует с любыми чужими целями и волей, так что каждый может к этому приспособиться. Однако ложь противоречива, так как не согласуется ни с моими целями, ни с целями других, и потому никто не может к ней приспособиться.
Моральная доброта, таким образом, есть управление нашей волей посредством правил, благодаря которым все действия моего свободного выбора (liberum arbitrium) приобретают всеобщую значимость. И такое правило, которое является принципом возможности согласованности всякой свободной воли, есть моральное правило.
Всякое свободное действие не определяется ни природой, ни каким-либо законом, и свобода есть нечто ужасающее, поскольку действия вообще не детерминированы. Однако правило необходимо в отношении наших свободных действий, поскольку благодаря ему все действия становятся согласованными, и в этом состоит моральное правило.
Согласовывать свои действия согласно прагматическому правилу – значит согласовывать их согласно моей воле, но не согласно воле другого – а порой даже не согласно моей собственной, – поскольку такие правила выводятся из благополучия, а благополучие не может быть исследовано a priori. Отсюда следует, что благоразумие не может дать никакого a priori правила, а только a posteriori. Поэтому оно не может служить правилом для всех действий; в таком случае правило должно быть a priori.
Следовательно, прагматические правила не согласуются ни с чужой волей, ни даже с моей собственной. Поэтому правила должны быть чем-то, благодаря чему мои действия имеют всеобщую значимость, и они выводятся из всеобщих целей человека, в соответствии с которыми наши действия должны согласовываться, – и это есть моральные правила.
Нравственность действий есть нечто совершенно особенное, отличающееся от прагматического и патологического, поэтому мораль должна быть представлена как нечто утончённое, чистое и специфическое. Хотя для моральной доброты также принимаются прагматические и даже патологические побудительные причины (causae impulsivae), когда моральные мотивы ничем не помогают, единственный вопрос, касающийся доброты действий, интересуется не движущей силой доброты, а тем, в чём состоит доброта самих действий.
Motivum morale должно рассматриваться совершенно чистым в себе и для себя, чётко отличным от мотивов благоразумия и чувственности. В нашей душе мы от природы достаточно хорошо подготовлены к тому, чтобы отличать моральную доброту, столь же точную, сколь и утончённую, от проблематичной и прагматической доброты, так что действие столь же чисто, как если бы оно исходило с небес.
И чистый моральный фундамент обладает большей побудительной силой, когда он смешан с патологическими и прагматическими мотивами, поскольку такие мотивы оказывают более сильное принуждение на чувственность; однако разум не признаёт всеобщей значимости принудительных сил.
Моральность производит дурное впечатление, не радует и не доставляет удовольствия, но она имеет отношение ко всеобщему благополучию и даже должна быть угодна Высшему Существу, и это есть высшее основание мотивации.
Подобно тому как для благоразумия требуется хороший ум, для моральности необходима добрая воля. Наше свободное поведение состоит исключительно в доброй воле. В сфере благоразумия поведение зависит не от цели (поскольку в этой области все имеют одну и ту же цель – счастье), а от ума, поскольку он исследует цель и средства её достижения, и один может быть более проницательным, чем другой.
Таким образом, в отношении благоразумия требуется хороший ум, а в отношении моральности – добрая воля. В сфере благоразумия воля (например, «стать богатым») хороша по отношению к цели, но не сама по себе. Однако что такое воля, абсолютно хорошая сама по себе, то, от чего зависит моральная доброта, должно быть объяснено точно.
Моральный мотив не только должен быть отличен от прагматического, но и не может даже противопоставляться ему. Чтобы лучше понять это, следует учесть следующее:
Моральные мотивы бывают либо obligandi, либо obligantia. Motiva obligandi – это основания для обязывания кого-либо; но когда эти основания достаточны, тогда они становятся obligantia, то есть обязывающими основаниями. Motiva moralia non sufficientia non obligant, sed motiva sufficientia obligant.
Таким образом, существуют моральные правила обязательства, которые, однако, не связывают (например, «помогать нуждающемуся»). Но есть и моральные правила, которые обязывают без исключения, являясь не просто обязательными, но и связующими, и делают моё действие необходимым (например, «не лги»).
Если и прагматические, и моральные мотивы обязывают, значит ли это, что они однородны? Они настолько неоднородны, что сравнение напоминает попытку заменить деньги честностью, которой не хватает, или случай, когда некрасивый человек пытается стать красивым благодаря своему богатству. Точно так же прагматические мотивы не могут заменить моральные или приравняться к ним.
Но можно сравнить интенсивность необходимости. Кажется, что, по мнению разума, полезность предпочтительнее добродетели. Однако моральное совершенство и полезность несопоставимы – это как сравнивать милю с годом, поскольку между этими двумя столь разными плоскостями лежит огромная разница.
Но как тогда возможно, что мы их путаем? Например, один несчастный говорит другому: «Ты можешь помочь несчастному, но так, чтобы это не причинило тебе вреда». Если в этом случае судит разум, то нет разницы между моральным и прагматическим мотивом, а между моральным и прагматическим действием, поскольку от меня требуется учитывать не только благоразумие в свою пользу, но и моральность.
Я могу использовать лишь избыток своих ресурсов для облегчения чужого несчастья, ибо если человек раздаёт свои средства, он сам впадает в нужду и вынужден просить милостыню для себя, оказываясь тем самым вне морального состояния.
Следовательно, моральный мотив нельзя противопоставлять прагматическому, поскольку это разнородные вещи.
«De obligatione activa et passiva»
Obligatio activa – это obligatio obligantis, а obligatio passiva – obligatio obligati; это различие имеет огромное значение. Обязательность благородных действий есть obligatio activa; я связан с действием, которое, однако, является заслугой.
Те обязанности, которыми мы можем обязывать других, становятся заслугами, когда мы их исполняем. Мы обязаны действовать по отношению к кому-то, но не связаны с ним. Obligati sumus ad actionem ita ut et illi non obligati sumus. Мы обязаны к действию, но не по отношению к тому, кто его принимает.
Я обязан помочь несчастному, следовательно, к действию, но не к конкретному лицу – это obligatio activa. Однако если я должен кому-то, то я обязан не только уплатой, но и кредитору, и это obligatio passiva.
Тем не менее, может показаться, что всякая обязанность пассивна, ведь если я обязан, то я и принуждён. Но в случае obligatio activa речь идёт о велении разума; я побуждаем собственным размышлением и, следовательно, это не то, что просто претерпевается.
Obligatio passiva должна возникать ради кого-то другого, но когда человек побуждается разумом, тогда он господин самому себе. Таким образом, это различение в области обязательств оказывается весьма точным.
Obligatio passiva est obligatio obligati erga obligantem. Obligatio activa est obligatio erga non obligantem (иначе: Obligatio activa est obligatio obligantis erga obligatum).
Баумгартен утверждает, что обязательства могут быть большими и меньшими; между ними не может быть конфликта, поскольку в сфере морально необходимого никакое другое обязательство не может сделать необходимым противоположное.
Например, обязательство выплатить долг кредитору и обязательство быть благодарным отцу. Если первое называется обязательством, то второе – нет; перед отцом я обязан условно, а перед кредитором – категорически. Следовательно, первое есть обязательство, а второе – нет.
Многие обязательства возникают, растут и прекращаются. Когда рождаются дети, возникает обязательство, и по мере их роста обязательства увеличиваются; когда ребёнок становится взрослым, обязательство, которое он должен был исполнять как ребёнок, прекращается.
Конечно, он всё ещё обязан перед родителями, но уже не как в детстве, а перед их добрыми делами. Чем больше работает работник, тем больше растёт его обязательство; когда ему платят, обязательство прекращается.
Некоторые обязательства никогда не могут прекратиться, например, перед благодетелем, который первым оказал мне большую помощь; даже если я отплатил ему, он остаётся первым, кто мне помог, и я буду обязан ему всегда.
Тем не менее, обязательство прекращается в одном случае – когда благодетель поступает со мной дурно, что случается очень редко, если человек благодарен своему благодетелю.
Акт, которым возникает обязательство, называется actus obligatorius. Всякий договор есть actus obligatorius. Посредством actus obligatorius может возникнуть обязательство как по отношению к себе, так и к другому.
Например, рождение детей есть actus obligatorius, посредством которого родители налагают на себя обязательство перед детьми. Однако в отношении того, обязывает ли рождение детей детей перед родителями, я полагаю, что нет, поскольку существование не есть обязательство.
Само по себе существование не содержит в себе счастья, хотя для того, чтобы быть несчастным, нужно существовать; напротив, родители обязаны содержать детей.
Там, где действия вообще не свободны, где нет личности, не может быть и обязательности. Например, человек не обязан подавлять икоту, поскольку это не в его власти. Следовательно, для обязательства предполагается использование свободы.
Обязательство делится на positiva и naturalis. Obligatio positiva возникает посредством позитивного и произвольного установления, тогда как obligatio naturalis имеет своё происхождение в самой природе действий.
Всякий закон является либо естественным, либо произвольным. Когда обязательство возникает e lege naturali и имеет своим основанием действие как таковое, это obligatio naturalis; но когда оно происходит e lege arbitraria и имеет основанием волю другого, тогда это obligatio positiva.
Крузий полагает, что всякое обязательство покоится на воле другого. По его мнению, всякое обязательство было бы наложением per arbitrium alterius.
Конечно, он ошибочно думает, что, будучи побуждаем per arbitrium alterius, я побуждаем лишь per arbitrium internum, а не per arbitrium externum, и, следовательно, в силу необходимого условия воли вообще, благодаря чему возникает и всеобщее обязательство.
Obligatio positiva касается действия не непосредственно, а опосредованно, поскольку мы обязаны к действию, которое само по себе безразлично. Таким образом, всякая obligatio positiva косвенна, а не пряма.
Например, если я не должен лгать потому, что Бог это запретил, это означает, что Бог запретил ложь, потому что она Ему неугодна, и, следовательно, Он мог бы и не запрещать её, если бы пожелал.
Однако obligatio naturalis пряма: я не должен лгать не потому, что Бог запретил, а потому, что это зло само по себе.
Моральность состоит в том, что действие совершается ради внутренней природы самого действия; следовательно, не действие составляет моральность, а расположение духа, которое оно в себе заключает.
Делать что-то потому, что это запрещено или полезно, воздерживаться от чего-то потому, что это запрещено или вредно, – не содержит в себе никакого расположения духа.
Делать что-то потому, что это абсолютно хорошо само по себе, – вот моральный настрой.
Таким образом, действие должно совершаться не потому, что Бог его хочет, а потому, что оно справедливо или хорошо само по себе, и только потому, что оно таково, Бог хочет его и требует от нас.
La obligatio может быть affirmativa и negativa, и negativa не является противоположностью positiva, а affirmativa. Первая обязывает нас ad committendum, а вторая – ad omittendum. Последствия действия, будь они хорошими или плохими, могут быть naturalia и arbitraria, а также physica и moralia; например, следствие характера действия является consectaria physica. Баумгартен рассматривает consectaria как naturalia и arbitraria. Naturalia таковы, что проистекают из самого действия; arbitraria исходят из произвола другого существа, например, наказания. Действия бывают либо непосредственно хорошими или плохими сами по себе, либо косвенно или случайно хорошими или плохими. Таким образом, доброта действия является vel interna vel externa.
Моральное совершенство бывает vel subjectiva vel objectiva. Объективное совершенство заключено в самом действии; субъективная доброта основывается на соответствии действия произволу другого. Таким образом, moralitas objectiva заложена в самом действии. Высший произвол, содержащий основание всей морали, – это божественный. Теперь мы можем рассматривать во всех наших действиях субъективную или объективную моральность. Объективные законы действий – это praecepta, а субъективные – maximae; последние редко совпадают с объективными законами действий. Мы можем рассматривать объективную моральность как субъективную моральность божественной воли, но не как субъективную моральность человеческой воли. Божественное расположение духа морально, но не человеческое. Божественное расположение духа или божественная субъективная моральность совпадает с объективной моральностью, и поэтому можно утверждать, что, действуя в соответствии с объективной моральностью, мы действуем и в соответствии с божественной волей, так что все моральные законы являются praecepta, поскольку они суть правила божественной воли.
Что касается морального различения, все основания объективны, и ни одно не должно быть субъективным. Но в отношении моральных побуждений могут быть субъективные основания. Таким образом, основания различения объективны, но основания исполнения также могут быть субъективными; чтобы отличить, что морально хорошо или плохо, следует судить согласно разуму, то есть объективно, но для совершения действия могут быть и субъективные основания. Вопрос о том, является ли что-то моральным, касается самого действия. Моральная доброта, следовательно, есть нечто объективное, ибо состоит не в соответствии с нашими склонностями, а в себе самой. Субъективные законы берутся из особой природы того или иного субъекта и, будучи действительными только в отношении того или иного субъекта, ограничены этим конкретным субъектом. Но моральные законы должны быть общезначимыми и относиться к свободным действиям вообще, без учета различий субъекта. В божественной воле субъективные законы его божественной воли суть одно и то же, что и объективные законы всеобщей доброй воли; тем не менее, его субъективный закон не является основанием моральности; он благ и свят, потому что его воля соответствует объективному закону. Таким образом, вопрос моральности никоим образом не покоится на субъективных основаниях и может быть установлен только согласно объективным основаниям. Различать объективную и субъективную моральность было бы полной бессмыслицей, поскольку вся моральность объективна; только условие применения моральности может быть субъективным.
Для Баумгартена первый закон моральности таков: fac bonum et omitte malum. Рассмотрим значение первой части принципа: fac bonum. Доброе должно быть четко отделено от приятного; приятное относится к чувственности, доброе – к разуму. Понятие доброго есть объект, который нравится всем, и, следовательно, может быть оценен разумом. Удовольствие подходит только для частного предпочтения. Поэтому указанный принцип можно выразить и так: «делай то, что твой разум представит тебе как доброе, а не то, что приятно твоим чувствам». Долг всегда означает доброту доброго, а не приятного; это настоящая тавтология. В этот принцип можно было бы включить это различение доброты, сформулировав его так: «делай то, что морально хорошо»; однако в этом случае нужно было бы добавить другое правило, уточняющее, в чем состоит моральная доброта. Поэтому он никоим образом не может служить принципом моральности. Не все imperativi суть obligationes – как утверждает Баумгартен – поскольку imperativi problematici et pragmatici не являются obligationes.
Обязанность, по Баумгартену, – это сочетание высших оснований моего действия, ибо он утверждает, что доброе содержит в себе побудительные основания моего действия, а также что чем утонченнее доброе, тем утонченнее и основания, побуждающие меня действовать. Однако изречение fac bonum et omitte malum не может быть обязательным моральным принципом, ибо доброе может быть очень разнообразным в зависимости от желаемой цели, поскольку это принцип умения и проницательности, но в отношении доброго в моральных действиях он должен был бы быть моральным принципом. Следовательно, это principium vagum; более того, это principium tautologicum. Тавтологическое правило – это то, которое, призванное решить вопрос, дает пустое решение. Если вопрос звучит: «что я должен делать в отношении моих обязанностей?», а ответ гласит: «делай доброе и избегай злого», то это бессодержательный ответ, поскольку fac означает то же, что «хорошо, чтобы это произошло»; следовательно, рассматриваемое изречение означает: «хорошо, чтобы ты делал доброе», и это совершенная тавтология. Оно не помогает определить, что есть доброе, а лишь утверждает, что я должен делать то, что должен делать. Ни одна наука не так богата тавтологическими принципами, как мораль, где в качестве решения предлагается сам вопрос; вопрос тавтологичен с решением проблемы, ибо то, что было неявно в проблеме, явлено в решении, то есть действует тавтологически. Мораль переполнена такими принципами, и каждый думает, что сделал все, когда показал и объяснил своим ученикам принципы морали, подобно тому, как, например, врач сказал бы своему пациенту, страдающему запором: «смажьте свои кишки, не удерживайте газы и старайтесь иметь хорошее пищеварение»; то есть проинструктировал бы его о том, что он уже должен знать. Таковы тавтологические правила различения.
Относительно вопроса о «том, при каких условиях мои действия хороши», Баумгартен утверждает следующее: bonorum sibi oppositorum fac mei tus, следствие предыдущего тавтологического принципа. Самоотречение здесь означает альтруизм, оно означает ту жертву, которая состоит в отказе от малого блага ради получения большего. Это самоотречение означает допущение зла, чтобы избежать большего зла. Самоотречение может быть pragmatica или moralis. Я могу отвергнуть выгоду, чтобы достичь большей; в этом состоит abnegatio pragmatica. Но когда я не совершаю действие, основанное на моральном принципе, чтобы сделать что-то лучшее, это abnegatio moralis.
Принцип, который Баумгартен ставит в основание обязанности (а именно: quaere perfectionem, quantum potes), сформулирован, по меньшей мере, неточно, хотя здесь мы имеем дело не с тавтологией как таковой, и он нам несколько полезнее. Что такое совершенство? Нужно различать совершенство вещи и совершенство человека. Совершенство вещи – это достаточность всех requisita для ее конституции, и оно идентично завершенности. Но совершенство человека еще не означает моральности; можно различать совершенство и моральную доброту. Совершенство есть целостность человека в отношении его сил, способностей и умения осуществлять любые поставленные цели. Совершенство может быть большим или меньшим; один может быть совершеннее другого. Однако доброта есть свойство служить этому совершенству хорошо (gut) и эффективно (wohl). Следовательно, моральная доброта состоит в совершенстве воли, а не способности. Только добрая воля обладает завершенностью и способностью всех сил, осуществлением всего, чего желает воля. Таким образом, мы можем сказать, что совершенство касается моральности лишь очень косвенно. Другой моральный принцип Баумгартена таков: Vive convenienter naturae. Это стоический принцип. Хотя в морали существует множество принципов, ни один не может быть истинным, ибо может быть только один истинный принцип. Если принцип сформулирован так: «Живи согласно законам, которые природа дает тебе через разум», то он был бы тавтологичным, поскольку жить согласно природе означало бы располагать действия согласно физическому порядку природных вещей, и, следовательно, это было бы правилом благоразумия, но не моральным принципом; более того, это даже не было бы хорошим правилом проницательности, ибо означало бы: «располагай свои действия так, чтобы они соответствовали природе». Еще менее это представляет собой принцип моральности. Последний принцип: ama optimum, quantum potes. Этот принцип столь же мало полезен, как и предыдущие. Мы желаем всего, что касается совершенства, и поскольку каждый желает этого, он вносит в него что-то. Но есть два способа желать что-то: по склонности или по принципам. Так, мошенник хочет доброго по принципам, но злого по склонности.
Следовательно, все эти афоризмы не являются принципами моральности.
О моральном принуждении.
Во-первых, мы должны учитывать, что принуждение может быть двух видов: объективное и субъективное. Субъективное – это представление действия в субъекте per stimulos или per causas impulsivas. Объективное принуждение происходит, когда необходимость действия основывается на объективных мотивах. Субъективное принуждение – это принуждение человека тем, что имеет наибольшую принудительную силу внутри самого субъекта. Это принуждение, следовательно, не является необходимостью, а навязыванием действия. Но существо, которое принуждается, должно быть таковым, что не совершило бы это действие без принуждения, имея причины против этого действия. Таким образом, Бог не может быть принужден. Принуждение – это навязывание действия, которое происходит неохотно. Это навязывание может быть объективным и субъективным. Так, из-за склонности отказываются от чего-то неохотно, делая это ради другого; например, скупой упускает маленькую выгоду, когда получает большую, но неохотно, ибо предпочел бы иметь обе. Всякое принуждение бывает pathologicum или practicum. Pathologicum принуждение – это необходимое совершение действия per stimulos; practicum принуждение – это необходимое совершение действия, которое происходит неохотно per motiva. Ни один человек не может быть принужден pathologice из-за свободной воли. Человеческая воля есть arbitrium liberum, которое не принуждается per stimulos. Воля животного – это arbitrium brutum, а не liberum, ибо может быть принуждена per stimulos. Так, например, когда человека побуждают к действию множеством мучительных страданий, он, несмотря на это, может не быть принужден действовать и переносить страдание. Правда, он может быть принужден сравнительно, но не строго, ибо у него всегда есть возможность избежать чувственных побуждений, что составляет природу liberum arbitrium! Животные побуждаются per stimulos, так что собака должна есть, когда голодна и перед ней еда; однако человек может воздержаться в том же случае. Следовательно, человек может быть принужден pathologice, но только сравнительно (например, пыткой). Действие, которому нельзя сопротивляться, необходимо. Те мотивы, которые не могут противостоять человеческим силам, являются принудительно неодолимыми. Однако человек может быть принужден practice per motiva, хотя правильное выражение в этом случае – не «принужден», а «побужден» (bewogen). Это принуждение не субъективно, ибо иначе оно не было бы practice, происходя per motiva, а не per stimulos, поскольку stimuli суть motiva subjective moventia.
Действие может быть практически необходимым для свободного существа до такой степени, что его нельзя преодолеть, при условии, что оно не противоречит свободе. Таким образом, Бог необходимо должен вознаграждать людей, чье поведение соответствует моральному закону, действуя согласно правилу наилучшего желания, поскольку такое поведение согласуется с моральным законом и, следовательно, с божественным arbitrium. Так честный человек может не лгать и, если солжет, сделает это неохотно. Следовательно, могут существовать необходимые действия без противоречия свободе. Эта практическая принудительность может иметь место только у человека, но не у Бога. Например, никто не расстается охотно со своим имуществом, но если только так можно спасти его ребенка, он делает это под патологическим давлением и, следовательно, будучи принужденным мотивами разума, то есть принужденным без противоречия свободе. Конечно, мы совершаем такие действия с неохотой, но делаем это, потому что они хороши.
О практическом принуждении.
Принуждение бывает не только патологическим, но и практическим. Практическое принуждение не субъективно, а объективно, ибо если бы оно было субъективным, то стало бы патологическим necessitatio. Свобода не допускает иного принуждения, кроме практического per motiva. Эти motiva могут быть pragmatica или moralia. Pragmatica берутся из bonitas mediata. Moralia берутся из bonitas absoluta свободного arbitrium.
Чем более человек морально принужден, тем он свободнее. Чем сильнее патологическое принуждение – что происходит лишь в сравнительном смысле – тем меньше свободы. Но подчеркнем: чем более человек принужден морально, тем он свободнее. Моральное принуждение осуществляется через motiva objective moventia, через побудительные мотивы разума, которые, лишенные каких-либо стимулов, обеспечивают наибольшую свободу. Следовательно, высшая степень свободы свойственна моральному принуждению, ибо оно укрепляет arbitrium liberum, освобождая его от stimuli, поскольку может быть ограничено мотивами. Человек освобождается от стимулов обратно пропорционально своему моральному принуждению. Свобода возрастает со степенью моральности. В Боге нет никакой practica necessitatio, ибо в Нем субъективные и объективные законы – одно и то же; но у человека practica necessitatio имеет место, поскольку он действует с неохотой, будучи принужденным. Чем более он склоняется к моральным мотивам, тем свободнее становится.
Тот, кто свободнее, имеет меньше обязательств. Поскольку кто-то подчинен обязательству, он несвободен, но как только обязательство прекращается, он становится свободным. Следовательно, наша свобода уменьшается с обязательством, но у Бога свобода не уменьшается с моральной необходимостью, ибо вполне добрая воля не обязана перед ней; такая воля, которая желает всего хорошего сама по себе, не может быть обязана, но люди, поскольку их воля дурна, могут быть обязаны. Таким образом, человек несвободен, когда принимает благодеяние; однако сравнительно мы можем быть свободнее в одних случаях, чем в других.
При obligatio passiva человек менее свободен, чем при obligatio activa. Мы не можем быть принуждены действовать великодушно, но обязаны это делать. Мы можем быть принуждены к действиям долга, попадая тогда под obligatio passiva. Тот, кто подчинен obligatio passiva перед кем-то, менее свободен, чем тот, кто может его обязать.
У нас есть obligationes internae erga nosmet ipsos, в отношении которых мы полностью свободны внешне; каждый может делать со своим телом что угодно, ибо это никого не касается, но внутренне человек несвободен, ибо связан существенными и необходимыми целями человечества.
Всякое обязательство есть вид принуждения; в сфере морального принуждения мы либо принуждаемся внешне, либо принуждаем себя сами; последнее есть coactio interna. Человек может быть морально принужден другим, когда тот навязывает ему на основе моральных мотивов действие, совершаемое с неохотой. Например, допустим, я должен кому-то, и он говорит: «Если хочешь быть честным человеком, ты должен заплатить; я не стану тебя обвинять, но и не могу простить долг, ибо нуждаюсь в том, что ты мне должен» – в этом случае имеет место внешнее моральное принуждение, вызванное чужим arbitrium. Чем более человек может принуждать себя, тем он свободнее. И чем менее позволительно другим принуждать его, тем более он внутренне свободен. Здесь еще следует различать способность быть свободным и состояние свободы. Способность может быть велика, даже если состояние неблагоприятно. Чем больше моя способность быть свободным, чем более свобода освобождена от stimuli, тем свободнее человек. Если бы человек не нуждался в самопринуждении, он был бы совершенно свободен; его воля была бы тогда полностью хорошей, и он охотно совершал бы все благое, не нуждаясь в самопринуждении; но это не так для человека, хотя одни ближе к этому, чем другие, ибо у одних чувственные stimuli сильнее, чем у других. Чем больше упражняется самопринуждение, тем свободнее человек. Некоторые по природе склонны к великодушию, снисходительности и честности и потому могут лучше принуждать себя и быть свободнее. Но ни один человек не избавлен от самопринуждения.
Обязательство бывает внутренним или внешним. Obligatio externa est necessitatio moralis per arbitrium alterius. Obligatio interna est obligatio moralis per arbitrium proprium. Arbitrium есть желание, находящееся в моей власти. Жажда же есть желание, не находящееся в моей власти. Принуждение через чужое arbitrium есть external necessitatio moralis, ибо это чуждое существо имеет власть принуждать меня, и возникающее отсюда обязательство есть obligatio externa. Necessitatio moralis, происходящая не через чужое arbitrium, а через собственное, есть internal necessitatio moralis, и возникающее обязательство есть obligatio interna. Например, обязательство помочь кому-то есть внутреннее. Возмещение обиды морально необходимо из-за чужого arbitrium и есть obligatio externa.
External obligationes больше, чем internal, ибо external obligationes одновременно internal, но не наоборот. External obligatio предполагает, что действия уже подчинены моральности и, следовательно, внутренни; external obligatio есть обязательство, поскольку действие уже internal obligatio. Ибо то, что действие есть долг, составляет internal obligatio, но поскольку я всегда могу принудить другого исполнить этот долг, оно также есть external obligatio. В external obligatio мое действие должно согласовываться с arbitrium другого, и я также могу быть им принужден. External obligatio может быть навязано патологически другим; если кто-то не поддается моральному принуждению, всегда остается патологическое принуждение. В конечном счете, всякое право содержит атрибут патологического принуждения.
Internal obligationes несовершенны, ибо мы не можем быть принуждены к ним. Однако external obligationes совершенны, ибо в них, помимо internal obligatio, присутствует external необходимость.
Обязательство, согласно которому мы исполняем всякое обязательство, либо внутреннее – тогда оно называется долгом, либо внешнее – тогда оно называется принуждением. Если я исполняю обязательство по чужому arbitrium, то я принужден к этому, ибо это внешняя мотивация, и я совершаю действие по принуждению; следовательно, stimulus pro arbitrium alterius necessitans est coactio. Но если я исполняю действие по собственному arbitrium, то мотивация внутренняя, и я совершаю действие по долгу. И тот, кто исполняет обязательство по долгу, и тот, кто исполняет его по принуждению, выполняют обязательство, но первый делает это из внутренней мотивации, а второй – из внешней. Суверен не интересуется, какой мотивацией исполняются обязательства перед ним, ему безразлично, исполняются ли они по долгу или по принуждению. Но родители требуют от детей исполнения обязательств по долгу. Следовательно, когда Баумгартен делит обязательство по критерию исполнения по долгу или по принуждению, он ошибается. Обязательство нельзя так делить, ибо принуждение не содержит обязательства; обязательства должны различаться сами по себе, в зависимости от того, происходят ли они ex arbitrium alterius – тогда они external – или ex arbitrium proprio – тогда они internal. Только motiva satisfaciendi всякого обязательства могут быть external или internal, и их можно так различать: внутренние мотивации, исходящие из моего arbitrium, суть долги; исходящие из чужого arbitrium – принуждение. Обязательства же могут быть любыми.
Объективные мотивы берутся из объекта и суть основания того, что мы должны делать. Субъективные мотивы суть основания чувства и определения воли, правила для совершения чего-либо. Согласно объективным основаниям, обязательства бывают внутренними и внешними; согласно субъективным основаниям – долгом или принуждением.
Obligationes, чьи мотивации субъективны или внутренни, суть этические обязательства. Те, чьи мотивации объективны или внешни, суть строго юридические; первые суть обязательства долга, вторые – принуждения. Различие между правом и этикой покоится не на характере обязательства, а на мотивах исполнения обязательств. Этика говорит обо всех видах обязательств, будь то обязательства благожелательности, благородства, доброты или долга; этика учитывает всякое обязательство, чья мотивация внутренняя, и оценивает его по долгу и внутренней природе самой вещи, а не по принуждению. Право же рассматривает исполнение обязательства не по долгу, а по принуждению; обязательства рассматриваются так, как они поддерживаются через принуждение.
У нас есть обязательства перед Богом; но Бог требует не только исполнения этих обязательств, но и того, чтобы мы делали это охотно на основе внутренних мотиваций. Obligationes перед Богом не исполняются вполне удовлетворительно, если делаются через принуждение; они должны исполняться по долгу. Когда я делаю что-то из хорошего чувства, я делаю это по долгу, и действие этично, но если я делаю это только по принуждению, действие лишь юридически правильно. Таким образом, истинное различие обязательств – при делении их на internal и external, но различие между этикой и правом покоится не на этом, а на мотивах этих обязательств, ибо мы можем исполнять обязательства по долгу и по принуждению. Чужое arbitrium может заставить меня исполнить external obligatio, даже если не принуждает меня, и я исполню его по долгу; однако если оно действительно принуждает меня, то я исполняю его по принуждению. External obligatio не становится таковой лишь потому, что я могу быть принужден к нему. Из обязательства вытекает как следствие атрибут принуждения.
О ЗАКОНАХ.
Всякая формула, выражающая необходимость моих действий, есть закон. Таким образом, могут существовать естественные законы, в которых действия подчинены всеобщему правилу, а также практические законы. Все законы бывают физическими или практическими. Практические законы выражают необходимость свободных действий и бывают либо субъективными, поскольку они осуществляются людьми, либо объективными, поскольку они должны иметь место. Объективные законы делятся на два вида: прагматические и моральные. Здесь мы будем рассматривать последние.
Право, поскольку оно обозначает законность, заключается в соответствии действия правилу права при условии, что действие не противоречит произволу или моральной возможности действия, то есть не противоречит моральному закону. Право как наука – это совокупность всех юридических законов. Jus in sensu proprio est complexus legum obligationum externarum, quatenus simul sumuntur. Jus in sensu proprio est vel jus late dictum, vel jus stricte dictum. Jus late dictum – это право справедливости. Jus stricte dictum – это право в строгом смысле как принудительная власть. Таким образом, существует общее право и принудительное право. Этика противопоставляется jus strictum, но не праву вообще. Этика относится к законам свободных действий, поскольку мы не можем быть принуждены к ним. Jus strictum, напротив, относится к законам свободных действий, поскольку мы можем быть принуждены к ним. Jus stricte бывает либо positivum seu statutarium, либо jus naturale. Jus positivum происходит от человеческого произвола, тогда как jus naturale основан на разумном рассмотрении природы действий. Jus positivum est vel divinum vel humanum. Jus positivum содержит предписания, тогда как jus naturale заключает в себе законы. Божественные законы одновременно являются божественными заповедями, то есть jus naturale есть также jus positivum божественной воли, но не потому, что они содержатся в Его воле, а потому, что они заключены в природе человека. Все божественные законы суть законы естественные, хотя Бог может дать и позитивный закон. Как jus positivum, так и jus naturale могут быть общим правом или принудительным правом. Многие законы суть лишь законы справедливости. Однако jus equitatis мало разработано, и было бы желательно, чтобы суды судили согласно этому принципу, поскольку они должны судить valide; тем не менее, jus equitatis не является внешним правом и действительно только coram foro conscientiae. В сфере jus positivum et naturale всегда речь идет о jus strictum, а не о jus equitatis, ибо последнее относится исключительно к этике. Все обязанности, включая принудительные, в равной мере принадлежат к сфере этики, если мотив их исполнения проистекает из внутреннего расположения. Законы могут относиться к праву или к этике в зависимости от их содержания, а также от мотива их применения. Землевладелец не требует, чтобы налоги уплачивались охотно, но этика требует, чтобы эта обязанность исполнялась с радостью; однако и тот, кто платит налоги охотно, и тот, кто делает это из-за принуждения, в равной мере являются подданными.
Расположение духа не может быть требовано сувереном, поскольку его внутренняя природа не позволяет его распознать. Однако этика предписывает действовать из доброго расположения духа. Соблюдение божественного закона – единственный случай, когда право и этика совпадают, образуя оба принудительные законы по отношению к Богу, ибо Бог может принуждать как к этическим, так и к юридическим действиям, но требуя такие действия не из-за принуждения, а из чувства долга. Следовательно, действие может обладать rectitudo juridica, поскольку оно соответствует принудительным законам, но соответствие действия законам из-за расположения и долга относится исключительно к моральности, которая заключается в доброжелательном расположении духа. Таким образом, следует различать моральную доброту действия и rectitudo juridica. Rectitudo – это род, и если она лишь юридическая, то лишена моральной доброты. Так, религия может соблюдать rectitudo juridica, если божественная заповедь исполняется из-за принуждения, а не из доброго расположения духа. Но Богу важны не действия, а сердце. Сердце есть принцип морального расположения. Поэтому Бог желает моральной доброты, и она заслуживает награды. Следовательно, следует воспитывать расположение к исполнению обязанностей, и именно это говорит Учитель Евангелия, утверждая, что всё должно делаться из любви к Богу. Любить Бога – значит охотно исполнять Его заповеди.
Leges могут быть praeceptivae, когда они что-то предписывают, prohibitivae, когда они запрещают определенные действия, и permissivae, когда они разрешают другие. Complexus legum praeceptivarum est jus mandati, complexus legum prohibitivarum est jus vetiti; можно представить также и jus permissi.
О высшем принципе моральности.
Прежде всего, здесь следует различать две части: 1) принцип распознавания обязанности и 2) принцип исполнения или осуществления обязанности. В этом контексте следует различать критерий и побуждение. Критерий – это принцип распознавания, а побуждение – принцип осуществления обязанности; если смешать эти два аспекта, всё в сфере морали окажется ложным.
Если вопрос звучит: «Что морально хорошо, а что нет?», то вступает в силу принцип распознавания, благодаря которому я сужу о доброте действий. Но если вопрос таков: «Что побуждает меня жить согласно закону?», то здесь появляется принцип побуждения. Справедливость действия – это объективное основание, но не субъективное. Те мотивы, которые побуждают меня делать то, что разум говорит мне делать, суть motiva subjective moventia. Высший принцип всякой моральной оценки покоится на разуме, а высший принцип морального побуждения к совершению действия – на сердце. Это побуждение формирует моральное расположение. Этот принцип побуждения нельзя смешивать с принципом распознавания. Принцип распознавания – это норма, а принцип побуждения – это мотив. Норма находится в разуме, но мотив пребывает в моральном расположении. Мотив не должен заменять норму. Это влечет за собой как практическую ошибку, уничтожающую побуждение, так и теоретическую ошибку, разрушающую суждение. Теперь мы кратко покажем в отрицательной форме, в чем не заключается принцип моральности. Принцип моральности не патологичен; он был бы патологическим, если бы исходил из субъективных принципов, наших склонностей, наших чувств. Мораль не имеет никакого патологического принципа, ибо она содержит объективные законы того, что должно быть сделано, а не того, что желательно сделать. Мораль состоит не в анализе склонности, а в предписании, которое противоречит всякой склонности. Патологический принцип моральности заключается в удовлетворении всех склонностей, что было бы грубым эпикурейством, но даже и подлинный эпикуреизм не таков.
Мы можем представить два principia patologica моральности. Первое касается удовлетворения всякой склонности, и это есть физическое чувство. Второе касается удовлетворения склонности, соответствующей моральности, и потому основывается на интеллектуальной склонности; однако, как мы сейчас покажем, интеллектуальная склонность предполагает противоречие, ибо чувство, относящееся к объектам разума, есть нечто абсурдное и, следовательно, невозможное. Я не могу считать чувство чем-то идеальным, оно не может быть одновременно интеллектуальным и чувственным; и даже если бы было возможно испытывать ощущение относительно моральности, мы не могли бы установить никакого правила из этого принципа, поскольку моральный закон категорически говорит, что должно произойти, нравится это или нет, и потому не удовлетворяет нашей склонности. Более того, не могло бы быть никакого морального закона, но каждый хотел бы действовать согласно своему чувству. Если бы закон был чувством, одинаково сильным у всех людей, то не было бы никакой обязанности действовать согласно этому чувству, ибо это могло бы означать не то, что мы должны делать то, что нам нравится, а то, что каждый сам хотел бы делать это, потому что ему это приятно. Но моральный закон предписывает категорически, поэтому моральность не может основываться на патологическом принципе, равно как и на физическом моральном чувстве. Этот метод обращения к чувству в практическом правиле также полностью противоречит философии. Любое чувство действительно лишь приватно и непонятно для других; оно патологично по своей природе; когда кто-то говорит, что чувствует что-то внутри себя, это не может иметь значения для других, которые не знают, как он это чувствует, и тот, кто апеллирует к чувству, отказывается от всякого основания разума. Следовательно, патологический принцип неприемлем, и речь должна идти об интеллектуальном принципе, поскольку он берется из разума. Он заключается либо в правиле разума, поскольку разум предоставляет нам средства для согласования наших действий с нашими склонностями, либо в том, что основание моральности непосредственно признается разумом. Первое, несомненно, есть интеллектуальный принцип, поскольку именно разум предоставляет нам средства, но он явно основан на склонности. Этот псевдопринцип интеллектуальный есть прагматический принцип, который заключается в умении правила удовлетворять склонности. Такой принцип благоразумия есть подлинный эпикурейский принцип. В этом смысле утверждение: «Ты должен способствовать своему счастью» – означает: «Используй свой разум, чтобы придумать средства для удовлетворения своего удовольствия и своих склонностей»; этот принцип интеллектуален, поскольку разум должен изобретать средства для увеличения нашего счастья. Таким образом, прагматический принцип зависит от склонностей, ибо счастье состоит в удовлетворении всех склонностей. Но моральность не основывается ни на каком прагматическом принципе, поскольку она независима от всякой склонности. Если бы моральность имела отношение к склонностям, люди не могли бы согласиться в моральности, ибо каждый стремился бы к своему счастью согласно своим склонностям. Но поскольку мораль не может основываться на субъективных законах склонностей, принцип морали, следовательно, не прагматичен. Он, безусловно, должен быть интеллектуальным принципом, но не опосредованно, как прагматический, а непосредственным принципом моральности, поскольку основание моральности непосредственно признается разумом. Таким образом, принцип морали есть чистый интеллектуальный принцип чистого разума.
Однако этот чистый интеллектуальный принцип не может быть вновь тавтологичным и сводиться к тавтологии чистого разума, как предлагал Вольф: fac bonum et omitte malum – пустое и нефилософское предписание. Второй тавтологический принцип – это принцип Камберленда, который основывается на истине. Камберленд утверждает, что все мы ищем совершенства, но обманываемся видимостью; мораль учит нас истине. Третий – принцип Аристотеля: принцип середины, очевидно тавтологичный.
Этот чистый интеллектуальный принцип не должен быть, однако, principium externum, в том смысле, что наши действия имеют какое-то отношение к чужому существу, поэтому он не основывается на божественной воле. Нельзя сказать: «Не лги, потому что это запрещено», ибо принцип моральности не может быть externum и, следовательно, tautologicum. Те, кто утверждает это, говорят, что сначала нужно познать Бога, а затем моральность, чей принцип оказывается таким образом очень удобным. Мораль и теология не составляют принцип друг для друга, хотя теология не может существовать без морали, а мораль, в свою очередь, не может устоять без теологии; но здесь речь не о том, что теология есть побуждение морали – что так и есть —, а о том, является ли принцип распознавания морали тавтологичным, и он не может быть таковым. Если бы это было так, все народы должны были бы знать Бога прежде, чем иметь понятие о обязанностях, и, следовательно, народы, не имеющие адекватного понятия о Боге, не имели бы никаких обязанностей, что, однако, ложно. Есть народы, которые правильно знают свои обязанности и видят безобразие лжи, не имея адекватного понятия о Боге. Более того, существуют народы, которые сформировали ложное понятие о Боге и, тем не менее, имели правильные понятия относительно долга. Следовательно, обязанности должны быть взяты из какого-то другого источника. Причина выведения моральности из божественной воли заключается в том, что, утверждая, будто моральный закон предписывает делать нечто, думают, что должна быть третья инстанция, которая это запретила. Бесспорно, моральный закон есть заповедь, и могут быть заповеди божественной воли, но моральный закон не исходит из божественной воли. Бог повелел это, потому что это моральный закон, и Его воля согласуется с моральным законом. Более того, кажется, что всякая обязанность имеет отношение к тому, кто ее налагает, и потому можно сказать, что Бог есть obligans человеческих законов. Несомненно, в исполнении должна быть третья инстанция, которая принуждает делать то, что морально хорошо. Однако в сфере распознавания моральности нам не нужна такая инстанция. Моральные законы могут быть правильными без наличия третьей инстанции. Но в исполнении они были бы тщетны, если бы третья инстанция не принуждала нас к этому. Верно замечено, что моральные законы не имели бы силы без верховного судьи, ибо не было бы никакого внутреннего побуждения, никакой награды и никакого наказания. Таким образом, знание Бога необходимо для применения морального закона, ибо в противном случае те, кто совершенно невежествен в этом вопросе, не имели бы никакого морального закона и – как говорит сам Павел – судили бы его согласно своему собственному разуму. Следовательно, мы познаем божественную волю через наш разум. Мы представляем Бога как того, кто имеет святую и совершеннейшую волю, которая всегда действует согласно объективным основаниям.
Какая воля самая совершенная? Та, которая показывает нам моральный закон и, следовательно, всю моральную вселенную. Но божественная воля согласуется с моральным законом, и потому Его воля свята и совершеннейша. Следовательно, мы познаем совершенство божественной воли благодаря моральному закону. Бог желает всего, что есть благо и честность, и потому Его воля свята и совершеннейша. Этика указывает на то, что морально хорошо.
Теологические понятия оказываются тем более испорченными, чем более испорчены моральные понятия. Если бы в теологии и религии понятия морали были чисты и святы, не было бы нужды стараться угодить Богу человеческим и неподобающим образом. Каждый представляет Бога согласно распространенному понятию как великого Господина, который могущественнее самого могущественного господина на земле. Поэтому каждый ребенок формирует также понятие моральности согласно понятию, которое он составил о Боге. Потому люди стараются быть угодными Богу, восхваляя Его и пытаясь завоевать Его благосклонность, и хвалят Его, как если бы речь шла о том великом Господине, которого мы не встречаем на земле; люди знают свои собственные пороки и думают, что каждый человек должен иметь подобные пороки, так что никто не был бы в состоянии делать что-то хорошее; они полагают, что, представляя свои грехи на коленях перед Богом и сокрушаясь о них, они почитают Его, не понимая, что такая жалкая хвала со стороны подобных червей – каковыми являются люди – есть нечто постыдное в глазах Бога. Они не замечают, что не могут хвалить Бога вовсе. Почитать Бога – значит охотно исполнять Его заповеди, а не воспевать Его хвалу. Однако когда нравственный человек старается применять моральный закон в силу внутреннего побуждения, основанного на внутренней доброте действия, он действительно почитает Бога. Но если мы должны исполнять Его заповеди потому, что Он так повелел и потому что Он столь могуществен, что может принудить нас к этому силой, тогда мы исполняем их из-за приказа, из страха и боязни, не принимая во внимание справедливость предписания и не зная, почему мы должны делать то, что Бог повелел, и почему мы должны повиноваться Ему; в конечном счете, vis obligandi не может заключаться в силе. Тот, кто угрожает таким образом, не обязывает, а принуждает. Если мы должны исполнять моральный закон из страха перед наказанием и могуществом Бога, это означает, что мы делаем то, что Бог повелевает, не из чувства долга и обязанности, а из страха, что, конечно, не улучшает наше сердце. Однако если действия основаны на внутренних принципах, если я исполняю действие по этой причине и охотно, это действительно угодно Богу. Богу важно лишь расположение духа, и оно заключается во внутреннем принципе. Ибо когда что-то делается охотно, это делается из доброго расположения духа. Даже когда божественное откровение должно быть правильно истолковано, оно должно толковаться согласно внутреннему принципу моральности. Добрая воля, следовательно, не есть благочестие – что соответствовало бы теологическому принципу —, а моральная нравственность заключается в добродетели, и только когда она осуществляется согласно доброй божественной воле, моральность превращается в благочестие.
До сих пор было показано, в чем не состоит принцип морали; теперь следует указать, в чем он состоит. Поскольку принцип морали является intellectuale internum, его следует искать в самом действии посредством чистого разума. В чем же он состоит? Мораль – это соответствие действий моему закону свободной воли, имеющему всеобщую значимость. Мораль заключается в отношении действий к всеобщему правилу. Во всех наших действиях то, что называется моральным, регулируется. Это фундаментальная часть морали: чтобы наши действия совершались по мотивам всеобщего правила. Если я устанавливаю основание, что мои действия должны согласовываться с всеобщим правилом, действительным во все времена и для всех, тогда такие действия будут происходить из морального принципа; например, выполнение обещания ради удовлетворения чувственности не является моральным, так как если – как можно предположить – никто не захотел бы выполнять свои обещания, в конечном итоге они стали бы бесполезными. Напротив, когда я сужу согласно разуму, является ли мое правило всеобщим, и поэтому выполняю свое обещание, желая при этом, чтобы все сдерживали свое слово по отношению ко мне, тогда мое действие совпадает со всеобщим правилом любой свободной воли.
Возьмем, к примеру, акт щедрости: когда кто-то находится в нужде, и я могу помочь ему, но предпочитаю потратить деньги на развлечения, тогда я должен спросить свой разум, может ли такое поведение быть всеобщим правилом, и было бы согласно моей воле, чтобы другой проявил равнодушие ко мне в подобной ситуации, что не совпадает с моей волей; следовательно, такое действие не является моральным.
Человек обладает максимами, противоречащими морали. Предписание – это объективный закон, согласно которому следует действовать; максима же, напротив, – это субъективный закон, по которому действуют на самом деле. Каждый рассматривает моральный закон как нечто, что можно публично признать, но в то же время считает свои максимы чем-то, что следует скрывать, поскольку они противоречат морали и не могут служить всеобщим правилом; например, у кого-то есть максима разбогатеть, которую он может не раскрывать – и так и сделает – никому, иначе он не достигнет своей цели; если бы это стало всеобщим правилом, тогда все хотели бы разбогатеть, и это стало бы невозможным, потому что все знали бы об этом и желали того же.
Примеры, касающиеся обязанностей по отношению к самому себе, сложнее исследовать, потому что они наименее известны. Их смешивают с прагматическими правилами личной выгоды, так как большинство из них относятся к этой категории; например, кто-то может навредить себе физически ради финансовой выгоды, торгуя своими зубами или продавая себя тому, кто больше заплатит. Где же здесь мораль? Мне остается только проверить, согласуется ли, согласно разуму, намерение действия с тем, чтобы оно могло стать всеобщим правилом. Намерение увеличить свою выгоду делает – как я считаю – человека вещью, простым инструментом животного удовольствия. В то время как люди – не вещи, а личности. В приведенном случае человек бесчестит человечество в своем собственном лице. То же самое происходит с самоубийством: согласно правилу благоразумия, могут быть случаи, когда кто-то под влиянием обстоятельств может быть вынужден лишить себя жизни, но это противоречит морали, поскольку намерение состоит в том, чтобы прекратить страдания своего положения, боли и несчастья своего состояния, низводя человечество до животности и подчиняя разум чувственным импульсам; следовательно, в этом случае противоречиво требовать прав, присущих человечеству.
Во всяком моральном суждении уместны следующие размышления: какова природа действия, если рассматривать его изолированно? Если намерение действия становится всеобщим правилом и совпадает с самим собой, тогда оно морально возможно; в противном случае – морально невозможно; например, лгать для достижения большей власти; в целом это невозможно, пока эта цель известна другим. Следовательно, это безнравственное действие, намерение которого самоуничтожается, как только оно становится всеобщим правилом. Оно будет моральным, когда намерение действия совпадает с самим собой, становясь всеобщим правилом.
Наш разум – это способность правил наших действий; когда эти правила совпадают со всеобщим правилом, они также согласуются с разумом и имеют мотивации, свойственные разуму. Если действия происходят потому, что они соответствуют всеобщему правилу разума, они происходят из principium moralitatis purum intellectuale internum. Однако, поскольку разум является способностью правила и суждения, мораль заключается в подчинении действий вообще принципу разума.
То, каким образом разум должен содержать принцип действия, трудно проанализировать. Разум вовсе не включает в себя цель действия, но мораль основывается на всеобщей форме разума (которая является интеллектуально чистой), а именно: может ли действие быть принято как всеобщее правило. Здесь заключается различие – о котором мы уже говорили ранее – между объективным принципом различения и субъективным принципом исполнения действия.
О субъективном принципе действия, мотиве действия, мы уже кое-что сказали; это моральное чувство, которое мы ранее отвергали как чужеродное разуму. Моральное чувство – это способность быть затронутым моральным суждением. Когда я сужу благодаря разуму, что действие морально хорошо, еще далеко до того, чтобы я совершил это действие, о котором уже вынес суждение. Но это суждение побуждает меня совершить действие, и это есть моральное чувство.
Разум может судить, но наделить это суждение разума силой, которая служила бы мотивом для побуждения воли к совершению действия, – это философский камень.
Разум принимает все, что соответствует возможности правила. Разум допускает все объекты, совместимые с применением его правила, и противостоит тем, которые ему противоречат. Безнравственные действия противоречат правилу, поскольку они не могут стать всеобщим правилом, и разум противостоит им, потому что они происходят вопреки применению его правила. Следовательно, в силу своей природы в разуме заключена движущая сила.
Таким образом, обстоятельства должны быть таковы, чтобы согласовываться со всеобщей формой разума, так чтобы в любое время они могли стать правилом. Но что является причиной действия, когда оно не морально? Разум или воля? Разум ошибается, если он недостаточно обучен различать действие, и тогда действие будет морально несовершенным; однако испорченность или зло действия заключается не в суждении и не в разуме, а зависит от мотива воли. Даже если человек научился судить все действия, он может ошибаться в мотивах, по которым совершает эти действия.
Безнравственность действия состоит, следовательно, не в недостатке разума, а в испорченности воли или сердца. Испорченность воли происходит, когда движущая сила чувственности преобладает над силой разума. Разум не обладает elateres animi, хотя и обладает побудительной силой, но не способной преобладать над elateres чувственности.
Та чувственность, которая совпадает с побудительной силой разума, была бы моральным чувством; конечно, мы не можем чувствовать доброту действия, но разум противостоит дурному действию, потому что оно противоречит правилу. Это сопротивление разума является основанием мотивации. Моральное чувство было бы этим основанием мотивации разума, которое могло бы служить мотивом в согласии с чувственностью.
Разум не ненавидит, но исследует ненавистное и противостоит ему; чувственность же должна только ненавидеть; когда чувственность ненавидит то, что разум считает ненавистным, возникает моральное чувство.
Невозможно заставить человека чувствовать отвращение к пороку. Я могу только сказать ему то, что анализирует мой разум, и заставить его тоже это анализировать, но нельзя заставить его чувствовать отвращение, если его чувства лишены такой восприимчивости.
Когда человек считает действие ненавистным, он желает, чтобы все так считали, и чтобы только он один мог извлечь из этого выгоду; это он чувствует лучше, если у него что-то есть в кармане. Следовательно, это трудная задача.
Человек не обладает столь тонкой структурой, чтобы быть мотивированным объективными основаниями; не существует никакого природного механизма, который мог бы вызвать нечто подобное. Мы можем создать только habitus, который не является природным, хотя и поддерживается природой, и становится habitus через подражание и частое повторение.
Но все методы сделать пороки ненавистными оказываются неэффективными. Уже с юности нам следует прививать непосредственное отвращение к таким действиям, что имеет лишь прагматическую пользу.
Мы не должны представлять действие как запрещенное или вредное, но как отвратительное само по себе. Например, ребенок, который лжет, не должен быть наказан, но пристыжен; следует вызвать отвращение, презрение ко лжи, как если бы она была покрыта нечистотами.
Путем частого повторения мы можем вызвать у него такое отвращение к этому действию, что оно станет для него привычкой. В противном случае, будучи наказанным в школе, он может подумать, что вне школы такие действия не наказуемы, и поэтому всегда будет искать возможность избежать телесных наказаний.
Так же думают и старики, которые решают раскаяться незадолго до смерти, как если бы они поступали морально всю жизнь; поэтому они считают внезапную смерть великим несчастьем.
В конечном итоге, воспитание и религия должны преодолеть все это и внушить непосредственное отвращение к дурным действиям и непосредственную радость от морали.
Baumgarten говорит далее, de littera legis.
De littera legis.
Littera legis – это связь закона с причинами и основаниями, на которых он основан. Мы можем исследовать значение закона, анализируя принцип, из которого он выведен, но мы также можем определить его смысл, не рассматривая принцип.
Anima legis – это смысл, который слова имеют в законе. Слова имеют определенное значение, но они также могут иметь смысл, отличный от общепринятого, и это есть anima legis; например, в положительном законе Бога о субботе, смысл которой не просто отдых, но торжественный отдых.
Когда говорят, что anima legis обозначает дух закона, имеют в виду не столько его смысл, сколько его мотивацию. Во всяком законе действие, которое совершается в соответствии с ним, соответствует littera legis. Но дух закона заключается в намерении, ради которого это действие совершается. Само действие есть littera legis pragmaticae, но намерение есть anima legis moralis.
Прагматические законы не имеют духа, поскольку они не требуют намерений, а только действий; но моральные законы содержат дух, поскольку они требуют намерений, и действия лишь выражают эти намерения.
Таким образом, тот, кто выполняет действия без добрых намерений, соблюдает закон quod litteram, но не согласно его духу.
Можно соблюдать божественные и моральные законы, как прагматические, quod litteram; например, кто-то, думающий перед смертью: если есть Бог, Он должен вознаградить все добрые дела, считая, что если у него есть возможность, он не может употребить ее ни на что лучшее, так что, совершая добрые дела, он делает это с единственной целью быть вознагражденным Богом, что отражено в библейском отрывке, где говорится о неправедном Маммоне и сказано, что дети тьмы мудрее детей света; таким образом, тот, кто делает то, что требует моральный закон, но без намерения сделать это, соблюдает закон quoad litteram.
Однако в этом случае anima legis moralis не удовлетворяется; он требует моральных намерений.
Мотив, по которому совершается действие, отнюдь не безразличен. Следовательно, моральный закон – только тот, который содержит дух; вообще объект разума обладает духом, но личная выгода не является объектом разума, так что действие, движимое этой целью, лишено духа.
Baumgarten подходит к разъяснению права столь поспешно, что проясняет лишь некоторые термины, одновременно затрагивая как этическое, так и юридическое.
Обязанность является этической, когда ее основание заключается в самом действии, но она является юридической, когда основание обязанности лежит в чужой воле.
Отличительные черты этики заключаются в следующем:
1) она отличается от права в отношении законов, которые относятся не к другим людям, а только к Богу и к самому себе;
2) когда она касается других законов, обязанность имеет свое основание не в чужой воле, а в самом действии;
3) мотив исполнения обязанности – не принуждение, а свободное намерение или долг.
Внешняя мотивация влечет за собой принуждение, и соответствующее действие является юридическим; внутренняя мотивация есть долг, и тогда действие этическое.
В сфере юридической обязанности не спрашивают о намерении, которое может быть любым, лишь бы действие совершалось. В этической обязанности мотив должен быть внутренним; действие должно совершаться потому, что это должное: я должен выплатить свой долг не потому, что другой может принудить меня к этому, а потому, что это правильно.
Baumgarten далее говорит о нарушении закона, соблюдении законов и лицах, которым наносится вред при нарушении законов, или о причиняемом им ущербе.
Закон не терпит ущерба, но нарушается, однако человек может пострадать. В этике ущерба нет, поскольку я никому не наношу ущерба, если исполняю этические обязанности. Но oppositio juris alterius – это ущерб.
Антиномия или противопоставление может иметь место в законах, если они лишь указывают основание обязанности; но когда законы обязывают сами по себе, они не могут противоречить друг другу.
Baumgarten предполагает три принципа, которые принимаются за аксиомы морали:
1) honeste vive,
2) neminem laede,
3) suum cuique tribue.
Первый принцип, honeste vive, может считаться всеобщим принципом этики, поскольку мотив исполнения его обязательности – не принуждение, а внутренняя мотивация.
Honestas означает поведение, которое является почетным, а также свойство человека, который так поступает. Этот принцип гласит: «делай то, что составляет для тебя предмет уважения и почтения».
Все наши обязанности перед самими собой вызывают уважение в наших собственных глазах и одобрение со стороны других. Чужая порочность вызывает ненависть, недостойность – презрение.
Таким образом, согласно этому принципу, следует показать, что человек достоин, так что, если это признано всеми, он заслуживает уважения и признания со стороны всех.
Напротив, противоестественные пороки таковы, что оскорбляют человечество в собственной личности; тот, кто их практикует, недостоин, и если это становится общеизвестным, он будет презираем.
Положительная оценка – это ценность тех действий, которые заслуживают похвалы, которые содержат больше, чем должны. Но эта оценка будет лишь не-недостойной, если речь идет об устранении всего вредного; это честно, но не заслуживает похвалы; это как минимум моральности, поскольку находится на шаг от подлости.
Поэтому очень плохо положение той страны, где честность переоценивается, поскольку, когда ее мало, она ценится еще больше.
Однако те действия, которые являются этическими, содержат больше, чем требует долг. Если, действуя, я делаю только то, что должен, я веду честную жизнь, но не заслуживаю никакой похвалы. Но если я делаю больше, чем должен, это действие достойно уважения и находится в сфере честности.
Следовательно, этот принцип этики возможен.
Два других принципа – neminem laede и suum cuique tribue – могут считаться принципами юридической обязанности, поскольку они относятся к принудительным обязанностям.
Оставить каждому свое означает: ты должен оставить каждому то, что он может потребовать от тебя по принуждению.
Оба принципа могут быть связаны с другим, поскольку, когда я отнимаю у кого-то его собственность, я причиняю ему вред.
Я могу причинить вред кому-то либо бездействием, если не дам ему его, либо действием, если отниму у него его.
Таким образом, я могу отнять у кого-то его собственность отрицательно и положительно. Отрицательная форма важнее, поскольку важнее не отнимать у другого его, чем не давать ему его.
Ущерб основывается, следовательно, на действии, которое противоречит закону другого, поскольку я причиняю вред лицу, которое имеет право требовать от меня что-то необходимое согласно всеобщим законам свободной воли.
В морали законы связаны с чужым счастьем. Ethice obligans respectu aliorum est felicitas aliorum, juridice obligans respectu aliorum est arbitrium aliorum.
Первое условие всякой этической обязанности – чтобы юридическая обязанность была предварительно удовлетворена.
Та обязанность, которая вытекает из права другого, должна быть удовлетворена предварительно, поскольку, если я нахожусь под юридической обязанностью, я не свободен, так как подчинен чужой воле.
Однако, если я хочу исполнить этический долг, тогда я хочу исполнить свободный долг; если я еще не свободен от юридической обязанности, я должен сначала освободиться от нее, исполнив ее, и только потом могу исполнить этический долг.
Многие оставляют свои обязательные обязанности, желая исполнить заслуженные. Так поступает тот, кто, совершив множество несправедливостей и отняв у многих их имущество, в конце концов жертвует свои богатства больнице. Но пронзительный и непреклонный голос торжественно провозглашает, что человек еще не исполнил всего, что обязан был сделать по долгу, и это нельзя обойти, так что такие заслуженные деяния становятся еще большими преступлениями, поскольку они предложены как взятка Высшему Существу для смывания вины. Таким образом, счастье не является главной мотивацией всех обязанностей. Поэтому никто не может сделать меня счастливым против моей воли " , не совершив несправедливости по отношению ко мне. Один из способов принудить другого – навязать ему, как он должен быть счастлив; такова уловка знати по отношению к подданным.
О законодателе.
Следует различать моральный закон и прагматический закон. В первом смысл заключается в намерении, во втором – в действиях. Поэтому власти обязывают к действиям, а не к намерениям. Прагматические законы могут быть даны, это легко проанализировать, но если кто-то может устанавливать моральные законы и повелевать нашими намерениями – которые не в его власти – это требует тщательного рассмотрения. Тот, кто провозглашает, что закон – согласно его воле – обязывает другого, дает закон. Не всегда законодатель является также автором закона; только если законы условны. Если законы практически необходимы, тот, кто их провозглашает – так, чтобы они соответствовали его воле – является лишь законодателем, но не их автором. Нет ни одного существа, даже божественного, которое было бы автором моральных законов, поскольку они происходят не из произвола, а практически необходимы; эти законы не были бы необходимы, если бы могло случиться так, что ложь стала добродетелью. Однако моральные законы могут находиться под законодателем; может существовать существо, обладающее всей силой и властью, чтобы исполнять эти законы, и способное объявить, что этот моральный закон одновременно является законом его воли и обязывает всех действовать согласно ему. Таким образом, это существо – законодатель, но не автор закона. Подобно тому, как Бог не является причиной того, что треугольник имеет три угла.
Дух моральных законов заключается в чувствах, и моральные законы также могут рассматриваться как божественные, поскольку воля Бога соответствует им. Однако моральные законы могут также рассматриваться как прагматические законы Бога, поскольку мы видим только действия, предписанные в законах; моральный закон требует, например, способствовать счастью всех людей, и этого же хочет Бог; действуя согласно моральному закону и творя милосердие с целью, чтобы Бог вознаградил нас за это, я действую не из моральных чувств, а ради вознаграждения от божественной воли. Поскольку человек прагматически удовлетворяет божественный закон, но все же исполняет его, ему обещано великое счастье, так как он сделал то, что хотел Бог, даже если чувство было нечистым. Но Бога интересует только то, чтобы душевный настрой соответствовал морали и, следовательно, его воле, становясь таким образом законом. Действие, совершаемое в соответствии с моралью, есть наибольшее соответствие божественной воле. Таким образом, мы рассматриваем Бога не как прагматического законодателя, а как морального.
О наградах и наказаниях.
Не следует путать praemium in с merces. Praemia бывают либо auctorantia, либо remunerantia. Auctorantia – это те награды, которые являются мотивами для действий, так что действие совершается исключительно ради обещанного вознаграждения; remunerantia – это награды, которые не являются мотивами для действий, совершаемых ради доброго расположения духа, ради чистой морали. Первые – стимулирующие награды, вторые – воздающие. Таким образом, praemia auctorantia не могут быть moralia, тогда как praemia remunerantia могут. Auctorantia прагматичны, а remunerantia моральны. Тот, кто совершает действие ради физического благополучия, то есть исключительно ради ожидаемого вознаграждения, лишен морали в своих aedones и, следовательно, не может ожидать praemia remunerantia, а только auctorantia. Но aedones, совершаемые ради добрых чувств и чистой морали, могут получить praemia remunerantia. Praemia auctorantia – это лишь естественные и предсказуемые последствия; например, здоровье – это praemium auctorans умеренности; но я также могу быть умеренным из моральных побуждений. Так, когда честность проявляется ради выгоды и одобрения, она получает praemium auctorans. Тот, кто действует из моральных побуждений, заслуживает praemium remunerans. Эти praemia больше, чем auctorantia, поскольку в этом случае речь идет о соответствии действия морали, а это – высшее достоинство счастья. Поэтому praemia moralia должны быть больше, чем pragmatica. Praemia moralia обладают добротой. Морально доброжелательный человек заслуживает бесконечной награды и счастья, поскольку всегда готов совершать добрые дела. Нехорошо, если в религии представлены praemia auctorantia и если нужно быть моральным, потому что в будущем будешь вознагражден, ведь ни один человек не может требовать, чтобы Бог вознаградил его и сделал счастливым. Человек может надеяться на награду от Высшего Существа, Которое знает, как возместить ему это; однако эта компенсация не должна быть мотивом его действия. Человек может надеяться быть счастливым, но эта надежда не должна мотивировать его, а лишь утешать. Тот, кто живет морально, может ожидать награды за это, но не должен позволять этому мотивировать себя, поскольку люди не имеют адекватного представления о будущем счастье; никто не знает, в чем состоит то, что провидение тщательно скрывает от нас. Если бы человек знал это счастье, он желал бы достичь его как можно скорее. Но поскольку никто не обладает таким знанием, всегда хочется оставаться здесь как можно дольше, и хотя каждый жаждет этого будущего счастья – которое ценит гораздо больше, чем эту жизнь, полную страданий – также верно, что никто не хочет ускорить свое вступление в него, думая, что еще слишком рано его достигать, и, кроме того, естественно желать больше испытать эту настоящую жизнь, поскольку она может быть познана и ощущена более ясно. Поэтому бесполезно представлять praemia как auctorantia, хотя они должны быть представлены как remunerantia, и этого ожидает каждый человек, ведь моральный закон несет это обещание для субъекта, обладающего добрыми моральными чувствами, даже если ему не разъясняли и не рекомендовали эти praemia remunerantia. Каждый честный человек имеет эту веру, и невозможно быть честным, не ожидая одновременно – по аналогии с физическим миром – что он также будет вознагражден. По той же причине, по которой он верит в добродетель, он верит и в награду.
Merces – это воздаяние, которое можно по праву требовать от кого-то. Не следует путать воздаяние с наградой. Когда кто-то ожидает своего воздаяния, он требует его от другого по долгу. Мы не можем требовать от Бога никакого воздаяния за наши действия, поскольку Ему не важно, сделали ли мы добро, а важно, чтобы мы делали все возможное из того, что обязаны делать. Конечно, если мы не должны ожидать никакого воздаяния от Бога как заслуги, мы можем ожидать praemia gratuita, которые все же можно считать воздаянием, особенно по отношению к другим людям, перед которыми мы совершили добрые дела. Мы можем считать Бога Тем, Кто оплачивает все долги людей, вознаграждая те заслуженные действия, которые совершены ради пользы других и которые мы не были обязаны делать. Таким образом, наши действительно заслуженные действия не являются таковыми по отношению к Богу, а только по отношению к другому человеку. Этот человек имеет столько общего с моим долгом, что не может возместить мне ничего; Бог должен возместить все, ибо, как говорит Евангелие: «Если вы сделали что-то для нуждающихся, вы сделали это для Меня…». Таким образом, человек заслуживает воздаяния от других людей, хотя именно Бог воздает ему. Не следует представлять здесь фантастическую чистоту морали, устраняя все заслуженные действия. Ведь Бог желает счастья всех людей и, конечно, чтобы оно было достигнуто через них самих, и если бы все люди совместно и единодушно стремились к своему счастью, мог бы возникнуть рай в Новой Зеландии. Бог помещает нас на сцену, где мы можем делать друг друга счастливыми, и это зависит только от нас. В том, что люди страдают от бедствий, виноваты они сами. Человек часто терпит нужду, но не по божественной воле. Однако Бог допускает это, чтобы показать людям, что они могли бы избежать этой нужды, помогая друг другу. Бог определил нас помогать друг другу. На этом основан принцип Баумгартена: «Делай то, что принесет тебе наибольшее вознаграждение, даже если это явно противоречит морали». Мотивация отдается на откуп тому, кто предложит больше. Однако правильно было бы сказать: «делай то, что достойно наибольшей награды».
Наказание вообще – это физическое зло, назначаемое кому-то из-за морального зла, которое он совершил. Наказания бывают либо предупредительными, либо возмездными. Предупредительные объявляются, чтобы зло не произошло. Возмездные – потому что зло уже случилось. Таким образом, наказания – это средства предотвращения или искупления зла. Все наказания, исходящие от власти, носят предупредительный характер, служа уроком для самого нарушителя или примером для других. Однако наказания от существа, которое карает действия согласно морали, являются возмездными.
Наказания относятся либо к уголовной справедливости, либо к благоразумию законодателя. Первые – моральные наказания, вторые – прагматические. Моральные наказания назначаются согласно совершенному проступку, являясь следствием морального нарушения. Прагматические назначаются с целью предотвращения проступка, служа средством предупреждения преступления. Баумгартен называет прагматические наказания poenae medicinales. Они бывают correctivae или exemplares. Correctivae применяются для исправления преступника, и это – animadversiones. Exemplares служат примером для других. Все наказания, налагаемые князем и властью, прагматичны и служат для исправления или устрашения. Власть наказывает не потому, что было совершено преступление, а чтобы преступления не совершались. Однако преступник, независимо от этого, заслуживает наказания за содеянное. Эти наказания, которые необходимо вывести из действия, – моральные, poenae vindicativae. Подобно тому, как награда следует за хорошим поступком не для того, чтобы поощрять дальнейшие хорошие поступки, а потому, что поступок был хорошим.
Если сравнить наказания и награды, мы увидим, что ни те, ни другие не должны рассматриваться как мотивы действий. Награды не должны быть мотивом для совершения добрых дел, а наказания – мотивом для отказа от дурных поступков, поскольку в таком случае они порождают низменное состояние духа, indoles abyecta. У тех, кто совершает добрые дела ради награды, это называется indoles mercennaria, а у тех, кто воздерживается от дурных поступков из страха перед наказанием – indoles servilis; обе формируют indoles abyecta. Мотивация должна быть моральной. Мотив совершения доброго дела не должен заключаться в награде, а само действие должно быть вознаграждено, потому что оно хорошее. Точно так же основание для отказа от дурных поступков не должно заключаться в наказаниях, а мы должны воздерживаться от них, потому что они дурны. Награды и наказания – это субъективные мотивы, которые появляются, когда объективные не действуют; они служат лишь для восполнения недостатка морали. Прежде всего, субъекта нужно приучить к морали. В первую очередь, прежде чем подталкивать человека наградами и наказаниями, следует пробудить indoles erecta, необходимо пробудить моральное чувство, чтобы субъект мог быть тронут моральными мотивами, и, главное, следует избегать вспомогательного обращения к субъективным мотивам наказаний и наград. Тот, кто получает награду за добрые дела, снова будет совершать добрые дела не потому, что они добрые, а потому, что они вознаграждаются, а тот, кто наказан за дурной поступок, ненавидит не дурные поступки, а наказания; так что он продолжит совершать дурные поступки, пытаясь хитростью избежать наказаний. Следовательно, нехорошо в религии рекомендовать воздерживаться от дурных поступков из-за мотивации вечного наказания, поскольку в таком случае каждый будет совершать дурные поступки, думая в конце избежать наказаний через внезапное обращение. Награды и наказания могут служить лишь косвенно как средство морального воспитания. Тот, кто совершает добрые дела ради награды и таким образом привыкает к добрым поступкам, возможно, в конце концов станет совершать их, не обращая внимания на награду, а только потому, что они добрые. Тот, кто воздерживается от дурных поступков из-за наказания, привыкает к этому и находит, что лучше отказаться от таких действий. Если алкоголик бросает пить, потому что это вредит ему, он привыкает к этому, так что потом бросит даже без вреда, а просто потому, что считает, что лучше быть умеренно пьющим, чем пьяницей. Награды более соответствуют морали, поскольку, совершая действие, я делаю это потому, что его последствия приятны, и могу любить закон, который обещает мне награду; однако я не могу так же любить закон, который угрожает наказаниями. Любовь – огромная мотивация для действия. Поэтому в религии лучше начинать с наград, чем с наказаний. Тем не менее, наказания должны соответствовать indoles erecta, благородному образу мыслей, а не быть низменными и позорными. Иначе они порождают вялое состояние духа.
«De imputatione».
Всякая импутация есть суждение – вынесенное в соответствии с определёнными практическими законами – о действии, поскольку оно является результатом свободы лица. Следовательно, в импутации мы должны учитывать свободное действие и закон. Мы можем приписывать что-то лицу, не доводя до импутации; например, мы можем приписывать действия безумцу или пьяному, но не можем их импутировать. В импутации действие должно происходить из свободы. Действительно, действия пьяного нельзя ему импутировать, а лишь само опьянение. В импутации должны сочетаться свободное действие и закон. Акт есть свободное действие, подчинённое закону. Оценка акта – это imputatio facti; оценка закона – imputatio legis.
В imputatio facti содержатся momenta facti, то есть различные аспекты акта, составляющие основание импутации. Эти momenta являются elementa fundamenti, компонентами импутативного основания, они суть in facto momenta импутации. Momenta facti не предоставляют никакой импутации, но являются её основанием. Momenta бывают либо essentialia, либо extra essentialia. Momenta essentialia должны быть предварительно собраны; когда все momenta essentialia in facto перечислены, мы получаем species facti, то, что свойственно акту. Extra essentialia facti не являются momenta facti и не принадлежат к species facti. В imputatio facti не должна одновременно присутствовать imputatio legis; например, кто-то мог убить другого, но не совершить убийства. Вопрос, прежде всего, в том, совершено ли действие им. Когда акт должен быть импутирован закону, происходят две одновременные импутации. Imputatio legis состоит в вопросе, находится ли действие под тем или иным практическим законом. Здесь вопрос в том, можно ли импутировать кому-то то, что он должен был сделать в силу закона; например, можно ли импутировать генералу смерть множества врагов, павших на поле боя? Безусловно, смерть – да, но не убийство. Здесь следует учитывать, что, поскольку его действие не было свободным, а принуждённым законом, оно не может быть ему импутировано. Оно может быть импутировано, если речь идёт о свободном действии, но не о действии, предписанном законом, то есть навязанном законом.
Всякая импутация вообще происходит либо in meritum (заслуга), либо in demeritum (вина). Последствия или результаты действия могут быть или не быть импутированы субъекту.
Об импутации последствий.
О ДЕЙСТВИЯХ
С другой стороны, мне могут быть импутированы все последствия действия, насколько я делаю больше или меньше того, что должен. Если я делаю больше, чем должен, последствие будет мне импутировано как meritum; например, досрочная выплата, благодаря которой должник получает огромное счастье, может быть мне импутирована со всеми последствиями, ибо я сделал больше, чем должен. Точно так же последствие действия будет мне импутировано как demeritum, если я сделаю меньше, чем должен; когда кто-то говорит, например: «Если бы ты не откладывал так долго выплату долга, я бы не впал в несчастье», – в этом случае мне нельзя импутировать это несчастье, потому что у меня не было обязанности так поступать. Но тот, кто действует вопреки долгу, делает меньше, чем должен, и тогда это ему импутируется, ибо в таком случае он действует свободно и даже против обязывающего закона, следовательно, неправильно использует свободу, так что все последствия могут быть ему законно импутированы, поскольку действовать вопреки долгу предполагает бо́льшую свободу.
Juridice последствия того действия, к которому человек был обязан, не импутируются как in demeritum, ибо в этом случае он не был свободен; действительно, мне импутируется сам акт, но не его несправедливость. Поскольку человек свободен в осуществлении своих моральных действий, следовательно, ему могут быть импутированы все последствия, проистекающие из таких действий; но последствия, вытекающие из воздержания от моральных действий, не могут быть импутированы, ибо воздержание от того, что я не обязан делать, не считается действием; например, если я не произвёл выплату до оговоренного срока, мне не может быть импутировано несчастье, которое из этого может последовать, поскольку я не был обязан это делать. Если я не делаю то, что должен был сделать, тогда это действие, и оно может быть мне импутировано; например, я должен погасить свой долг и не делаю этого – это может быть мне импутировано.
Таким образом, этические упущения не составляют никакого действия; однако юридические упущения суть действия и могут быть импутированы, поскольку они представляют собой воздержание от того, к чему я могу быть принуждён законом, тогда как к этическим я не могу быть принуждён, ибо никто не может принудить меня к благотворительности. В конечном счёте, ключ ко всей импутации в отношении последствий – это свобода.
Основания моральной импутации.
Imputatio moralis может иметь место как в юридических, так и в этических законах и состоит в meritum и demeritum. Соблюдение юридических законов и нарушение этических могут быть импутированы либо как meritum, либо как demeritum. Например, когда я выплачиваю свой долг – что есть юридический закон – это была моя обязанность, к которой я мог быть принуждён законом, и, совершая это, я не сделал ничего, кроме того, что должен был; следовательно, соблюдение юридического закона и все его последствия не могут быть мне импутированы как meritum. Однако, нарушая этический закон, я не сделал того, к чему не мог быть принуждён; не сделать то, к чему законы не принуждают, то, к чему не обязан, не является упущением; следовательно, нарушение этических законов не может быть мне импутировано как demeritum и тем более как meritum – например, если невыплата аванса стимулировала инициативу кредитора, хорошие последствия моего воздержания не могут быть мне импутированы как meritum. Нарушая юридический закон, я не делаю то, к чему могу быть принуждён, следовательно, меньше, чем должен, что приносит мне demeritum; поэтому в отношении юридических законов никакое действие не составляет meritum, ни награды, ни наказания. Только в отношении этических законов всякое действие есть meritum, ибо этические законы не являются принудительными, и их нарушение, следовательно, не есть demeritum.











