Читать онлайн От Станиславского до Голливуда. Школы актёрского мастерства: традиции, техники и практика
- Автор: Александр Логвинов
- Жанр: Досуг и творчество, Кинематограф, Театр, Прочая образовательная литература
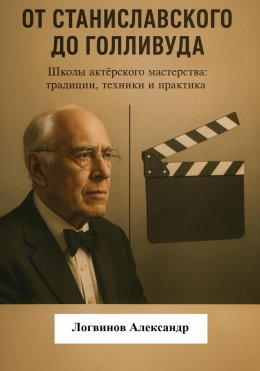
Введение: Зачем нужны актёрские школы
Актёрское мастерство – это искусство перевоплощения. Оно позволяет человеку играть самые разные роли, управлять своими эмоциями и достоверно передавать чувства на сцене или экране. Однако такие умения не возникают сами собой – их развивают в школах актёрского мастерства. Цели подобного обучения выходят далеко за рамки простого разучивания ролей. В актёрских школах ученики приобретают базовые навыки актёра: концентрацию внимания, богатое воображение, работу с эмоциональной памятью, владение телом и речью. Всё это помогает актёру убедительно существовать в любой роли, а не механически воспроизводить текст.
Основные задачи актёрских школ включают в себя развитие творческого мышления и креативности, раскрепощение психофизики (снятие телесных и речевых зажимов), умение работать в команде и самое главное – воспитание искренности в игре. Выпускники хороших актёрских программ умеют “проживать” эмоции, а не просто изображать их, благодаря чему их персонажи выглядят правдивыми и живыми. Эти умения ценны не только на сцене, но и в жизни – они развивают харизму, уверенность, коммуникативные навыки.
Таким образом, актёрская школа – это не только место, где учат актёрской технике, но и творческая лаборатория, помогающая раскрыть индивидуальность будущего артиста. Ниже мы рассмотрим основные мировые школы актёрского мастерства – их историю, принципы и различные подходы к обучению, а также проанализируем их плюсы и минусы. Особое внимание мы уделим российской актёрской традиции, восходящей к Станиславскому, и её влиянию на мировую сцену.
Глава 1. Станиславский и рождение современной актёрской школы
Основоположник современной актёрской педагогики Константин Станиславский (1938 год) заложил фундамент реалистической актёрской игры, требуя от актёра полной правды переживаний на сцене. Станиславский – русский театральный режиссёр и теоретик, чья система произвела настоящую революцию в подготовке актёров в начале XX века. До него театр нередко грешил штампами: актёры вещали с подмостков громкими голосами, не особенно вживаясь в образ. Станиславский же мечтал о “живой жизни” на сцене, когда актёр не играет, а живёт в роли. Его система стала первым целостным методом драматического тренинга и остается базой профессионального обучения актёров до сих пор.
Главные принципы системы Станиславского можно сформулировать так:
Правда переживаний. Актёр должен испытывать подлинные эмоции, соответствующие состоянию персонажа, а не внешне имитировать их. Станиславский учил искать в своей памяти жизненные переживания, вызывающие нужные чувства, и переносить их в роль.
Предлагаемые обстоятельства. Актёр подробно прорабатывает обстоятельства жизни героя: кто он, где находится, какое время и ситуация. Это помогает действовать убедительно в логике пьесы.
Цель и задача. У каждого персонажа есть сквозная цель и конкретные задачи в каждой сцене. Актёр должен понять, зачем его герой совершает каждое действие на сцене.
Игра “здесь и сейчас”. Даже сотый спектакль должен выглядеть свежо, как будто всё происходит впервые. Для этого актёр учится заново переживать каждую сцену каждый раз, реагируя на происходящее в моменте.
Работа над собой. Станиславский требовал от актёров постоянного самосовершенствования – ежедневных тренировок голоса, тела, эмоционального диапазона. Дисциплина и постоянный рост – залог мастерства.
Взаимодействие с партнёром. Игра – не монолог, а живой обмен. На сцене важно настоящее слушание и реагирование на действия других актёров, создание ансамбля.
Следуя этим принципам, актёры МХТ под руководством Станиславского достигали беспрецедентной правды игры. Театральные образы обрели психологическую глубину, а зрители впервые увидели на сцене настоящие человеческие чувства вместо условных штампов. Сама идея “вживаться в роль” при каждом исполнении стала революционной. Станиславский назвал свой подход «искусством переживания» и противопоставил его старому «искусству представления», когда актёр лишь формально изображал эмоции.
Впоследствии система Станиславского продолжала развиваться. Если ранние работы делали упор на эмоциональную память, то позже мастер ввёл метод физических действий – путь к образу через внешнее действие. Он стремился минимизировать бесплодные рассуждения за столом и сразу переходить к активному проживанию сцен в импровизации: “Лучший анализ пьесы – это действия в предлагаемых обстоятельствах”, – утверждал он. Этот сдвиг подчеркнул, что истинные чувства рождаются из конкретных поступков на сцене, и позволил актёрам избавляться от излишней психологической зажатости через физическое поведение.
Влияние системы Станиславского оказалось поистине глобальным. Его ученики разнесли новые идеи по всему миру, а книги Станиславского были переведены на десятки языков. К середине XX века принципы Станиславского стали фактически синонимом реалистической актёрской игры; многие актёры используют их, даже не зная об этом. В Советском Союзе система была канонизирована как основа театральной педагогики. В Европе и особенно в США она дала начало целому ряду собственных школ и техник, о которых речь пойдёт ниже.
Важно понимать, что сам Станиславский не считал свою систему догмой. Он говорил, что она – набор инструментов, которыми актёр должен пользоваться творчески. “Мне не нужны знаменитые приёмы, мне нужны искренние вопросы и ответы на них” – писал он, подчёркивая, что механическое выполнение упражнений не приведёт к цели без живого поиска. Действительно, его последователи в разных странах часто делали акцент на разных элементах системы. Это породило многообразие подходов, которые, однако, всё восходят к единому корню – открытиям Константина Станиславского.
Глава 2. Михаил Чехов: воображение и психофизика
Одним из самых известных учеников Станиславского был Михаил Чехов – племянник писателя Антона Чехова, талантливый актёр МХТ. В 1920-х годах Михаил Александрович начал разрабатывать собственную технику, отталкиваясь от идей своего учителя, но предлагая иной путь к роли. В центре метода Чехова – концепция “психологического жеста”. Этот подход позволяет актёру не просто анализировать внутренний мир героя интеллектуально, а проникать в психологическое состояние персонажа через физическое действие. Проще говоря, Чехов предложил идти “от внешнего к внутреннему”: подобрать характерный жест, походку, манеру движения для роли, и через этот телесный образ войти в эмоциональную природу героя.
Свою систему Михаил Чехов описал в книге «О технике актёра». Он считал, что излишне жёсткая дисциплина и самокопание по Станиславскому могут подавлять живость актёра. Известно, что, строго следуя ранним упражнениям Станиславского, Чехов однажды заработал нервный срыв и проблемы со здоровьем. Это заставило его переосмыслить методы учителя. Чехов сделал упор на развитии воображения, освобождении творческой природы актёра. Его техника более гибкая и адаптивная к реальной жизни актёра, хотя и основывается на тех же целях – достижении правды в образе.
Шесть принципов Михаила Чехова включают работу с воображением и вниманием, ощущение атмосферы, применение психологического жеста, преобразование физического образа и импровизацию. В отличие от Станиславского, требовавшего переживать эмоции изнутри, Чехов предлагал изображать переживания героя, не пропуская все эмоции через себя. Например, вместо того чтобы вспоминать личную трагедию для сцены плача, актёр по Чехову должен представить себе образ ситуации героя настолько ярко, чтобы эмоционально откликнуться на эту воображаемую реальность. Такой внешний подход часто безопаснее для психики актёра и не менее эффективен на сцене.
Метод Чехова особенно ценен при работе над образами, далекими от личного опыта актёра, и в жанрах, требующих выразительной формы (сказка, фэнтези, комедия положений). Его “психологический жест” – находка для создания ярких и точных характеров. Недаром техника Чехова привлекла многих известных западных актёров – её активно использовали, к примеру, Энтони Хопкинс и даже режиссёр-актёр Клинт Иствуд. Эти мастера отмечали, что метод Чехова помогает им создавать сложные, многослойные образы, оставаясь при этом психологически комфортным.
Михаил Чехов эмигрировал из СССР в 1928 году и позже преподавал свою технику в Европе и Голливуде. Его учеником была знаменитая Мэрилин Монро – одна из самых ярких звезд, кто постигал актёрское мастерство именно по методу Михаила Чехова. Наследие Чехова существенно повлияло на американский кинематограф 40–50-х годов. Сегодня элементы его системы (работа с воображением, атмосфера сцены, центрирование внимания на физических ощущениях) включены во многие учебные программы. Метод Чехова – прекрасное дополнение к системе Станиславского, дающее актёрам ещё один инструмент для постижения роли через творческую фантазию и тело.
Глава 3. Американский «Метод»: Ли Страсберг и последователи
В 1930-х годах идеи Станиславского пересекли океан и вдохновили группу молодых американских театральных деятелей. В Нью-Йорке возник Group Theatre – экспериментальная труппа, участники которой первыми в США начали работать по системе Станиславского. Именно там три педагога – Ли Страсберг, Стелла Адлер и Сэнфорд Майзнер – впервые сформулировали принципы того, что позже назовут “Метод” (Method Acting). Методическое тренинг, который они разработали, был нацелен на то, чтобы актёр создавал максимально искренние, эмоционально насыщенные образы, полностью отождествляясь с персонажем.
Главная идея «Метода» – заставить актёра идентифицировать себя с героем, прочувствовать его внутренний мир и мотивации как свои собственные. Для этого применялись техники, построенные на системе Станиславского, но с американским уклоном. Ли Страсберг делал упор на психологических аспектах: детальной разработке эмоциональной памяти, воспоминании личных переживаний для обогащения роли, длительных импровизационных этюдах. Стелла Адлер, напротив, акцентировала социологические аспекты: анализ обстоятельств пьесы, изучение жизни персонажа, развитие воображения вместо травмирующих автобиографических поисков чувств. Сэнфорд Майзнер сосредоточился на поведенческих аспектах: тренировал у актёров спонтанность реакции, умение слушать и откликаться на партнёра, не “уходя в себя”.
Ли Страсберг стал самым известным представителем этого направления, и сам термин «Method Acting» часто ассоциируется прежде всего с его школой. Метод Страсберга можно кратко охарактеризовать как искусство глубокого эмоционального погружения актёра в образ. Страсберг добивался, чтобы артист на время роли как бы превращался в своего героя – жил его чувствами, мыслями, даже вне сценической площадки. Для тренировки этой способности Страсберг ввёл упражнения на релаксацию (снятие физических зажимов), на концентрацию внимания и работы чувств – например, знаменитые этюды с воображаемыми чашками кофе, где актёр должен “почувствовать” невидимый предмет. В результате такой практики актёры приобретали невероятную эмоциональную открытость и реагировали на вымышленные обстоятельства с подлинной силой.
Преимущество метода – в создании неподдельно эмоциональных и правдоподобных персонажей на экране. Неудивительно, что когда этот стиль игры проник в Голливуд, он произвёл эффект взрыва. Молодое поколение послевоенных звёзд – Марлон Брандо, Джеймс Дин, Мэрилин Монро, Монтгомери Клифт, позже Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Дастин Хоффман – принесло на экран новую, режущую правду эмоций. Так, Марлон Брандо, обучавшийся у Стеллы Адлер, стал знаменитым пионером этой реалистической манеры: его игра в «Трамвае “Желание”» и «В порту» поразила зрителей непосредственностью и силой переживания. Брандо фактически популяризовал систему Станиславского в кинематографе – через него о “методе” узнал весь Голливуд. Учениками самого Ли Страсберга были такие легенды кино, как Джеймс Дин и Аль Пачино, которые переняли его стремление к абсолютной правдивости на сцене и экране. Например, Пачино и в зрелые годы нередко работал над ролями по-страсберговски, доводя себя до нужного эмоционального состояния методом физических и психологических провокаций.
Однако Метод Страсберга – лишь одна грань американской школы. Стелла Адлер, единственная из этой троицы, кто лично встречался со Станиславским, категорически не принимала идею копания в собственных психологических травмах. После беседы со Станиславским в 1934 году (он тогда уже отошёл от упора на эмо-память) Адлер разработала свой курс, где акцент делался на воображении, исследовании обстоятельств пьесы и разработке характера через внешние детали. Она учила актеров черпать вдохновение не в личных переживаниях, а в материале роли, в воображаемых обстоятельствах. Брандо, учившийся у Адлер, вспоминал, что именно она раскрыла ему секрет: богатое воображение важнее, чем пережитая боль











