Читать онлайн Психология девиантного поведения
- Автор: Владимир Менделевич
- Жанр: Клиническая психология, Психиатрия
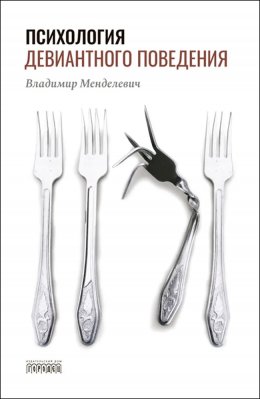
Предисловие
Предлагаемое учебное пособие «Психология девиантного поведения» – плод долгих раздумий и исследований автора. В нем нашли отражение воззрения и подходы, появившиеся в отечественной психологической науке в последние годы, когда психологическая практика предъявила требования к созданию обоснованной платформы для осмысления механизмов формирования поведенческих девиаций и создания эффективных методов их коррекции и терапии. Существующая на протяжении многих лет неоднозначность ситуации в области оценки отклоняющегося поведения человека, в определении его границ, проявлений, в причислении к патологии или условной норме привела к тому, что эту сторону психической жизни индивида и соответствующую научно-практическую область психологии ученые стали обходить стороной. Психиатры, которые до возникновения психологии девиантного поведения занимались изучением исключительно патологической психической деятельности, вначале посчитали эту сферу знаний малозначимой в сопоставлении с учением о психозах, заполонивших психиатрическую науку и практику. Действительно, что в сравнении с шизофренией гемблинг (увлечение азартными играми)? Следствием гемблинга может стать лишь утрата денег, а следствием шизофрении – утрата личности и здоровья.
По мере естественного сужения сфер влияния психиатрии за счет становления клинической психологии и передачи в ее ведение значительной части так называемой «малой психиатрии», «большая психиатрия» начала экспансию в смежные научные области. Девиантные формы поведения, которые ранее расценивались ею как несущественные и малозначимые, стали рассматриваться как важные в плане предрасположенности к тяжелым психическим заболеваниям и были названы донозологическими (предболезненными) формами психических расстройств. Заметьте, не феноменов, а именно расстройств. Современная мировая психиатрия раскрыла себя в новых международных классификациях – сначала в МКБ-10, теперь в МКБ-11[1]. Из прежней классификации психических заболеваний (т. е. нозологических форм) она превратилась сегодня в классификацию психических и поведенческих расстройств (т. е. симптомов). С одной стороны, подобную метаморфозу можно приветствовать, поскольку наконец психиатрия стала переходить с ортодоксальных на феноменологические позиции; с другой – включение в сферу деятельности психиатрии поведенческих расстройств, которые автоматически стали как бы симптомами (ведь медицина занимается патологией и изучать здоровье не вполне подготовлена), следует признать по меньшей мере спорным. Сегодня, основываясь на новой классификации, врач-психиатр имеет возможность ставить такие диагнозы, как: ковыряние в носу и сосание пальца (шифр F98.8), речь взахлеб (шифр F98.6) и кусание ногтей. Но диагносту не предоставлены медицинские критерии для разграничения, например, поведенческого расстройства в виде ковыряния в носу и привычки ковырять в носу. Особо следует отметить тот факт, что врачу-психиатру не предписывается, как прежде, использовать научные термины. Достаточно простой констатации факта, облеченной в форму обыденных выражений. Но ведь известно, что медицинский подход к терминологической оснащенности специалиста должен отличаться жесткостью, точностью и четкостью. Около 80 % всех используемых в медицине терминов имеют латинское или греческое происхождение, что признается единственно правильным и должно способствовать отделению науки от паранауки или других наук.
Таким образом, можно утверждать, что сугубо психиатрическая парадигма в оценке отклоняющегося (не всегда относящегося к симптомам и расстройствам) поведения не способна быть объективной, и этот путь развития психологии девиантного поведения следует причислить к тупиковым.
Попытки ортодоксальной психологии в противовес психиатрии заняться изучением поведенческих девиаций и организацией помощи людям с подобными отклонениями также следует признать неудачными. Причина неудач кроется в стремлении априорно развести психологию и психопатологию девиантного поведения, заранее разделить психические и поведенческие расстройства, с одной стороны, и отклонения – с другой. Как следствие, предлагалось приписать психиатрии сферу психопатологии девиантного поведения, а психологии – условной нормы. Но ведь проблема как раз и заключается в диагностике и уже потом – в способах оказания помощи. Нельзя решить лишь на основании внешних клинических признаков отклонения поведения, болен девиант психически или нет. Нельзя составить реестр однозначно психопатологически или стопроцентно психологически обусловленных девиаций. Попытки разделить психологию и психопатологию девиантного поведения до того, как проанализирован конкретный случай и определены мотивы выбора человеком подобного стиля поведения, являются нонсенсом. Да к тому же ортодоксальная психология не имеет инструмента для научно обоснованной диагностики и коррекции наблюдающихся особенностей поведения. Она предполагает, что диагностическая парадигма должна быть следующей: вначале психиатры должны отвергнуть «свою патологию», а затем психологи анализируют случай и оказывают психологическую помощь.
Каждодневная клиническая практика автора – психиатра, психотерапевта, сексопатолога, нарколога и клинического психолога в одном лице, невозможность заранее (до встречи со страждущим) предугадать, с пациентом или клиентом придется общаться и какую именно помощь оказывать (психофармакологическую, психотерапевтическую, собственно психологическую), заставили по-новому взглянуть на проблему отклоняющегося поведения. Суть этого нового взгляда выражается в убеждении, что ортодоксальность и консерватизм наук о психике, искусственное разведение специальностей (психиатрии и психологии) приводит к сужению поля научного видения проблемы и снижению эффективности помощи лицам с неадекватным и некомфортным для них и их окружения поведением.
Люди с отклоняющимся поведением могут иметь психические расстройства и быть психически больными, а могут быть душевно здоровыми. Такова реальность. В первом случае их поведенческая девиация имеет непосредственную связь с психической патологией, вытекает из нее и требует в основном психофармакологического лечения. Во втором – базируется на внутриличностном или межличностном конфликте, отражает какую-либо личностную «деформацию» и подразумевает необходимость коррекции с помощью методов психологического воздействия. Проблема изучения механизмов поведенческих отклонений становится значимой после того, как подобное поведение однозначно причислено к девиантному, определены его опознавательные клинические признаки и изучены индивидуально-психологические особенности девианта.
Часто бывает так, что девиант нуждается и в психотерапии, и в психокоррекции, и в психологическом консультировании, и в психофармакологическом сопровождении. Поэтому феноменологический подход к изучению психологии человека с девиантным поведением мы считаем единственно верным и научно обоснованным. Все остальные подходы позволяют рассмотреть и проанализировать лишь часть проблемы, а не проблему в целом.
Вторая особенность нашего подхода заключается в убежденности, что девиантное поведение не является атрибутом исключительно подросткового периода (как считалось раньше). Даже деликты способна совершать не только молодежь, но взрослые и пожилые. Важен не возраст девианта, а суть девиации. Значимы механизмы возникновения и становления отклоняющегося поведения. Последние же имеют как общевозрастные закономерности, так и специфические особенности.
Новым направлением психологии девиантного поведения следует признать ее распространение на сферу виртуальной реальности. Сегодня многие формы отклоняющегося поведения предстают в интернет-пространстве и в социальных сетях. Встал вопрос о том, отличаются ли они от обычных девиаций и являются ли «сквозными», то есть захватывающими обе сферы общения – реальную и виртуальную.
Мы не претендуем на окончательность разработки теории и практики психологии девиантного поведения. Представленная автором позиция может рассматриваться как один из вариантов системного анализа данной проблемы и как попытка выделить психологию девиантного поведения из ряда родственных дисциплин. Альтернативные авторской точки зрения могли бы способствовать нахождению истины в научном споре и подлинному становлению новой научной дисциплины.
Данная работа не могла бы состояться без помощи коллег по работе – сотрудников кафедры психиатрии и медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета, которой я имею честь руководить, а также без традиций Казанской психиатрической школы, у истоков которой стоял В. М. Бехтерев.
Глава 1
Поведенческая норма, патология, девиации
Современное положение в сфере наук, изучающих поведение человека, можно обозначить скорее как противостояние, чем как сотрудничество. Поведенческие феномены подвергаются, как правило, пристрастному анализу корпоративных научных сообществ, что не приводит к получению истинных знаний о предмете, имеющем несомненно мультидисциплинарный характер.
Психология девиантного поведения – это междисциплинарная область научного знания, изучающая механизмы возникновения, формирования, динамики и исходов отклоняющегося от разнообразных норм поведения, а также способы и методы их коррекции и терапии. Данная дисциплина находится на стыке клинической психологии и психиатрии и для ее освоения требуются знания и навыки из этих научных областей.
Психология девиантного (отклоняющегося) поведения в данном контексте представляет собой типичный пример научной области, в которой знания, полученные учеными различных специальностей, до настоящего времени не привели к становлению отдельной научной дисциплины. Причиной тому – столкновение ортодоксально психологических и ортодоксально психиатрических взглядов на отклоняющееся от нормативного поведение. Отнюдь не риторическими остаются вопросы о том, следует ли относить девиации поведения к патологии (т. е. к признакам психических расстройств и заболеваний, обозначаемых как симптомы, синдромы) или же они должны быть признаны крайними вариантами нормы; являются ли девиации поведения этапами психопатологических нарушений (т. е. донозологическими психическими расстройствами) или между поведенческими болезненными расстройствами и девиантными формами поведения лежит пропасть; каковы причины (психогенез) отклоняющихся форм поведения: нарушения мозговой деятельности, навыков адаптивного поведения или социальных ожиданий; какие меры необходимы для восстановления адекватного поведения (если это возможно в принципе): психофармакологическая терапия или психологическая коррекция.
Для анализа механизмов поведенческих девиаций существенными являются знания, накопленные в таких областях, как клиническая психология, патопсихология, нейропсихология, возрастная и семейная психология, общая психология и психология личности, психиатрия, психосоматика, педагогика и некоторые другие.
До последнего времени отмечалась тенденция дистанцировать проблемы, изучаемые в рамках психологии девиантного поведения, от проблем смежных дисциплин, что приводило и приводит к одностороннему, пристрастному взгляду на сложные теоретические и практические вопросы отклоняющегося от общепринятых стандартов поведения. Наиболее распространена попытка противопоставить психологию и психопатологию девиантного поведения, четко разделить проблемы здоровой и больной психической деятельности, что с нашей точки зрения ошибочно. Следствием данного подхода является стремление выделять девиации «в рамках психической нормы» и при психопатологических расстройствах, последние из которых предлагается обозначить иным термином (не «девиация»). Ярким примером может служить неудачная попытка разделить такую проблему девиантного поведения, как употребление наркотических веществ, на собственно психологическую (когда существует лишь психологическая зависимость от наркотика) и медицинскую (в случае «злоупотребления» наркотиком, формирования физической зависимости и заболевания – наркомании).
Приведенный выше широко распространенный подход, основанный на ортодоксальных принципах, с одной стороны, не позволяет всесторонне объективно и беспристрастно анализировать механизмы психогенеза, т. е. психические процессы, ответственные за формирование девиаций, с другой – не дает возможности оказывать адекватную и эффективную помощь. Консерватизм данной позиции отражается в поиске альтернативы ответственности за формирование и исход девиации.
Предлагаемая читателям книга «Психология девиантного поведения» отражает попытку автора взглянуть на эту сложную и весьма актуальную проблему, отбросив узкопрофессиональные мерки, и определить место психологии девиантного поведения в системе наук, изучающих поведение человека (рисунок 1).
Рисунок 1
Можно утверждать, что психология девиантного поведения входит в спектр дисциплин, на одном из полюсов которого расположена психиатрия (психопатология и патопсихология), а на другом – общая психология. Принципиальное различие между дисциплинами, занимающими крайние положения спектра, заключается в подходах к диагностике и терапии девиаций поведения. Следует признать тот факт, что вероятность выявления психопатологической симптоматики и т. н. поведенческих расстройств существенно выше у представителя психиатрического, а не психологического сообщества. И это связано не столько с более широкими и глубокими знаниями психиатра в области психопатологии, сколько с его гипердиагностической парадигмой, противопоставляемой гиподиагностической парадигме психолога. Таким образом, один и тот же поведенческий феномен в виде девиации может трактоваться специалистами и как психопатологический симптом, и как психологический феномен.
Промежуточное положение в приведенной схеме занимают клиническая психология и психология девиантного поведения. Они отличаются (или должны отличаться) от ортодоксальных дисциплин, расположенных на крайних полюсах спектра, в первую очередь феноменологическим подходом к оценке нормы и патологии. В клинической феноменологии действует принцип «как – так», который отражается в убеждении в том, что за каждым поведенческим феноменом может скрываться как феномен, так и психопатологический симптом. Принцип «как – так» противостоит ненаучному принципу «либо – либо», исповедуемому ортодоксальными психиатрами и психологами, когда каждый поведенческий феномен пытаются строго закрепить либо за психической патологией, либо за нормой.
Диагностика девиантного поведения часто затруднена по причинам скорее субъективным, чем объективным. Это связано с тем, что попытки признания какого-либо поведения однозначно отклоняющимся и даже патологическим приводят к игнорированию основополагающего принципа диагностики девиантного поведения, нацеленного на учет реальности, окружающей человека действительности. Справедливо в связи с этим замечание McCaghy о том, что девиантное поведение – это не просто поведение, «отличающееся от норм или принятых в обществе стандартов», но и «не удовлетворяющее социальным ожиданиям». В свою очередь социальные ожидания обусловлены понятиями социального положения человека, этнической и культуральной принадлежности, возрастного диапазона, пола, профессии и пр.
Предметом изучения психологии девиантного поведения являются отклоняющиеся от разнообразных норм ситуационные реакции, психические состояния, а также развития личности, приводящие к дезадаптации человека в обществе и/или нарушению самоактуализации и принятия себя в силу выработанных неадекватных паттернов поведения. Для того чтобы оценить типы, формы и структуру девиантного (отклоняющегося) поведения, необходимо представлять, от каких именно норм общества они могут отклоняться. Норма – это явление группового сознания в виде разделяемых группой представлений и наиболее частных суждений членов группы о требованиях к поведению с учетом их социальных ролей, создающих оптимальные условия бытия, с которыми эти нормы взаимодействуют и, отражая, формируют его (К. К. Платонов). Выделяют следующие нормы:
• правовые;
• нравственные;
• эстетические.
Правовые нормы оформлены в виде свода законов и подразумевают наказание при их нарушении, нравственные и эстетические нормы не регламентированы столь строго, и при их несоблюдении возможно лишь общественное порицание. В первом случае можно говорить о том, что человек поступает «не по закону», во втором – «не по-людски». Отдельно в рамках каждой из вышеперечисленных общественных норм описывают нормы сексуального поведения. Это обусловлено повышенной значимостью сексуального, полоролевого, гендерно-ориентированного поведения человека, а также частотой девиаций и перверсий именно в этой интимной сфере жизнедеятельности человека. При этом нормы сексуального поведения регулируются как на уровне права, так и на уровне нравственности и эстетики. Кроме того, можно выделить и нормы психологически комфортного самочувствия (переживания), рефлексии, удовлетворенности собой, нарушение которых способно приводить человека к эмоциональному дискомфорту и появлению т. н. психологических комплексов. Индивид, становясь свободным и ответственным и формируя нормативное (не девиантное) поведение, осознанно принимает на себя ответственность за соблюдение «писаных» законов, которые предполагают сохранение прав и свобод окружающих его людей, а также «неписаных» норм – традиций и стереотипов поведения, принятых в той или иной микросоциальной среде. Девиантным поведением считается такое, при котором наблюдаются отклонения хотя бы от одной из общественных норм.
Поведенческая патология (по П. Б. Ганнушкину) подразумевает наличие в поведении человека таких признаков, как:
• склонность к дезадаптации;
• тотальность;
• стабильность.
Под склонностью к дезадаптации понимается существование паттернов поведения, не способствующих полноценной адаптации человека в обществе, в виде конфликтности, неудовлетворенности взаимодействиями с окружающими людьми, противостояния или противоборства реальности, социально-психологической изоляции. Наряду с дезадаптацией, направленной вовне (межличностная дезадаптация), существует внутриличностная дезадаптация, при которой поведение человека отражает неудовлетворенность собой, непринятие себя как целостной и значимой личности. Признак тотальности указывает на то, что патологические поведенческие стереотипы способствуют дезадаптации в большинстве ситуаций, в которых оказывается человек, т. е. имеют место «везде». Стабильность отражает длительность проявления дезадаптивных качеств поведения, а не их сиюминутность и ситуативную обусловленность. Поведенческая (психическая) патология может быть обусловлена психопатологическими проявлениями (симптомами и синдромами), а также базироваться на патологии характера, сформированной в процессе социализации.
Широкая область научного знания охватывает аномальное, отклоняющееся, ненормативное, девиантное поведение человека. Существенным параметром такого поведения выступает отклонение в ту или иную сторону с различной интенсивностью и в силу разнообразных причин от поведения, которое признается нормальным и не отклоняющимся. Существует представление о том, что девиантные формы поведения – это переходные, неразвернутые варианты поведенческой психической патологии. И основным принципом их диагностики следует признать, с одной стороны, отсутствие качеств поведенческой нормы, с другой – отсутствие психопатологических симптомов (рисунок 2). Однако более адекватным представляется обозначение как девиантного любого отклоняющегося от нормы поведенческого стереотипа (как собственно девиантного – без признаков психической патологии, так и поведенческих эквивалентов психических расстройств и заболеваний) (рисунок 3).
В следующей главе будут приведены характеристики нормального (нормативного) и гармоничного поведения: сбалансированность психических процессов (на уровне свойств темперамента), адаптивность и самоактуализация (на уровне характерологических особенностей), духовность, ответственность и совестливость (на личностном уровне). Так же, как норма поведения базируется на этих трех составляющих индивидуальности, так и аномалии и девиации основываются на их изменениях, отклонениях и нарушениях. Таким образом, девиантное поведение человека можно определить как систему поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе нормам и проявляющиеся в несбалансированности психических процессов, неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации или уклонении от нравственного и эстетического контроля над собственным поведением.
Считается, что взрослый индивид изначально обладает стремлением к «внутренней цели», в соответствии с которой осущест-вляются все без исключения формы его активности («постулат сообразности» по В. А. Петровскому). Речь идет об изначальной адаптивной направленности любых психических процессов и поведенческих актов. Выделяют различные варианты «постулата сообразности»: гомеостатический, гедонический, прагматический. При гомеостатическом варианте постулат сообразности выступает в форме требования к устранению конфликтности во взаимоотношениях со средой, элиминации «напряжений», установлению «равновесия». При гедонистическом варианте действия человека детерминированы двумя первичными аффектами: удовольствием и страданием, и все поведение интерпретируется как максимизация удовольствия и страдания. Прагматический вариант использует принцип оптимизации, когда во главу угла ставится узкопрактическая сторона поведения (польза, выгода, успех).
Подходы к оценке поведенческой нормы, патологии и девиаций
Выделяется несколько подходов к оценке поведенческой нормы, патологии и девиаций:
• социальный;
• психологический;
• психиатрический;
• этнокультуральный;
• возрастной;
• гендерный;
• профессиональный.
Социальный подход базируется на представлении об общественной опасности или безопасности поведения человека. В соответствии с ним к девиантному следует относить любое поведение, которое явно или потенциально признается опасным для общества, окружающих человека людей. Упор делается на социально одобряемых стандартах поведения, бесконфликтности, конформизме, подчинении личных интересов общественным. При анализе отклоняющегося поведения социальный подход ориентирован на внешние формы адаптации и игнорирует индивидуально-личностную гармоничность, приспособленность к самому себе, принятие себя и отсутствие т. н. психологических комплексов и внутриличностных конфликтов.
Психологический подход, в отличие от социального, рассматривает девиантное поведение в связи с внутриличностным конфликтом, деструкцией и саморазрушением личности. Имеется в виду тот факт, что сутью девиантного поведения следует признать блокирование личностного роста и даже деградацию личности, являющиеся следствием, а иногда и целью отклоняющегося поведения. Девиант, в соответствии с данным подходом, осознанно или неосознанно стремится разрушить собственную самоценность, лишить себя уникальности, не позволить себе реализовать имеющиеся задатки.
В рамках психиатрического подхода девиантные формы поведения рассматриваются как преморбидные (доболезненные) особенности личности, способствующие формированию тех или иных психических расстройств и заболеваний. Под девиациями зачастую понимаются не достигшие патологической выраженности в силу различных причин отклонения поведения, т. е. те «как бы психические расстройства» (донозологические), которые не в полной мере соответствуют общепринятым критериям диагностики симптомов или синдромов. Несмотря на то что эти отклонения не достигли психопатологических качеств, они все же обозначаются термином «расстройства».
Этнокультуральный подход подразумевает тот факт, что девиации следует рассматривать сквозь призму традиций того или иного сообщества. Считается, что нормы поведения, принятые в одной этнокультуральной группе или социокультуральной среде, могут существенно отличаться от норм (традиций) иных групп. Вследствие этого существенным признается учет этнических, национальных, расовых, конфессиональных особенностей человека. Предполагается, что диагностика поведения человека как отклоняющегося возможна лишь в случаях, если такое поведение не согласуется с нормами, принятыми в микросоциуме, или демонстрирует поведенческую ригидность (негибкость) и неспособность к адаптации в новых этнокультуральных условиях (например, в случаях миграции).
Возрастной подход рассматривает девиации поведения с позиции возрастных особенностей и норм. Поведение, не соответствующее возрастным шаблонам и традициям, может быть признано отклоняющимся. Это могут быть как количественные (гротескные) отклонения, отставание (ретардация) или опережение (ускорение) возрастных поведенческих норм, так и их качественные инверсии.
Гендерный подход исходит из представления о традиционных полоролевых стереотипах поведения, мужском и женском стиле поведения. Девиантным поведением в рамках данного подхода может считаться гиперролевое поведение и инверсия шаблонов гендерного стиля. К гендерным девиациям могут относиться и психосексуальные девиации в виде изменения сексуальных предпочтений и ориентаций.
Профессиональный подход в оценке поведенческой нормы и девиаций базируется на представлении о существовании профессиональных и корпоративных стилей поведения и традиций. Имеется в виду, что профессиональное сообщество диктует своим членам выработку строго определенных паттернов поведения и реагирования в тех или иных ситуациях. Несоответствие этим требованиям в ряде случаев позволяет относить такого человека к девиантам.
Перечисленные подходы к оценке поведенческой нормы, патологии и девиаций, несомненно, дополняют и обогащают диагностический процесс, позволяя осуществлять его с феноменологических позиций и учитывать все аспекты проблемы (рисунок 4).
Рисунок 4
Феноменологический подход к оценке поведенческой нормы, патологии и девиаций, в отличие от социального, психологического или психиатрического, позволяет учитывать все отклонения от нормы (не только социально опасные или способствующие саморазрушению личности). Используя его, можно диагностировать и нейтральные с точки зрения общественной морали и права поведенческие отклонения (например, аутистическое поведение), и даже положительно окрашенные девиации, социально одобряемые (например, трудоголизм). Кроме того, феноменологическая парадигма позволяет усматривать за каждым из отклонений в поведении механизмы психогенеза, что в дальнейшем дает основание выбрать адекватную и эффективную тактику коррекции поведения. Так, трудоголизм как поведенческая девиация может быть рассмотрен и истолкован и как аддикция, сформированная на базе стремления к уходу от реальности путем фиксации внимания на строго определенном виде деятельности, и как проявление психопатологических особенностей, например, в рамках маниакального синдрома. Лишь феноменологический подход способен беспристрастно и объективно подойти к анализу отклоняющегося поведения и способствовать пониманию сущностных мотивов поведения человека.
Идеальная норма, креативность и девиации поведения
Феноменологический подход в оценке поведенческой нормы позволяет говорить как о нормативном и гармоничном поведении, противостоящем девиантному и патологическому, так и об идеальной поведенческойнорме. Она подразумевает не только «сообразность поведения» (по В. А. Петровскому), но и его творческую направленность – креативность, или плодотворность (по Э. Фромму). Несомненно, что «личность как специальное человеческое образование не может быть выведена из приспособительной деятельности» (А. Н. Леонтьев). Гармония не может основываться лишь на «критерии выживаемости» – способности человека быть адаптивным. Она не может базироваться даже на критерии «качества жизни», т. е. удовлетворенности «собой приспособившимся». Ведь в таком случае наиболее гармоничным придется признать обывателя. Идеальной поведенческой нормой следует признать сочетание гармоничной нормы с креативностью индивида.
По мнению В. А. Петровского, человека можно считать творческим и идеальным, если его «могут [добавим: и должны. – В.М.] притягивать опасность, неопределенность успеха, неизведанное». Подобная избыточная деятельность (активность) названа надситуативной активностью и справедливо отнесена к нормативной, поскольку прогресс в сфере культуры в значительной мере связан с готовностью и склонностью людей к неприспособительному (неклишированному, гибкому и нешаблонному) поведению.
Одной из форм такого поведения признается поисковая активность, направленная на удовлетворение потребности в новой информации, в новых переживаниях, расширении своего опыта (В. С. Ротенберг, В. В. Аршавский). Обыватель, как типичный представитель нормативного и даже гармоничного (в плане приспособительных способностей) поведения, не склонен к поисковой активности. Он стремится максимально избежать риска, а значит, новых ситуаций, новой информации, новых переживаний, нового опыта. Он устремлен на сохранение status quo и в этом ракурсе предстает нелюбознательным (скорее любопытным), ищущим гарантий и стабильности, а не знаний, ощущений и переживаний. Девиант, напротив, излишне любознателен, крайне нестабилен и в высшей степени склонен к риску и существованию в неопределенности.
Парадокс заключается в том, что девиантное и идеальное поведение могут иметь сходные черты. Можно утверждать, что многие лица с девиантным поведением – творческие люди. Их отклоняющееся поведение будет справедливо считаться активным творческим поиском, имеющим, однако, неадаптивную и зачастую саморазрушающую направленность. Отличие состоит в том, что для подлинного творчества (идеальной нормы) удовольствие заключается в самом процессе поиска, а отрицательный результат только усугубляет знание о предмете и сигнализирует о том, что направление поиска должно быть изменено, в то время как для девиантной разновидности поисковой активности основной целью является результат – удовольствие.
Список сходных черт креативных и девиантных личностей предлагают Баррон и Харрингтон. Он включает самостоятельность суждений, способность находить привлекательность в трудностях, эстетическую ориентацию и способность рисковать. Ф. Фарли выделяет особый тип личности – Т-личность. Она определяется как «искатель возбуждения». Люди с таким типом личности могут либо достигать высокой степени креативности, либо демонстрировать деструктивное, даже криминальное поведение.
По Д. Симонтону, у творческой личности можно выделить семь базовых векторов. Их сопоставление с критериями диагностики аддиктивного типа девиантного поведения указывает на существенную близость этих разновидностей поведения (таблица 1).
Наши исследования лиц с девиантным поведением в форме наркотической зависимости (В. Д. Менделевич, Л. Р. Вафина) показывают, что наркоманы являются более творческими личностями, чем здоровые (ненаркоманы). Они обладают достаточной силой авторского «Я» (по Л. Я. Дорфману), чтобы справляться с жизненными трудностями, т. е. имеют инстанцию, относительно не зависимую от внешних влияний. Однако показатели таких инстанций, как Я-превращенное и Я-вторящее, говорят о самоотчуждении и подверженности влиянию социальных ролей на самовосприятие, что может также трактоваться как «отказ от авторского Я в пользу переживаний внешних впечатлений и событий». С другой стороны, Я-авторское у них имеет достаточно прочные связи со спонтанностью, аутосимпатией, креативностью и со стремлением к самоактуализации, которые являются системообразующими компонентами структуры личности. Для наркозависимых (как это ни парадоксально) характерными оказываются некоторые качества самоактуализирующейся личности: высокая потребность в познании, открытость новому опыту, автономность, стремление к самораскрытию в общении с другими людьми.
Таблица 1
Известно, что креативность включает творческие возможности (способности) индивида, характеризующиеся готовностью к продуцированию принципиально новых идей. Фундаментом креативности служит дивергентное мышление – способность мыслить равноценными альтернативами в ответ на требования новой ситуации. Согласно концепции метаиндивидуального мира Л. Я. Дорфмана, индивидуальность и ее мир (в частности, значимые другие люди) противопоставляют себя друг другу и в то же время полагают себя друг в друге. В результате индивидуальность приобретает двойственность своей качественной определенности. С одной стороны, она выделяется из окружающего ее мира, характеризуется автономностью. В этой связи индивидуальности присущ один ряд качеств (например, автономность, самоидентичность, интернальный локус контроля, поленезависимость). С другой стороны, индивидуальность испытывает на себе влияния значимых для нее людей, и эти влияния формируют у индивидуальности другой ряд качеств (например, зависимость, групповую идентичность, экстернальный локус контроля, полезависимость). В зависимости от модальности (субмодальности) «Я» может иметь некоторое множество лиц и не иметь лица (Л. Я. Дорфман).
Л. Я. Дорфман определяет базовые и вторичные компоненты в структуре «Я». Его базовыми частями являются Я-авторское, Я-воплощенное, Я-вторящее, Я-превращенное. Вторичными – Я-внутреннее, Я-внешнее, Я-расширение (авторское), Я-расширение (вторящее), Я-расширение (систем), Я-расширение (подсистем). Я-авторское характеризует «Я» как самостоятельную инстанцию в смысле ее относительной независимости от внешних влияний, как персональную идентичность и самость. Я-воплощенное – продолжение авторского «Я» в формах его вкладов в людей, предметы, вещи внешнего мира, в живую и неживую природу. Проявляется в продуктах самоосуществления авторского «Я», личностных вкладах, в трансформациях объекта (другого субъекта) в результате его подчинения авторскому «Я». Я-вторящее описывает «Я», производное от внешних влияний и воздействий, реагирует на внешние влияния в форме субъективных впечатлений и ощущений. Характеризуется социальной идентичностью, подверженностью влияниям принятых социальных ролей на самовосприятие, отношением к себе как к другому при исполнении опять-таки социальных ролей, а иногда и отказом от авторского «Я» в пользу внешних впечатлений и событий. Я-превращенное характеризует становление «Я» в другом, как бы превращение «Я» в других людей, вещи, предметы, объекты живой и неживой природы. Обнаруживается в его отождествлении с актуальными или новыми значениями объектов и других людей, принятии социальных ролей, чувствах принадлежности и связанности с объектами мира и другими людьми. Я-внутреннее является вторичным компонентом экзистенциального «Я» в том смысле, что оно складывается из Я-авторского и Я-вторящего. Я-внутреннее отражает внутренние переживания человека. Я-внешнее вторично и складывается из Я-воплощенного и Я-превращенного.
В процессах воплощения, по мнению Л. Я. Дорфмана, индивидуальность воспроизводит, умножает, расширяет, продолжает себя. Итог воплощения состоит не в том, что меняется индивидуальность. Напротив, она стремится изменить мир людей и вещей, сохраняя себя в неизменности. В процессах же превращения, будучи в другом, индивидуальность начинает жить другим и становится другой. Тем самым процессы превращения означают конечность индивидуальности как единичности и направлены на «быть в другом другим», т. е. на сохранение объекта и на изменение своей индивидуальности. Таким образом, назначение объектов в воплощении состоит в том, чтобы существовать ради индивидуальности, т. е. служить, дополнять, защищать, а в превращении – расширять поле своего существования за счет включения в него, приобщения к нему индивидуальности. Автор исходит из того, что главной функцией экзистенциального «Я» в целом является расширение «Я», согласованное с ростом индивидуальной и социальной идентичности.
Креативное мышление, характерное для идеального поведения, имеет свои особенности. Во-первых, оно пластично. Творческие люди предлагают множество решений в тех случаях, когда обычный человек может найти лишь одно или два. Во-вторых, оно подвижно: для творческого человека не составляет труда перейти от одного аспекта проблемы к другому, не ограничиваясь единственной точкой зрения. И, наконец, оно оригинально, так как порождает неожиданные, небанальные и непривычные решения (Ж. Годфруа).
Доказательством сходства некоторых структур идеального и девиантного поведений является факт кардинальных изменений, происходящих в поведении девианта после истинного исправления его поведенческого дефекта, в виде личностного роста и развития креативности. Известно, что опыт фобического и иных разновидностей невротического отклоняющегося поведения нередко приводит к личностному росту и раскрытию творческих способностей бывшего девианта. У бывших наркоманов и членов их семей также в случае эффекта терапии регистрируется личностный рост и креативность.
Феноменологическая диагностика поведенческих стереотипов
Одна из наиболее значимых теоретических и практических проблем современной психологии девиантного поведения – диагностическая. Суть ее заключается в выработке объективных и достоверных критериев диагностики поведенческих отклонений человека и квалификации их как психологических феноменов или психопатологических симптомов.
В настоящее время выделяется несколько основополагающих принципов разграничения психологических феноменов и психопатологических симптомов в сфере оценки поведенческих особенностей, базирующихся на феноменологическом подходе к оценке нормы и патологии.
Принцип Курта Шнайдера гласит: «В связи с возможностью полного феноменологического сходства психической болезнью (психопатологическим симптомом) признается лишь то, что может быть таковой доказано». Обратим внимание на, казалось бы, экзотическое для клинической психологии слово «доказано». О каких доказательствах может идти речь? Существует лишь один способ доказательства (не менее объективный, чем в других науках). Это доказательства с помощью законов логики – науки о законах правильного мышления, или науки о законах, которым подчиняется правильное мышление.
Подобно тому как этика указывает законы, которым должна подчиняться наша жизнь, чтобы быть добродетельной, и грамматика указывает правила, которым должна подчиняться речь, чтобы быть правильной, так логика указывает нам правила, законы или нормы, которым должно подчиняться наше мышление для того, чтобы быть истинным, – писал известный русский логик Г. И. Челпанов.
По мнению английского философа Д. Милля, польза логики главным образом отрицательная – ее задача заключается в том, чтобы предостеречь от возможных ошибок.
Если диагност пытается доказать наличие у человека девиаций поведения в связи с наличием бреда (т. е. ложных умозаключений), он должен делать неложные, но верные умозаключения и обладать способом их доказательства. Рассмотрим это положение на следующем примере. Мужчина, будучи убежденным в том, что жена ему изменяет, устраивает за ней слежку, контролирует время прихода на работу, проявляет грубость и раздражительность. Его поведение может иметь характер как условной адекватности (в случае реальной измены супруги), так и неадекватности и девиантности (если его умозаключения не основаны на реальности). Кроме того, девиантным может быть признано также поведение психически здорового ревнивца в виде настойчивых требований к жене подробно рассказать о ее прошлых (до замужества) сексуальных связях или стремления развестись после того, как жена «выказала знаки внимания соседу». Такой девиант может «доказывать» свое убеждение в изменах жены следующим умозаключением: «Я убежден, что жена мне изменяет, потому что я застал ее в постели с другим мужчиной». Можем ли мы признать подобное доказательство истинным, а такого человека психически здоровым? В подавляющем большинстве случаев обыватель и почти каждый клиницист признают, что он здоров. Представим, что тот же мужчина приводил бы иные «доказательства», например, такие: «Я убежден, что жена мне изменяет, потому что она в последнее время стала использовать излишне яркую косметику» или «… потому что она уже месяц отказывается от интимной близости» или «… потому что она вставила новые зубы» и т. д. Какое из «доказательств» можно признать истинным? На основании здравого смысла подавляющее большинство людей укажет, что все, кроме последнего, явно недоказательны. Но найдутся и те, которые с определенной долей вероятности могут согласиться, например, со вторым «доказательством», признают менее вероятным (но все же вероятным) первое «доказательство».
Для того чтобы разрешить эту типичную для диагностики задачу, необходимо, наряду с критерием доказанности (достоверности), ввести еще один критерий из области логики – критерий вероятности. По определению, вероятность, выражаемая единицей (1), есть достоверность. Для того чтобы показать, каким образом определяется степень вероятности наступления какого-либо события, возьмем широко известный пример.
Предположим, перед нами находится ящик с белыми и черными шарами, и мы опускаем руку, чтобы достать оттуда какой-нибудь шар. Спрашивается, какова степень вероятности того, что мы достанем белый шар. Для того чтобы определить это, мы сосчитаем число шаров – белых и черных. Предположим, что число белых равняется 3, а число черных – 1; тогда вероятность, что мы достанем белый шар, будет равняться 3/4, т. е. из 4 случаев мы можем рассчитывать на 3 благоприятных и 1 неблагоприятный. Вероятность для черного шара будет выражаться как 1/4, т. е. из 4 случаев можно рассчитывать только на 1 благоприятный. Если в ящике находится 4 белых шара, то вероятность, что попадется белый шар, будет выражаться числом 4/4=1.
Для анализа случая с идеями ревности, приведенного выше, необходимо знание и такого логического феномена, как аналогия. Аналогией называется умозаключение, в котором, исходя из сходства двух вещей в известном числе свойств, можно заключить о сходстве и других свойств (Г. И. Челпанов). Например, следующее умозаключение может быть названо умозаключением по аналогии:
Марс похож на Землю в части своих свойств – Марс обладает атмосферой с облаками и туманами, сходными с земными, Марс имеет моря, отличающиеся от суши зеленоватым цветом, и полярные страны, покрытые снегом, – отсюда можно сделать заключение, что Марс похож на Землю и в других свойствах, например, что он, подобно Земле, обитаем.
Основываясь на законах логики, понятиях вероятности, достоверности и феномене умозаключения по аналогии, можно проанализировать диагностический случай с мужчиной, утверждающим, что жена ему неверна. Таким образом, для научного анализа существенным будет не нелепость «доказательства» (например, «изменяет, потому что вставила новые зубы»), а распределение этим человеком спектра вероятности правильности его умозаключения о неверности жены на основании того или иного факта. Естественно, что объективно подсчитать вероятность того, что установка новых зубов указывает на то, что жена изменяет, невозможно, однако, основываясь на микросоциальных традициях, культуральных особенностях и других параметрах, можно говорить о том, что это маловероятно. Если же обследуемый наделяет подобный факт качествами достоверности, то можно предполагать, что его мышление действует уже не по законам логики, и на этом основании предположить наличие психопатологического синдрома – бреда.
То же самое можно предположить, если в качестве доказательства собственной правоты обследуемый приводил бы чей-либо конкретный пример, поскольку известно, что заключение по аналогии не может дать ничего, кроме вероятности. При этом степень вероятности умозаключения по аналогии зависит от трех обстоятельств: 1) количества усматриваемых сходств; 2) количества известных несходств и 3) объема знания о сравниваемых вещах.
Доказательство наличия психического расстройства, согласно принципу Курта Шнайдера, базируется на двух аспектах логики: а) оценке логики поведения и объяснения этого поведения испытуемым и б) логике доказательства. В доказательстве обычно различают тезис, аргумент и форму доказательства. Это выглядит так: тезис – обследуемый психически болен, аргумент (аргументы) – например, «его мышление алогично, имеется бред», форма доказательства – доказывается, почему его мышление диагност считает алогичным, на основании каких критериев расценивает его высказывания как бредовые и т. д.
Еще одним принципом, которому следует научная диагностическая (феноменологическая) доктрина, является принцип «презумпции психической нормальности». Суть его заключается в том, что никто не может быть признанным психически больным до того, как поставлен диагноз заболевания, или никто не обязан доказывать отсутствие у себя психического заболевания. Так же как и ничье поведение не может быть признано девиантным, пока не приведены научные доказательства данного факта. В соответствии с этим принципом человек изначально для всех является психически здоровым, пока не доказано противное, и никто не вправе требовать от него подтверждения этого очевидного факта.
Основными принципами диагностики, претендующей на научность своих взглядов, на сегодняшний день можно считать феноменологические принципы. В сфере диагностики психических расстройств феноменологический переворот совершил в начале XX века известный немецкий психиатр и психолог Карл Ясперс. Базируясь на философской концепции феноменологической философии и психологии Гуссерля, он предложил принципиально новый подход к анализу психических (в том числе поведенческих) симптомов и синдромов.
В основе феноменологического подхода в психологии девиантного поведения лежит понятие феномена. Феноменом можно обозначать любое индивидуальное целостное психическое переживание и связанное с ним поведение.
Феноменологический подход в диагностике, в отличие от ортодоксального и некоторых иных (например, психоаналитического), использует принципы понимающей, а не объясняющей психологии. Переживание человека рассматривается многомерно, а не толкуется (как это принято в ортодоксальных психиатрии и психологии) однозначно. За одним и тем же переживанием и поведением может скрываться как психологически понятный феномен-признак, так и психопатологический симптом. Для феноменологически ориентированного диагноста не существует однозначно патологических психических переживаний и девиантных форм поведения. Каждое из них может относиться как к нормальным, так и к аномальным. Если в рамках ортодоксальной психиатрии вопрос нормы/патологии трактуется произвольно на базе соотнесения собственного понимания истоков поведения человека с нормами общества, в котором тот проживает, то при использовании феноменологического подхода существенное значение для диагностики имеют субъективные переживания и их трактовка самим человеком. Диагност же следит лишь за логичностью этих объяснений, а не трактует их самостоятельно в зависимости от собственных пристрастий, симпатий или антипатий и даже идеологических приоритетов.
Использование феноменологического метода в диагностическом процессе, по Ю. С. Савенко, должно включать восемь применяемых последовательно и описанных ниже принципов:
1. Рассмотрение самого себя как тонкого инструмента, органа постижения истины и длительное пестование себя для этой цели. Убеждение в необходимости для этого чистой души.
2. Особая установка сознания и всего существа: благоговейное отношение к Истине и Природе, трепетное – к предмету постижения: понять его в его самоданности, каков он есть.
3. Боязнь не то что навязать, но даже привнести что-то инородное от себя, замутнить предмет изображения, исказить его. Отсюда задача: не доказать свое, не вытянуть, не навязать, не выстроить, а – забыв себя, отрешившись от всех пристрастий, – войти в предмет изображения, раствориться в нем и уподобиться ему и, таким образом, не построить, а обнаружить, т. е. адекватно понять, постичь. Этому служит процедура феноменологической редукции или «эпохе» (греч. – воздержание от суждения), представляющая последовательное, слой за слоем, «заключение в скобки», т. е. «очищение» от всех теорий и гипотез, от всех пристрастий и предубеждений, от всех данных науки, «сколь бы очевидными они ни были». Временная «приостановка веры в существование» всех этих содержаний, отключение от них высвобождает феномены из контекста нашей онаученной картины мира, а затем и повседневного образа жизни, «сохраняя при этом их содержание в возможно большей полноте и чистоте». Эта процедура включается по мере необходимости на любой ступени феноменологического исследования. На начальном этапе она возвращает нас в «жизненный мир», т. е. к универсальному горизонту, охватывающему мир повседневного опыта, освобожденному от всевозможных научных и квазинаучных представлений, заслонивших первозданную природу вещей.
4. «Феноменология начинается в молчании», внутренней тишине, забвении всего, не относящегося к данному акту постижения, отключении от круговерти собственных забот. Любая собственная активность – помеха. Вплоть до ведения самой беседы, в лучшем случае – до первой встречи с психически больным. Нередко продуктивнее «смотреть и слушать со стороны» беседу коллеги с больным.
5. Полное сосредоточение внимания на предмете, точнее, на его «горизонте», т. е. не только на моменте непосредственного восприятия, но на всех «до» и «после», всех скрытых, потенциальных, ожидаемых сторонах предмета, т. е. на предмете, взятом во всем его смысловом поле.
6. Далее следует процедура «свободной вариации в воображении», в которой совершается абсолютно произвольная модификация предмета рассмотрения в различных аспектах посредством мысленного помещения его в разнообразные положения, ситуации, лишения или добавления различных характеристик, установления необычных связей, взаимодействия с другими предметами и т. д. Задача – уловить в этой игре возможностей инвариантность варьируемых признаков. Этим достигается усмотрение сущности в виде конституирования феномена в сознании в ходе постепенной «кристаллизации» его формы. Это и есть «категориальное созерцание» (в отличие от чувственного), или «эйдетическая интуиция».
7. Наконец, описание. По словам Гуссерля, «лишь тот, кто испытал подлинное изумление и беспомощность перед лицом феноменов, пытаясь найти слова для их описания, знает, что действительно значит феноменологическое видение. Поспешное описание до надежного усмотрения описываемого предмета можно назвать одной из главных опасностей феноменологии». В связи с частой уникальностью описываемого используется описание через отрицание, описание через сравнение (метафоры, аналогии), описание через цитирование и передачу целостных картин поведения. Необходимо взыскательное отношение к лексическому выбору и терминологии, внимание к оттенкам не только смыслового поля, но и этимологических истоков, к звуковому и зрительному гештальту слов.
8. Истолкование скрытых смыслов, герменевтика – позднейшее дополнение феноменологического метода – фактически представляет самостоятельный метод следующей ступени, выходящий за пределы феноменологии в собственном смысле слова.
Для приближения теории феноменологической психологии к повседневной практике выделим и прокомментируем четыре основных ее принципа.
Принцип понимания, как уже упоминалось выше, используется как противопоставление принципу объяснения, широко представленному в ортодоксальной психиатрии и психологии и основанному на критерии понятности или непонятности для нас (сторонних наблюдателей) поведения человека, его способности поступать правильно и исключать нелепые высказывания и поступки. В рамках феноменологического подхода критерий понятности переходит в русло понимания и согласия диагноста с логичной трактовкой собственных переживаний и реакций на них. Продолжим начатый выше анализ случая с поведением ревнивца. Если для ортодоксального психиатра базой для диагностики бреда ревности будет выступать «нелепый характер высказываний, поведения и умозаключений больного» («жена изменяет, потому что вставила новые зубы»), то для феноменологически ориентированного диагноста существенным, наряду с другими параметрами, будет анализ понимания человеком сути измены («что вкладывать в понятие измены»). Ведь под этим термином может скрываться целый спектр толкований: измена – это интимная близость, это – флирт, это – нахождение с другим человеком наедине, это – поцелуй, это – любовное чувство и т. д. Следовательно, без оценки субъективного понимания смысла «измены» невозможно говорить о генезе «ложной» убежденности, характерной для бреда. Без понимания субъективности переживания человека нельзя сделать вывод об их обоснованности и логичности.
Принцип понимания позволяет отделить психологические феномены от психопатологических симптомов, а в некоторых случаях и постараться их противопоставить чисто лингвистически. Один и тот же феномен после акта понимания, вчувствования может быть назван аутизмом или интраверсией, резонерством или демагогией, амбивалентностью или нерешительностью и т. д.
Следующим феноменологическим принципом является принцип «эпохе», или принцип воздержания от суждения. В диагностическом плане его можно было бы модифицировать в принцип воздержания от преждевременного суждения. Его суть заключается в том, что в период феноменологического исследования необходимо отвлечься, абстрагироваться от симптоматического мышления, не пытаться укладывать наблюдаемые феномены в рамки нозологии, а пытаться лишь вчувствоваться. Следует указать, что вчувствование не означает полное принятие переживаний человека и исключение анализа его состояния. В своем крайнем выражении вчувствование может обернуться субъективностью и, так же как в ортодоксальной психиатрии, привести к неправильным выводам. Примером подобной крайности может служить высказывание Рюмке о «чувстве шизофрении», на основании которого рекомендуется постановка этого диагноза.
Два следующих принципа феноменологического подхода к диагностике могут быть обозначены как принцип беспристрастностии точности описания, а также принцип контекстуальности. Принцип беспристрастности клинического феномена заключается в требовании исключить любые личностные (присущие диагносту) субъективные отношения, направленные на высказывания обследуемого, избежать субъективной их переработки на основании собственного жизненного опыта, морально-нравственных установок и прочих оценочных категорий. Точность описания требует тщательности в подборе слов и терминов для описания состояния наблюдаемого. Особенно важным в описании становится контекстуальность исследуемого феномена, т. е. описание его в контексте времени и пространства – создание своеобразных «фигуры и фона». Принцип контекстуальности подразумевает, что феномен не существует изолированно, а является частью общего восприятия и понимания человеком окружающего мира и самого себя. В этом отношении контекстуальность позволяет определить место и меру осознания проводимого человеком феномена. Психиатрические истории болезни изобилуют выражениями типа: «у больного печальное, скорбное выражение лица», «пациент ведет себя неадекватно, груб с медицинским персоналом, гневлив», «больной переоценивает свои способности». Они приводятся врачом зачастую в качестве «доказательства» наличия психопатологической симптоматики, дезадаптивных, болезненных проявлений. Однако эти обоснования теряют вес в связи с тем, что приводятся изолированно вне контекста ситуации, вызвавшей психические феномены. Печальное, скорбное выражение лица в палате психиатрической лечебницы может быть расценено как нормальная реакция на госпитализацию, а печальное, скорбное выражение лица при встрече с любимым человеком после разлуки несет иную смысловую нагрузку. Грубость человека при любезном с ним обращении, по крайней мере, неадекватна, а грубость пациента, насильственно помещаемого санитарами в психиатрический стационар, может быть вполне адекватной. Анализ переоценки испытуемым собственных способностей нуждается в экспериментальном и документальном подтверждении, в противном случае возникает законный вопрос: «А судьи кто?» Нередки в традиционных историях болезни и преувеличения, которые могут приводить к недоразумениям при их интерпретации. Например, замечание «Больной Ч. постоянно, где бы ни находился, теребил свои половые органы» вызывает сомнение в истинности и точности наблюдения. Налицо неудачный художественно-литературный прием, который может привести к неправильному диагностическому анализу психического состояния пациента. В этом отношении показательным является пример, приводившийся психиатром Рюмке, с таким психологическим феноменом, как плач. Охарактеризовать и описать его как будто бы несложно, но без реального контекста описание теряет смысл. Можно описать плач как раздражение слезных желез, как признак слабости («ты слишком большой, чтобы плакать»), как реакцию на несчастье или на счастливое событие («слезы радости»). И каждый раз эффект-понимание может оказаться разным. В феноменологии должен существовать не плач сам по себе, а «плач, потому что…».
Существенна также историческо-культуральная контекстуальность. Диагностическая оценка убежденности в факте энергетического вампиризма, экстрасенсорного воздействия невозможна без учета культурного контекста.
Программированный контроль знаний
Вопрос 1. Психология девиантного поведения относится к одной из следующих наук:
а) общей психологии;
б) психиатрии;
в) патопсихологии;
г) междисциплинарной науке;
д) психопатологии.
Вопрос 2. Признаки поведенческой патологии в виде склонности к дезадаптации, тотальности и стабильности описал:
а) П. Б. Ганнушкин;
б) К. Ясперс;
в) З. Фрейд;
г) И. П. Павлов;
д) В. А. Петровский.
Вопрос 3. Выделяются все нижеперечисленные подходы к оценке поведенческой нормы, патологии и девиаций, за исключением:
а) социального;
б) психиатрического;
в) психологического;
г) конфессионального;
д) профессионального.
Вопрос 4. Понятие «саморазрушающего поведения» является основополагающим в одном из следующих подходов к оценке поведенческой нормы, патологии и девиаций:
а) социальном;
б) психиатрическом;
в) психологическом;
г) конфессиональном;
д) профессиональном.
Вопрос 5. В понятие идеальной нормы помимо параметров, входящих в гармоничное поведение, включается:
а) адаптивность;
б) самоактуализация;
в) нравственность;
г) креативность;
д) коммуникабельность.
Вопрос 6. Индивидуальное целостное психическое переживание испытуемого, диагностируемое в плане оценки психических и поведенческих расстройств, называется:
а) симптомом;
б) синдромом;
в) феноменом;
г) симптомокомплексом;
д) казусом.
Вопрос 7. «В связи с возможностью полного феноменологического сходства психической болезнью (психопатологическим симптомом) признается лишь то, что может быть таковой доказано» – гласит принцип:
а) Курта Шнайдера;
б) презумпции психической нормальности;
в) эпохе;
г) Кандинского – Клерамбо;
д) Гуссерля.
Вопрос 8. Наряду с критерием доказанност, в принцип Курта Шнайдера включается и критерий:
а) обоснованности;
б) убедительности;
в) реальности;
г) предположительности;
д) вероятностного распределения (вероятности).
Вопрос 9. Диагностический принцип, при котором следует «воздерживаться от преждевременных суждений», называется принципом:
а) контекстуальности;
б) эпохе;
в) точности;
г) убедительности;
д) осторожности.
Вопрос 10. Оценка состояния индивида типа «У больного скорбное выражение лица» не учитывает один из нижеследующих диагностических принципов:
а) контекстуальности;
б) эпохе;
в) точности;
г) убедительности;
д) осторожности.
Вопрос 11. Феноменологический подход к диагностическому процессу использует принципы:
а) объясняющей психологии;
б) понимающей психологии;
в) психиатрии;
г) патопсихологии;
д) психопатологии.
Вопрос 12. Девиантное поведение встречается:
а) только у психически здоровых;
б) только у психически больных;
в) только у лиц, находящихся в пограничном психическом состоянии;
г) и у психически здоровых, и у психически больных;
д) только у творческих личностей.
Вопрос 13. Гипердиагностическая парадигма с использованием выделения т. н. донозологических расстройств характерна для одного из следующих подходов к оценке девиантного поведения:
а) социального;
б) психологического;
в) психиатрического;
г) феноменологического;
д) профессионального.
Вопрос 14. Девиантные формы поведения являются исключительно:
а) детским феноменом;
б) подростковым феноменом;
в) феноменом зрелого человека;
г) феноменом пожилого человека;
д) ни один из ответов не верен.
Вопрос 15. Постулат о том, что «взрослый индивид изначально обладает стремлением к «внутренней цели», в соответствии с которой осуществляются все без исключения формы его активности», называется постулатом:
а) соответствия;
б) адаптивности;
в) гармоничности;
г) сообразности;
д) целесообразности.
Рекомендуемая литература
Асмолов А. Г. Психология личности. М.: Смысл, 2007.
Братусь Б. С. Аномалии личности. М., 1988.
Ганнушкин П. Б. Избранные труды. М., 1964.
Дорфман Л. Я. Метаиндивидуальный мир. М., 1995.
Змановская Е. В. Девиантология (психология девиатного поведения). М.: Академия, 2008.
Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения. М.: ЮРАЙТ, 2017.
Менделевич В. Д. Терминологические основы феноменологической диагностики в психиатрии. М.: Городец, 2016.
Менделевич В. Д. Психиатрическая пропедевтика. М.: Городец, 2024.
Петровский В. А. Психология неадаптивной активности. М., 1992.
Платонов К. К. Структура и развитие личности. М., 1986.
Пезешкиан Н. Позитивная семейная психотерапия. М., 1993.
Реан А. А. Психология воспитания и профилактика девиантного поведения. М., 2023.
Сидоров П. И., Парняков А. В. Введение в клиническую психологию: В 2 т. М., 2000.
Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2 т. М., 1989.
Ясперс К. Общая психопатология. М., 1997.
Глава 2
Психология гармоничного и нормативного поведения
Для человека характерно большое количество различных свойств и особенностей. Они включают специфику протекания познавательных процессов, интеллектуальные и иные способности, стили мышления, восприятия, общения, эмоционального отреагирования, морально-нравственные качества и множество иных составляющих. Однако при ограниченном объеме таких психологических качеств и свойств их сочетание может иметь уникальный характер и формировать специфический, ни на что и ни на кого иного не похожий человеческий образ.
Характерные различия индивида, т. е. отдельного человека, взятого в совокупности всех присущих ему качеств (биологических, физических, социальных, психологических и др.), с другими индивидами проявляются на разных уровнях индивидуальности. Это обусловлено тем, что индивидуальность представляет собой интегративное и многоуровневое образование, в котором каждый из уровней обладает набором существенных признаков. Девиантное поведение может опосредоваться отклонениями в функционировании любого из уровней индивидуальности. Под индивидуальностью в современной психологии понимается неповторимость, уникальность сочетания различных свойств и качеств человека, отражающихся в его поведенческих стереотипах. По набору отдельных качеств и свойств люди могут быть принципиально сходны (например, близнецы), однако по сочетанию этих качеств также кардинально различаться.
Существует множество разнообразных классификаций уровней индивидуальности. Однако все они сходятся в том, что уровни делятся на четыре принципиальных блока специфических качеств и свойств (рисунок 5):
Рисунок 5
В. С. Мерлин включает в первый уровень (уровень индивидуальных свойств организма) биохимические, общесоматические и нейродинамические свойства, разделяя перечисленные свойства на основании параметров интенсивности, скорости, регуляции и некоторых иных. Существенным является то, что биохимические свойства и свойства нервной системы обеспечивают создание индивидуального стиля, но не деятельности человека, а жизнедеятельности организма, который косвенно способен влиять на психическую деятельность в целом. Особенно ярко данный тезис представлен в клинике, когда многие социально опосредованные действия человека начинают учитывать и особенности жизнедеятельности, в частности, количественные и качественные параметры функционирования различных органов и систем организма (пищеварения, дыхания) и такой специфичный для пациентов соматической клиники параметр, как переносимость боли.
Клинически различия на первом уровне проявляются в соматической конституции, или морфофенотипе. Морфофенотип (соматотип, соматический тип, конституционально-морфологический тип) – макроморфологическая подсистема общей конституции и в целом отражает основные особенности динамики онтогенеза, метаболизма, общей реактивности организма и биотипологию личности (энергодинамические свойства).
Выделяют три типа соматической конституции человека: астенический, нормостенический и пикнический. Ориентиром в соматоскопической диагностике трех основных конституциональных типов являются перечисленные ниже характеристики (Н. А. Корнетов).
Астенический тип телосложения. Череп небольшого объема, средней ширины. Лицо яйцевидного контура с сужением как в лобной части, так и в подбородочной. Наблюдается также овальный контур с наибольшей шириной на уровне глаз и постепенным сужением к подбородку. Часто отмечается и так называемый «угловой профиль», который выражается прогнатизмом средней части лица и гипоплазированным, отступающим подбородком. Шея тонкая с выступающими щитовидным хрящом и седьмым шейным позвонком. Небольшой кифоз в шейном и верхнегрудном отделах позвоночника, в результате которого голова наклонена над туловищем. Плечи при фронтальном рассмотрении узкие или широкие. Грудная клетка длинная, уплощенная в передне-заднем направлении. При малом жироотложении ребра в местах сочленения с грудиной выступают в виде четок. Эпигастральный угол меньше 90 градусов, острый. Выражены над- и подключичные ямки. Руки сухие, тонкомышечные и тонкокостные с удлиненными кистями. Распределение жировой ткани при ожирении по женскому типу в тазовом поясе. Вес тела у характерных типов отстает от длины. Слабый рост в ширину при среднем не уменьшенном росте в длину. У высоких астеников нередко отмечается гинекоморфия.
Нормостенический тип телосложения. Череп средней длины и объема, иногда высокий. Лицевой скелет рельефный с развитыми надбровными дугами, скуловыми костями, нижней челюстью. Часто отмечается ширококостность в дистальных отделах конечностей. Трофический акцент на плечевом поясе. Форма туловища в виде усеченного конуса книзу. Грудная клетка при фронтальном рассмотрении представляется равномерно округленной в виде цилиндра и имеет одинаковую величину в верхнем и нижнем отделах. В передне-заднем направлении она не кажется ни узкой, ни широкой. Эпигастральный угол около 90 градусов. Кожа обладает эластичным тургором или пастозностью. Жировой слой сравнительно умерен. Мышцы хорошо развиты, рельефны. У ожиревших нормостеников контуры тела смягчены. Ноги часто вальгусного типа. Атлетический тип следует рассматривать как гиперпластический вариант нормостенического телосложения. Женщины атлетоидного типа в связи с особенностью распределения жировой ткани ширококостны и массивны.
Пикнический тип телосложения. Череп круглый и широкий. Лицо пятиугольного контура со сглаженным рельефом. Шея короткая, массивная, у молодых пикников, как правило, среднего размера. Гортань выдается незначительно. Часто отмечаются жировые отложения на седьмом шейном позвонке, в надключичных ямках. Грудная клетка широкая, короткая, развита в передне-заднем направлении. Увеличена окружность груди. Расширяющаяся книзу грудная клетка конической формы с тупым эпигастральным углом более 90 градусов переходит в объемный живот, увеличенный в горизонтальном и передне-заднем направлениях. Жировой слой, покрывая мышечный, подчеркивает плавность линий. Кисти, стопы часто укорочены с увеличенным поперечным размером. Кожа мягкая и хорошо облегает тело. У похудевших пикников в местах жироотложения обнаруживаются кожные складки. Мышцы средней силы и мягкой консистенции. В целом трофический акцент лежит в центре туловища на грудной клетке и животе с обильным жироотложением, которое особенно выражено после 40 лет.
Рисунок 6
Психическую индивидуальность человека можно представить как переплетение различных психофизиологических, психологических и социально-психологических свойств. При этом они, так же как и индивидуальность в целом, построены по иерархическому принципу, т. е. на более низшие (ранние) наслаиваются более высшие (поздние) психические образования. Ядром психической индивидуальности считается темперамент (биологическая составляющая психической индивидуальности). На его основе формируется характер (психологическая составляющая психической индивидуальности), а затем происходит становление личности (социальной составляющей психической индивидуальности) (рисунок 6).
В центре внимания психологии девиантного поведения находится проблема реагирования, мотивации поведения, выработки системы поступков человеком. С большой долей условности и терминологической допустимости можно говорить о том, что человек в различных фрустрирующих ситуациях (например, болезни или конфликта) «реагирует темпераментом, характером или личностью». За столь нетрадиционным использованием подобных научных терминов скрывается оценка значимости одного из трех способов мотивации поведения человека – на биологическом, психологическом и социальном уровнях. Разделение имеет как дидактический, так и практический характер. Если психолог расценит, что определенный девиантный тип психического реагирования (например, аутоагрессия – суицидальная попытка – онкологически больного с синдромом хронической боли) обусловлен свойствами темперамента, то он обязан будет предложить какие-либо биологические методы коррекции выраженности или направленности реакции. Ведь свойства темперамента относятся к конституциональным и функционируют по биологическим законам. Если подобная реакция будет расценена как признак характерологических особенностей (например, типичным паническим настроением психастеника), то выбор тактики коррекции данной реакции будет базироваться на психокоррекционных и психотерапевтических мерах, поскольку характерологические реакции обусловлены психологически. Если же специфика реагирования будет понята и объяснена личностными параметрами (например, атеистическими убеждениями пациента, считающего, что он волен распоряжаться своей жизнью и добровольно уйти из жизни), то необходимыми будут меры социального воздействия – переубеждение, изменение социальных условий и т. д.
В следующих разделах будут представлены диагностические параметры отдельных подсистем психической индивидуальности человека (темперамента, характера и личности), исходя из целей и задач психологии девиантного поведения. При этом будут продемонстрированы их корреляции с соматоморфологическим уровнем индивидуальности.
Одним из наиболее значимых вопросов психологии девиантного поведения остается вопрос о том, что именно определяет выбор того или иного психического реагирования человека на происходящие события. Считается, что на поведенческие особенности индивида влияют две группы факторов: внутренние и внешние (рисунок 7).
Рисунок 7
К внутренним факторам относят индивидуально-психологические особенности, которые определяют устойчивый набор шаблонов поведения, их рамки, выраженность, частоту, оформленность. В науке приписывание индивиду (не ситуации) большей ответственности за выбор поведенческих стереотипов называется диспозиционизмом. Признание главенствующей роли внешних воздействий на формирование поведенческих особенностей обозначается ситуационизмом. Долгие годы психология базировалась на диспозиционизме, пытаясь прогнозировать поведение человека, детально изучать его индивидуально-типологические особенности. Однако исследования последних лет доказывают существенную роль ситуативных факторов в выборе поведенческих реакций, особенно в условиях фрустрации.
J. Darley, C. Batson провели эксперимент, ставший классическим. Они поставили перед собой задачу оценить степень влияния ситуативных манипуляций на проявление типичных устойчивых поведенческих паттернов. В качестве такого паттерна-свойства были выбраны альтруизм и милосердие. Суть серии экспериментов заключалась в том, что двум группам студентов духовной семинарии, которым в соответствии с их статусом должны быть свойственны альтруистические качества и которые они в обыденной жизни демонстрировали, было предложено прочесть проповедь «О добром самаритянине». Суть данной евангельской притчи заключается в том, что чрезвычайно занятые священник и левит прошли в спешке мимо раненого странника, оставив его заботам скромного (менее занятого в данный момент) самаритянина. Экспериментальные группы студентов различались лишь на основании временного параметра. Одной группе были даны указания срочно без подготовки произнести речь (изложить суть притчи о добром самаритянине) перед уже собравшейся аудиторией. Другой группе давалось время на подготовку. По пути в аудиторию каждому из испытуемых попадался на глаза упавший на землю и задыхающийся от приступа удушья человек. Регистрировалась частота оказания помощи. Предполагалось, что свойственный семинаристам поведенческий паттерн в виде альтруизма и милосердия должен был проявиться в конкретной ситуации с равной частотой вне зависимости от спешки или имевшегося запаса времени. Оказалось, что из группы студентов, располагавших временем, оказали помощь упавшему лишь 63 %, а из группы спешивших – только 10 %.
Проведенный эксперимент, так же как и ряд других, показал, что поведенческие стереотипы, сколь устойчивыми они ни были, могут зависеть от ситуативных моментов. Таким образом, можно предположить, что девиантные формы поведения, базируясь на индивидуально-психологических стереотипах, имеют зависимость и от внешних условий – ситуативных моментов, которые способны либо провоцировать, либо блокировать неадекватные паттерны поведения. Отличие психопатологических типов девиантного поведения от непсихопатологических заключается именно в том, что при первых значение ситуативных факторов нивелируется, а при вторых – нет. Учитывая тот факт, что значимость индивидуально-психологических особенностей человека в формировании нормативного, гармоничного и отклоняющегося поведения признается существенной, в данной главе будут освещены именно эти вопросы.











