Читать онлайн Психиатрия и психосоматика. Учебник для последипломного образования
- Автор: Коллектив авторов
- Жанр: Клиническая психология, Психиатрия
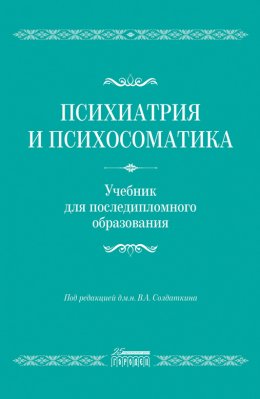
Глава I
Введение в клиническую психиатрию
I.1. Методология диагноза в психиатрии. Феноменологический и операциональный подходы
Среди медицинских наук психиатрии принадлежит особое место. Клиническая психиатрия охватывает наиболее сложную и наименее «продвинувшуюся» область знания, о чем свидетельствует широчайший разброс теорий, представлений и позиций, причем последние носят фактически «идеологический» характер. Это профессия, где совершенно необходим широкий культурный горизонт, основы философской рефлексии, знание не только классическое естественно-научное (биологическое), но и гуманитарное, причем не только психологическое. Психиатрия является той интегральной дисциплиной, которая позволяет целостно подойти к больному как к конкретной личности; без знаний основ психиатрии, особенно пограничной и психосоматической, трудно представить себе современного врача любого направления.
В соответствии с традиционным разграничением «вещь – тело – душа – дух», которое получило полное обоснование в критической онтологии Николая Гартмана, выделяют науки о неживой природе, биологические науки, психологию и науки о духе (религио- и науковедение, искусство, литературоведение, культурология, социология, политика и др.). Соматическая медицина занимается «телом», часто сталкиваясь с душевным (комплайенс, плацебо и др.), практически не используя науки, связанные с духовностью. Психология ограничивается психически-душевным слоем, соприкасается с биологическим (психофизиология), подчас претендуя на понимание духовного. Психиатрия в первую очередь интересуется душевной патологией, но одновременно стоит и на двух других «китах» – на первичных и вторичных (соматогенных) повреждениях головного мозга и на духовных проблемах конкретного человека, которые либо приводят к душевным заболеваниям (неврозы, психосоматические расстройства), либо эти духовные проблемы возникают вследствие душевного заболевания (изменения личности). Это выражает и переход современной (внебольничной на 90 %) психиатрии к био-психо-социальной модели, в которой социальное включает духовный онтологический слой, но коренится оно и в психическом слое (социально-психологические феномены, социальные инстинкты), и в биологическом слое (генетические основы альтруизма, сама возможность формирования духовного и интеллектуального). Для психиатрии биологические факторы мощнее психологических и тем более духовных, для клинической психологии – наоборот. Но это диалектическое противоречие: чем острее и тяжелее психическое расстройство, тем адекватнее биологическая психиатрическая помощь (например, при деменции, нарушениях сознания, кататоническом ступоре), а после выхода из психоза все более значимыми становятся психотерапия, а затем и культурально-социологические методы реабилитации и реадаптации (например, терапия искусством). Если психиатр целенаправленно минимизирует болезненные расстройства, то психолог, а затем социальный работник (реабилитолог) развивают компенсаторные возможности личности.
Психиатрия рассматривает человека во всей его многогранности как существо телесное, как психическую индивидуальность и как члена сообщества. Взаимодействие всех этих аспектов наиболее полно раскрывает трихотомическая концепция личности, внесенная в отечественную психиатрию Д. Е. Мелеховым на основе христианской антропологии (опубликованная только после его смерти работа «Проблемы духовной жизни и психиатрия»). В настоящее время эта важнейшая для психиатрии базовая методология разрабатывается Б.А. Воскресенским. Графически биологические, психологические, социальные взаимоотношения можно представить в виде трех концентрических окружностей. Под телом (внутренний круг) понимается физическое существо человека, все органы организма в их взаимодействии. Душа (средний круг), душевные процессы и состояния – это мышление, эмоции, воля, память и др. Взаимоотношения этих «органов» психической деятельности создают варианты психического облика, характеры, радикалы. Психические процессы созревают, формируются в онтогенезе в процессе роста, развития и воспитания на основе определенных структурно-функциональных особенностей нервной системы, того или иного темперамента. Дух, духовные ценности (наружный круг), прежде всего моральные, нравственные устои человека, его ценностные ориентации, направленность, познавательные, мировоззренческие, эстетические и другие особенности – это, собственно, личность, человек как член общества. Духовное содержание личность получает, приобщаясь к различным формам общественного сознания, и на этой основе реализует свое творческое начало. Индивидуальные внешние круги, «накладываясь» друг на друга, образуют общественное сознание, в котором, в частности, могут «храниться» юнговские архетипы. Уровни «тело – душа – дух» могут быть сопоставлены с категориями «темперамент – характер – личность» в классической психологии, с фрейдовскими «Оно – Я – СверхЯ». Схема позволяет очертить пределы компетенции психиатра-клинициста, подойти к понятиям «объекта» и «предмета» психиатрии, к определениям нормы и болезни. «Объектом» является человек в его триединой сущности с деятельностью, миром, жизнью. Субстрат психической патологии и соответственно «предмет» психиатрии – это душа. Переживания человека – и здорового, и больного – такая же реальность, как работа его внутренних органов, двигательная активность, практическая деятельность. Широко известно высказывание А.А. Ухтомского: «Так называемые «субъективные» показания столь же объективны, как и всякие другие, для того, кто умеет их расшифровывать». Очевидно, что психическая деятельность не сводится к нейрофизиологическим процессам. Ведь, наверное, неслучайно мозг лишен болевой чувствительности. У психически больного болит (точнее, болеет, разрушается) душа, а не мозг. Клиническая психиатрия рассматривает закономерности распада душевной деятельности – структур среднего круга, отдельных процессов и состояний, целостного душевного облика человека. При этом могут нарушаться направленность личности, ее этические, эстетические установки, соматическое состояние, но эти сферы (духовная и телесная) имеют прежде всего свои закономерности нарушений, которые далеко не всегда сочетаются с душевной патологией, «подчиняются» ей. Психиатр – единственный специалист, который может разобраться именно с душевной патологией, используя знания общей и частной психопатологии, а также зная базовые положения «нормальной» психологии.
Важно не расширять рамки психической патологии, а эта угроза вполне реальна при нынешнем интересе к пограничной психиатрии, при активном проникновении психиатров в соматические больницы, при желании психиатров и, особенно, психотерапевтов указывать, как надо счастливо жить, как правильно организовывать общество, какие виды поведения человека «болезненные» (сексуальные предпочтения, другие поведенческие девиации, «естественные» или «болезненно-деструктивные» религии и т. д. и т. п.). Опасность представляют как упрощенная биологизация («психические болезни – болезни мозга», т. е. соматическо-неврологическая точка зрения), так и вульгарное социологизирование, когда всякое социально негативное явление, любое тягостное для субъекта переживание оцениваются как источник или проявление психической патологии. Изолированное рассмотрение духовного не входит в компетенцию клинической психиатрии. Не надо изгонять из психиатрии духовный мир личности, но предметом психиатрического анализа он может стать, только если в нем обнаруживается специфическое психопатологическое качество.
Часть душевных заболеваний имеет явно телесные, соматические, основы. Другая группа – психогенные заболевания – обусловлена человеческими отношениями, столкновениями, конфликтами, т. е. факторами внешнего круга. При значительной части психических заболеваний не обнаруживается явных внешних патогенных воздействий, соматических (органических) или психотравмирующих. Эти болезни развертываются как бы спонтанно, эндогенно, во втором круге. Психические болезни любой природы могут соматизироваться. В других случаях страдает духовный облик больного, патологически изменяются мировоззрение, увлечения, нравственные понятия, поведение. Но истинными, «первичными» психическими расстройствами являются только эндогенные заболевания, при появлении которых экзогенные и психогенные факторы играют не причинную, а только провокационную роль. При этом никто не сомневается, что с материалистической точки зрения в головном мозге возникает «микроорганическая» патология, но развивается она по совершенно другим механизмам (например, аутоиммунным), чем при экзогенном воздействии на мозг. Эндогенно-функциональный путь болезненного изменения психики оказывается самостоятельным, собственно психопатологическим направлением развертывания психической патологии. Ни врачи-интернисты, ни психологи, ни священники, ни философы не владеют клинико-феноменологическими и клинико-психопатологическими приемами для познания душевной патологии. И это подчеркивает ответственность психиатра.
Экзогенные и психогенные психические расстройства – «вторичные» по своему происхождению, они являются осложнениями органических поражений мозга или запредельных для конкретной личности социально-психологических переживаний. Органическая патология – область соматической медицины (по природе нарушений, по основным методам лечения и частично – по диагностике). Психогении – это в наибольшей мере патология духовная, обусловленная человеческими взаимоотношениями. «Душевный компонент» определяет здесь лишь степень ранимости и клиническую форму реагирования.
Диагностировать психическую болезнь – это значит определить, по каким закономерностям «функционирует» психика (душевные процессы), как изменяется личность. В этом смысле мышление психиатра правомерно определять как образное, когда сопоставляется психический облик пациента на разных этапах жизни и заболевания. Для сравнения (упрощенно, разумеется): мышление терапевта, по сути, патофизиологическое, невропатолога – пространственное, хирурга – инженерно-конструкторское, а акушера – механическое (биомеханическое).
На настоящем этапе развития психиатрии, накопившей обширнейший клинический материал, правомерно говорить о трех путях психопатологических изменений личности при тяжелом прогредиентном течении. В группе эндогенных заболеваний это нарастание аутизации, рассогласования, индетерминированности отдельных психических функций, снижение энергетического потенциала, вплоть до апатико-абулического синдрома. В цепи органической патологии происходит интеллектуально-мнестическое снижение, завершающееся органической деменцией. В результате неблагоприятного течения психогенных заболеваний формируется личность, приближающаяся по своей структуре к психопатической (развитие личности).
Предмет клинической психиатрии – конкретный больной. Его переживаниям адекватен клинический анализ. Задачей клинической психиатрии остается все более тонкое и точное разграничение основных путей изменения психики при психических заболеваниях, установление их плавности или дискретности, скачкообразности перехода от нормы и здоровья к болезни на каждом из этих направлений. Важнейшее значение имеет изучение особенностей личности (душевных, духовных, телесных в их взаимодействии) в формировании, течении и лечении отдельного заболевания.
Человек как биосоциальное явление в качестве объекта психиатрии рассматривается как диалектическое единство двух подструктур: организменной (биологической) и личностной (социальной). Организм как биологическая подструктура может находиться в двух биологических альтернативных состояниях – нормальном или патологичном. Личность как социальная подструктура также может находиться в двух социальных состояниях – здоровом и больном. Состояния соматической и душевной сферы (психических функций) могут быть оценены в критериях нормы и патологии, состояния духовной сферы – только в критериях здоровья и болезни. Психические функции (восприятие, мышление, память и т. д.) бывают патологичными или нормальными, а человек – только психически здоровым или психически больным, хотя в обыденной жизни понятия «психически ненормальный» и «психически больной» являются синонимами.
В реальной медицинской практике патология весьма часто совпадает с болезнью, а норма – со здоровьем. Но нередки случаи, когда происходит расхождение. Например, у человека, находящегося в выраженном алкогольном или наркотическом опьянении, отмечаются признаки патологии практически всех психических функций, но больным он не является, так же, как и человек, находящийся в трансовом состоянии во время молитвы. В последнем случае это «особое» состояние самосознания, рассматриваемое в рамках психологии, а не как психопатологический синдром пароксизмального помрачения сознания. Итак, шаман или «вновь рождающийся» при ребефинге (психотерапевтическая методика) не являются больными, но у них проявляются формальные признаки патологии сознания. В других же случаях у лиц без формальных признаков патологии психических функций могут обнаруживаться грубые нарушения поведения, приводящие к социальной дезадаптации (аморальные поступки, жестокость, эмоциональная тупость, асоциальные и антисоциальные установки и т. д.), в результате чего может быть диагностировано психическое (поведенческое) расстройство.
Психиатрическая практика постоянно дает яркие свидетельства того, что человека нельзя рассматривать как абстрактную унифицированную совокупность жестко зафиксированных биологических и социально-психологических свойств. Наряду с определенными общими и устойчивыми жизненными проявлениями, характерными для всех людей, каждый человек обладает большим разнообразием индивидуальных особенностей и реакций, свойственных только ему. Поэтому при рассмотрении человека как объекта психиатрии в плане дихотомического деления «здоровье – болезнь» следует уделять особое внимание проблеме индивидуальности в различных ее аспектах (биологическом, психологическом, социальном) и проявлениях (в диалектическом единстве врожденных и приобретенных, устойчивых и постоянно меняющихся свойств).
В психиатрии существует два основных крайних направления, рассматривающих проблему соотношения психического здоровья и болезни.
Нозоцентризм: мышление ориентировано на поиск болезни или патологии. Проявляется тем, что любой отклоняющийся от ожидаемого признак человеческой психики квалифицируется как признак болезни, симптом или синдром. Доведенное до крайности и абсурда нозоцентрическое мышление во всем многообразии психической деятельности человека находит девиантность, «скрытые», «недоразвитые» или явные психические болезни. Подобный подход ведет к «профессиональному кретинизму», грубым нарушениям методологии в клинической психиатрии, патернализму и, часто сочетаясь с гипердиагностикой психических болезней, способствует нарушению прав человека. Примером могут являться многочисленные поведенческие отклонения: ранее – в политической (диссидентской) деятельности, сексуальной ориентации (гомосексуализм), сейчас на первый план вышли сексуальные предпочтения типа педофилии, модификации тела или самоповреждения. На позициях, что «здоровых людей нет, есть только недообследованные», стоит ортодоксальная психиатрия с основным постулатом «нелепости» взглядов или поведения, а также ортодоксальный психоанализ; все они используют принцип толкующей, а не понимающей психологии в понимании К. Ясперса. Нозоцентризм в практике ведет к расширительной диагностике, стигматизации людей с психическими расстройствами или даже с подозрением на них, стигматизации самой психиатрии как науки и практики.
Нормоцентризм: мышление ориентировано на поиск только саногенных факторов. При таком подходе даже самые отклоняющиеся формы поведения психологизируются, объясняются ситуацией, воспитанием, социальной действительностью и не выводятся за рамки психического здоровья. Абсолютизация этого принципа лежит в основе антипсихиатрии. Ярким примером может быть вульгарное социологизирование и психологизация самоубийств, тяжелого зависимого поведения, отрицание детских поведенческих нарушений, связанных с клиническим уровнем СДВГ.
Современное отношение к проблеме психического здоровья должно исходить из принципа «презумпции психического здоровья»: никто не может быть объявлен психически больным до тех пор, пока это не будетубедительно доказано и не будет установлен общепринятый диагноз психического расстройства. Никто не должен доказывать отсутствие у себяпсихической болезни. Гражданин изначально для всех (в томчисле для государственных органов) психически здоров и необязан подтверждатьэто. Существует несколько подходов к разграничению психического здоровья и психической болезни, или расстройства.
1. Биологический. Жизнь человека сводится к «природной целесообразности», т. е. человек должен вести себя так, как это «определено» природой или Богом. Примером биологического подхода может явиться разграничение «нормального» или «ненормального» сексуального поведения человека. Если оно направлено не на продолжение рода, а только для получения чувственного удовольствия, появляется возможность диагностировать «сексуальное и психическое нездоровье». В частности, еще Р. Крафт-Эбинг предлагал диагностировать психическую болезнь у замужних женщин в случае их промискуитетного поведения.
2. Естественно-научный. При таком подходе возникает готовность к диагностическому заключению по отдельным фактам: патология родов, обнаружение на ЭЭГ повышенной судорожной готовности, выявление на томограмме кисты прозрачной перегородки и т. п. При этом диагностируется не обнаруженная патология, а психическая болезнь, естественно, в рамках «органического поражения мозга».
3. Социальный. Любое проявление социальной декомпенсации, антисоциальное поведение, какова бы ни была их причина, диагностируются как психическое расстройство (концепция Ч. Ломброзо).
В частности, любая суицидальная попытка трактуется как проявление душевного расстройства.
4. Экспериментально-психологический. Та или иная ненормативность психической функции, ее отклонение от среднестатистических показателей приводит к обнаружению «ненормальности». Особенно часто это происходит при сочетании нескольких таких отклоняющихся показателей, и тогда предлагается выносить заключение о психическом расстройстве.
На самом деле диагностируется психическое расстройство или болезнь исключительно с помощью клинико-феноменологического и клинико-психопатологического метода, структурно-динамического анализа, что является прерогативой клинической психиатрии, которая неотделима от биологической, социальной, этнокультуральной психиатрии, а также клинической психологии. Как уже указывалось ранее, понятие психической болезни появляется при нарушениях в области душевной патологии (эндогенные заболевания), а не в области соматики или духовности, хотя патология здесь также может приводить к нарушению психического здоровья (экзогенные, соматогенные и психогенные заболевания). Изолированное рассмотрение телесного и духовного – компетенция не клинической психиатрии: в первом случае это задача биологии, морфологии, физиологии, соматической медицины, во втором – психологии, религии, социологии, философии. Однако ни те, ни другие не имеют юридического и профессионального права решать вопрос о наличии или отсутствии у данного человека психической болезни.
Вектор «норма – патология» носит характер континуума. В реальной жизни в популяции существуют плавные переходы от одного состояния к другому. Вектор «здоровье – болезнь» континуумом не является, здесь можно отметить ступенеобразность переходов.
Степени состояния психического здоровья были описаны С. Б. Семичовым. Автором, выделившим пять степеней состояния психического здоровья, не делалось принципиального различия между нормой и здоровьем. Фактически речь идет не о здоровье, а о норме, что мы постоянно и подчеркиваем, указывая в скобках слово «норма».
1. Идеальное здоровье (норма), или эталон, – не встречающееся в реальной жизни гипотетическое психическое состояние, все составляющие которого соответствуют некоторым теоретическим нормам, гармонично интегрированы, создают условия для полной психосоциальной адаптации и психического комфорта в реальной природной и социальной действительности и соответствуют нулевой вероятности психической болезни или психической нестабильности.
2. Среднестатистическое здоровье (норма) – показатель, который является производным усредненных психологических характеристик конкретно избранной и изученной (по полу, возрасту, социальному положению, территории проживания и т. п.) популяции. Как каждый статистически установленный показатель, он вероятностен, допускает определенную степень колебаний (со знаком «+/—») и отклонений от идеального здоровья. Тем самым этот показатель предполагает определенный риск психического расстройства, и в исключительных случаях краевые отклонения в состоянии такого здоровья могут соответствовать краевым вариантам некоторых заболеваний, например, неврозоподобным расстройствам при сосудистых заболеваниях, клинике алкоголизма в определенной социальной прослойке и т. п.
3. Конституциональное здоровье (норма) – соотнесение определенных, довольно специфических типов психического состояния здоровых людей с тем или иным типом телесно-организменной конституции (конструкции, устройства, эндофенотипом). С этим согласуется мнение о том, что подобные сочетания создают предрасположение к определенному кругу заболеваний. Последнее даже послужило основанием (Э. Кречмер) для их терминологического обозначения (типирования): эпилептоидный (атлетоидный), циклоидный (пикнический), шизоидный (лептосомный) тип.
4. Акцентуация – вариант психического здоровья (нормы), который характеризуется особой выраженностью, заостренностью, непропорциональностью некоторых черт характера всему складу личности, что приводит ее к определенной дисгармонии. Акцентуация, не препятствуя адаптации личности в социальной среде, в большей или меньшей степени суживает границы этой адаптации и тем самым предопределяет ситуационную уязвимость личности, увеличивает риск возникновения психических расстройств, как правило, психогенных. К акцентуациям могут быть отнесены некоторые аномалии личности, односторонняя одаренность, явления непатологического психического дизонтогенеза и пр.
5. Предболезнь – появление первых разрозненных, эпизодических, синдромально незавершенных признаков психической патологии, дисфункции, являющихся причиной и условием нерезких нарушений социальной адаптированности.
Общее здоровье определяется как состояние человека, которому свойственно не только отсутствие болезней или физических недостатков, но и полное физическое, душевное и социальное благополучие (по ВОЗ). Психическое здоровье – одна из важнейших составляющих общего здоровья.
Критерии психического здоровья (по ВОЗ):
1) осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности своего физического и психического «Я»;
2) чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных ситуациях;
3) критичность к себе и своей собственной психической продукции (деятельности) и ее результатам;
4) соответствие психических реакций (адекватность) силе и частоте средовых воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям;
5) способность самоуправления поведением в соответствии с социальными нормами, правилами, законами;
6) способность планировать собственную жизнедеятельность и реализовывать это;
7) способность изменять способ поведения в зависимости от смены жизненных ситуаций и обстоятельств.
Как и в любом общем определении, в указанном определении общего здоровья выявляется ряд существенных недостатков, особенно когда речь идет о психическом здоровье. В частности, понятия душевного и социального благополучия слишком широкие и не соответствуют практическому пониманию здоровья. И психически здоровый человек свое душевное состояние и социальное положение в определенные трудные или неблагоприятные периоды жизни (безответная страстная любовь, крах профессиональной карьеры и т. п.) субъективно может воспринимать как неблагополучные.
Совершенно ненаучным представляется широко используемое понятие «психическое здоровье нации (населения, народа)». Психически здоровым или больным может быть только индивидуум, а не группа людей. Чаще всего речь идет о «ментальном» здоровье, этот термин является не столько клиническим, сколько социологическим, как на это указывают П. И. Сидоров, И. А. Новикова.
В современном определении психического здоровья подчеркивается, что для него характерна индивидуальная динамическая совокупность психических свойств конкретного человека, которая позволяет последнему адекватно своему возрасту, полу, социальному положению познавать окружающую действительность, адаптироваться к ней и выполнять свои биологические и социальные функции в соответствии с возникающими личными и общественными интересами, потребностями, общепринятой моралью. Психическое («психиатрическое») здоровье – это отсутствие болезни («презумпция психического здоровья»). Трактовка нормы как оптимальной адаптации оказывается бессодержательной, так как, во-первых, окружающая среда бесконечно изменчива и, во-вторых, сущность человека определяется его творческим, созидательным отношением к действительности. С другой стороны, критерии нормы нравственной, правовой, культурной, этнической, психической («психопатологической») не совпадают. МКБ-10 заменяет понятие «психическая болезнь» более общим и аморфным понятием «психическое расстройство». Последнее в МКБ-10 и DSM – IV определяется как «болезненное состояние с психопатологическими или поведенческими проявлениями, связанное с нарушением функционирования организма в результате воздействия биологических, социальных, психологических, генетических или химических факторов. Оно определяется степенью отклонения от взятого за основу понятия психического здоровья». Как видно, и здесь происходит смещение понятий «норма» и «патология».
Именно поэтому мы считаем, что психическую болезнь, расстройство или аномалию следует рассматривать как сужение, исчезновение или извращение критериев психического здоровья.
В клинической практике пациент приходит к врачу-психиатру обычно по собственной инициативе, реже – третьих лиц, как правило, родных и близких. Поводом обращения является нечто, что предстает в их понимании как нездоровье, болезнь, расстройство, в том числе как нарушение психического здоровья или поведения. Центральный мотив обращения – потребность в помощи, устранении беспокоящих пациента и его близких нарушений, дискомфорта и соответственно в восстановлении здоровья и психофизического комфорта. Именно это – результат деятельности врача – является целью больного, а не процесс осмысления болезни, не методы обследования и не путь анализа его состояния и расстройств. Но результат является следствием некоего вмешательства, некоторых специальных действий врача, адекватность и полезность которых напрямую зависят от адекватности и полноценности процесса распознавания, анализа и понимания сути болезни. Последнее и составляет диагностическое заключение, которое выступает фундаментом тактики лечения, профилактики, реадаптационно-реабилитационных мероприятий. Таким образом, познание болезни или расстройства, т. е. диагностика, – первейшая, важнейшая и незаменимая частьуспешной терапии.
Принципиально важным является методологический подход к диагностике. Только правильный индивидуальный диагноз, основанный на нозологическом принципе, позволяет разработать соответствующую терапевтическую стратегию и тактику, наметить реадаптационные и реабилитационные мероприятия. От него зависят полнота, объем, качество лечения и соответственно судьба, а иногда и жизнь больного.
Диагностика – процесс распознавания болезни во всем ее много- и своеобразии с оценкой индивидуальных биологических, психических и социальных особенностей пациента. Это одна из специфических форм познания, а в данном случае – познания феномена болезни. И как познание диагностика должна быть построена методологически правильно, иметь внутреннюю логику, динамику и соответствовать определенным принципам: этапность; развернутость во времени; направленность от частного к общему, от внешнего к внутреннему, от случайного к сущностному, к причинно-следственным отношениям, от познания к практике как единственному критерию истины.
Первый этап диагностики – чувственное познание феномена болезни. Его задачи – выявление, выделение и подробное описание разнообразных признаков расстройства, в том числе психического.
На втором этапе происходит обобщение клинической информации – клинический анализ. Его задачи – типировать выявленные признаки терминологически, т. е. обозначить их как симптомы, что является предметом семиотики, и систематизировать, объединив симптомы в синдромы, представляющие собой объект синдромологии.
На третьем этапе формируется представление о болезни конкретного человека – диагностическое заключение о нозологической форме. Его задача – построение клинико-динамической модели болезни конкретного больного с формированием представления об особенностях динамики синдромов (синдромогенезе и синдромокинезе), а также о закономерностях взаимосвязи и сменяемости различных синдромальных образований – синдромотаксисе, что на данном этапе должно быть объединено со всей имеющейся в распоряжении врача информацией. Именно это единение являет собой базис для формирования диагноза, на основании которого и вырабатывается конкретная терапевтическая тактика.
Задачей этапа является обнаружение отдельных признаков болезни. Признак болезни – понятие клиническое. Он связан с непосредственным восприятием врачом отдельных свойств и качеств расстройства у конкретного больного. Объем, глубина отражения признака зависят не только от разрешающей способности методов, но и от индивидуальных качеств исследователя-врача: его квалификации, знаний, опыта, наблюдательности, ответственности и чувства долга, часто – от неторопливости врача, который должен знать, что, как и каким способом он должен искать. Выделение признаков отражает эмпирический, чувственный уровень познания.
Патогенез любого заболевания, в том числе психического, проявляет себя вовне в виде «картины болезни», ее феномена. Феномен – реальное клиническое явление, событие, объект и т. д. Как правило, он включает большое число отдельных признаков. На первом этапе диагностики признаки должны быть не только обнаружены и выделены, но и подробно и тщательно описаны, что крайне важно для результатов последующей диагностики. Упущенное на этом этапе в последующем очень трудно восстановить.
Феноменология (субъективная психология по Э. Гуссерлю) составляет фундамент психопатологии. Задача феноменологии заключается в развитии общих понятий для основных видов психопатологического опыта. Чтобы определить эти понятия, сначала феноменолог должен совершить проникновение переносом, погрузиться в опыт переживания другого. Поскольку определенные черты во многих индивидуальных опытах переживания являются общими, феноменолог имеет возможность обобщить и определить понятия, специфицирующие эти общие черты. Согласно К. Ясперсу, первый шаг к научному познанию сферы психического заключается в отборе, разграничении, дифференциации и описании отдельных переживаемых феноменов. Затем эти феномены получают терминологические определения, причем феноменолога интересует только то, что непосредственно наблюдается. Подобный способ представлять, разграничивать и определять психические события и состояния, позволяющий быть уверенными в том, что один и тот же термин всегда обозначает одно и то же, и составляет феноменологический подход. В феноменологии предметом анализа служат отдельные качества или состояния, извлеченные из подвижного контекста психической жизни. Феноменологическое понимание по своей природе статично, поскольку дает не более чем статический отпечаток душевной жизни, в его задачи не входит выяснение взаимосвязи переживаний, их динамики, обусловленности и пр. Главной операцией феноменологического метода является феноменологическая редукция, представляющая выключение слой за слоем из поля суждений врача-психиатра всех концептуализмов, логики, научных и других приобретенных знаний, всех обыденных представлений и собственной включенности в исторический, социальный, политический контекст. Феноменологический взгляд высоко ценит наивное восприятие, не замутненное и не искаженное обывательскими шаблонами. Но, как неоднократно повторяет К. Ясперс, феноменологическая редукция – очищение от предвзятостей – «очень трудная задача», «тяжелое приобретение после долгой критической работы и часто тщетных попыток в конструкциях и мифологиях», требующая все новых усилий. Другим существенным препятствием является неспособность больного внятно выразить свои переживания в силу актуального состояния или невысокого уровня рефлексии. Феноменологические описания – это бережно, непредвзято изложенные конкретные, сугубо индивидуальные развернутые примеры непосредственных переживаний больных. Процесс феноменологического описания представляет последовательность следующих этапов:
● беспредпосылочное, максимально очищенное от всех предвзятостей разного вида и уровня выслушивание психиатром аутентичных описаний больными своих непосредственных переживаний, ощущений, потока сознания, их рефлексии по этому поводу, что достигается посредством табуирования во время первоначального общения с пациентом всех задающих направление вопросов в их неравномерной детализации;
● концентрация внимания на том, что в постоянно текущем изменчивом потоке действительно выходит за рамки обычного и потому «оправдывает наше удивление», выделив и ограничив его;
● воспроизведение в себе этих сообщенных переживаний во всей возможной полноте и структурной расчлененности в «понимающем прочувствующем представлении», что требует акта вчувствования, эмпатии и понимания этих переживаний;
● достижение в результате свободного варьирования в воображении их образа, мысленно экспериментируя с которым, ставя в различные положения и сочетания, можно достичь полной и устойчивой ясности (инвариантности) в наглядной образной форме;
● четкое очерчивание психических состояний в их взаимосвязи («феноменологические провалы» и «феноменологические переходы»), дифференциация их, с разработкой максимально физиогномической терминологии, дающей точное именование (квалификацию).
Феноменология является эмпирическим актом, образующимся благодаря сообщениям больных. Именно поэтому К. Ясперс так высоко ценил подробные истории болезни. В предлагаемом им методе описание требовало, кроме систематических категорий, удачных формулировок и контрастирующих сравнений, выявление родства феноменов, их порядка следования или их появления на непроходимых расстояниях и имело своей задачей наглядно представлять психические состояния, переживаемые больными, рассматривать их родственные соотношения, как можно более строго ограничивать их, различать и определять их во времени. Поскольку мы никогда не в состоянии непосредственно воспринимать чужое психическое таким же образом, как и физическое, речь могла идти, по мнению К. Ясперса, лишь о представлении, вчувствовании, понимании, достижимых посредством перечисления ряда внешних признаков психического состояния и условий, при которых оно возникает, чувственного наглядного сравнения и символизации, посредством разновидности суггестивного изображения. Именно поэтому Ясперс отводил такую роль самоописаниям больных, а также развернутым историям болезни, где необходимо давать отчет о каждом психическом феномене, о каждом переживании, не ограничиваясь общим впечатлением. Феноменологическая психиатрия, в отличие от ортодоксальной психиатрии и некоторых иных (к примеру, психоанализа), использует принципы понимающей, а не объясняющей психологии. Переживание человека рассматривается многомерно, а не толкуется (как это принято в ортодоксальной психиатрии) однозначно. За одним и тем же переживанием может скрываться как психологически понятный феномен-признак, так и психопатологический симптом. Для феноменологически ориентированного психиатра не существует однозначно патологических психических переживаний. Каждое из них может относиться как к нормальным, так и к аномальным. Если в рамках ортодоксальной психиатрии вопрос нормы – патологии трактуется произвольно на базе соотнесения собственного понимания истоков поведения человека с нормами общества, в котором тот проживает, то в феноменологической психиатрии существенное значение для диагностики имеют субъективные переживания и их трактовки самим человеком (то, что представители первого направления обозначили бы «психологизаторством»). Психиатр же следит лишь за логичностью этих объяснений, а не трактует их самостоятельно в зависимости от собственных пристрастий, симпатий или антипатий и даже идеологических приоритетов.
В повседневной практике можно выделить четыре основных принципа клинической феноменологии.
1. Принцип понимания используется как противопоставление принципу объяснения, широко представленному в ортодоксальной психиатрии и основанному на критерии понятности или непонятности для нас (сторонних наблюдателей) поведения человека, его способности поступать правильно и исключать нелепые высказывания и действия. В рамках феноменологической психиатрии критерий понятности переходит в русло понимания и согласия диагноста с логичной трактовкой собственных переживаний и реакцией на них.
В знаменитом примере К. Ясперса с идеями ревности для ортодоксального психиатра базой для диагностики бреда ревности будет выступать «нелепый характер высказываний и умозаключений больного» («жена изменяет, потому что вставила новые зубы»), а для феноменологического психиатра существенным, наряду с другими параметрами, будет анализ понимания человеком сути измены («что вкладывать в понятие измены»). Без оценки субъективного смысла «измены» невозможно говорить о генезе ложной убежденности, характерной для бреда. Без понимания субъективности переживания человека нельзя сделать вывод об их обоснованности и логичности. Принцип понимания позволяет отделить психологические феномены от психопатологических симптомов, а в некоторых случаях и постараться их противопоставить чисто лингвистически. Один и тот же феномен после акта понимания, вчувствования может быть назван нами либо аутизмом, либо интраверсией, резонерством или демагогией, амбивалентностью или нерешительностью и т. д.
2. Следующим феноменологическим принципом является принцип «эпохе», или принцип воздержания от суждения. В психиатрии его можно было бы модифицировать в принцип воздержания от преждевременного суждения. Его суть заключается в том, что в период феноменологического исследования необходимо отвлечься, абстрагироваться от симптоматического мышления, не пытаться укладывать наблюдаемые феномены в рамки нозологии, а пытаться лишь вчувствоваться. Следует указать, что вчувствование не означает полного принятия переживаний человека и исключения анализа его состояния. В своем крайнем выражении вчувствование может обернуться субъективностью и привести к неправильным выводам.
3. Принцип беспристрастности и точности описания феномена заключается в требовании исключить любые личностные (присущие врачу-диагносту) субъективные отношения, направленные на высказывания обследуемого, избежать субъективной их переработки на основании собственного жизненного опыта, морально-нравственных установок и прочих оценочных категорий. Точность описания требует тщательности в подборе слов и терминов для описания состояния наблюдаемого человека.
4. Принцип контекстуальности наблюдаемого феномена, т. е. его описание в контексте времени и пространства. Принцип контекстуальности подразумевает, что феномен не существует изолированно, а является частью общего восприятия и понимания человеком окружающего мира и самого себя.
Восприятие клинико-феноменологических характеристик у опытного клинициста, как правило, сопровождается чувством определенной меры (степени):
● непосредственности переживания того, о чем идет речь; идет ли речь о том, что переживается сейчас, или сообщается о недавнем или давнем прошлом;
● ясности, очевидности предмета рассмотрения (хорошо ли понял);
● надежности его восприятия (хорошо ли увидел, услышал).
Данные всех описаний, измерений, экспериментов и статистической обработки теряют смысл, пока нет ясного понимания того, что именно описано и измерено.
Хотя арсенал диагностических средств огромен и продолжает неуклонно расти, исторически и гносеологически сложилось так, что первыми в процессе чувственного познания феномена болезни применяются клинические методы: наблюдение, беседа, изучение продуктов творчества больных и пр. Однако, как бы совершенны и точны эти методы ни были, следует помнить, что с их помощью определяются только признаки болезни, а не диагноз. Каждый из обнаруженных признаков отражает лишь определенное свойство или качество патологического процесса, выявляемое с помощью адекватного метода исследования. Все патологические свойства-признаки находятся в определенной взаимосвязи, обусловленной патогенезом болезни и теми уровнями функционирования организма, на которых они возникают и существуют.
Познание феномена болезни в психиатрии начинается с обнаружения всех имеющихся у пациента признаков, а не только психопатологических. После их анализа, систематизации, изучения динамики и формирования диагностических гипотез планируется объем дальнейшего обследования, применение методов которого позволяет уточнить выявленные ранее признаки и обнаружить новые, скрытые. Такой подход дает возможность отнести конкретный случай к тому или иному роду заболеваний. Будучи субъективными по своей форме, психопатологические признаки объективны по происхождению, они косвенно, как бы «в снятом виде», отражают внешне невидимые биологические процессы и подчиняются всем общепатологическим закономерностям. Следовательно, диагностика психических заболеваний должна строиться в соответствии с общей теорией патологии человека. Поэтому клинический метод является не только начальным, но и ведущим на этапе распознавания признаков болезни. Данные же любого параклинического обследования, как бы современны и точны они ни были, получают диагностическую ценность и значимость исключительно при клиническом анализе, который использует всю медицинскую информацию. Его основной путь – от признака к симптому, от симптомов к синдрому с распознаванием синдромогенеза и синдромокинеза, затем к синдромотаксису и лишь потом – к нозологической квалификации случая.
На втором этапе диагностического процесса проводятся клинический анализ, терминологическое типирование и систематизация симптомов. При этом большое значение приобретает такой важный аспект диагностики, как семиотика. Ее предмет – выделение и изучение диагностического значения отдельных признаков и их связи с патологией. Описание и обозначение патологических признаков осуществляются с помощью системы симптомов. Симптом – абстрактное понятие (результат врачебного суждения или умозаключения), обозначающее строго фиксированное по форме описание признака, соотнесенного с определенной патологией. Это терминологическое обозначение патологического признака. Не каждый признак является симптомом, а только названный при установлении его причинно-следственной связи с патологией. С называния симптома начинается профессиональная коммуникация. Для последней необходима унификация терминологии, в том числе психиатрической, которая является не только материалом для методологически правильного построения диагноза, но и основной формой профессиональной коммуникации. Психиатры должны «видеть одинаково», т. е. одни и те же признаки обозначать одними и теми же терминами. Каждая отрасль медицины имеет свой семиотический аппарат. Семиотический аппарат психиатрии определяется набором психопатологических симптомов. Выявление симптомов в большинстве случаев позволяет лишь констатировать факт наличия болезни вообще и отнести ее к той или иной отрасли медицины, так как каждая клиническая наука имеет их особый набор. Специфическими для психиатрии являются психопатологические симптомы. Они делятся на продуктивные и негативные. Продуктивные обозначают признаки патологической продукции (вновь возникающие дезадаптивные признаки) психической деятельности (сенестопатии, галлюцинации, бред, тоска, страх, тревога, эйфория, психомоторное возбуждение и т. д.). Негативные включают признаки обратимого или стойкого, прогрессирующего, стационарного или регрессирующего ущерба, выпадения, изъяна, дефекта того или иного психического процесса (гипомнезия, амнезия, гипобулия, абулия, апатия и т. п.). Продуктивные и негативные симптомы в клинической картине болезни выступают в единстве, сочетании и имеют, как правило, обратно пропорциональное соотношение: чем более выражены негативные симптомы, тем менее, беднее и фрагментарнее – продуктивные. Совокупность всех симптомов, выявленных в процессе обследования конкретного больного, образует симптомокомплекс. Выделение его – следующий, более высокий по сравнению с определением симптомов уровень познания болезни. Но и этот уровень еще далеко не достаточен для определения болезни, так как набор симптомов может быть обусловлен разнообразными факторами (патогенетическими, патопластическими, конституционально-индивидуальными, социальными, модифицирующими и пр.).
Симптомокомплекс отражает реальную картину болезни на момент обследования и является конкретным проявлением имеющейся у больного совокупной патологии. В нем выделяется ряд закономерно сочетающихся друг с другом симптомов, образующих синдром.
Синдром – строго формализованное описание закономерного сочетания симптомов, которые связаны между собой единым патогенезом и соотносятся с определенными нозологическими формами. В его структуре значимость симптомов различна. Симптомы подразделяются на обязательные (среди них есть ведущие), дополнительные и факультативные.
Возникновение обязательных симптомов обусловлено основными патогенетическими механизмами болезни.
Дополнительные симптомы отражают тяжесть, выраженность патологического процесса, а факультативные связаны с модифицирующим влиянием различных добавочных патопластических факторов.
Ведущие симптомы характеризуют принадлежность данного психопатологического синдрома к определенной группе. Это симптомы, без которых данный синдром не существует. Характерной чертой ведущих симптомов является то, что при становлении синдрома они появляются раньше других симптомов, а при обратном развитии синдрома исчезают во многих случаях в последнюю очередь. Например, к ведущим относят симптом тоски при депрессивных синдромах, симптом истинных слуховых галлюцинаций при вербальных галлюцинозах. Обязательные симптомы, как и ведущие, имеют прямое отношение к патогенетическим механизмам развития болезни и тесно с ними связаны. Они дают возможность выделить из группы синдромов конкретный синдром, диагностировать его типичный вариант и отделить от сходных состояний. Например, ведущий симптом – витальная тоска – позволяет отнести феномен болезни к группе депрессивных синдромов, а обязательные симптомы – гипокинезия и замедление темпа мышления – выделить его в самостоятельный вариант, назвать его «депрессивный синдром классического типа» и дифференцировать с иными депрессивными состояниями, например, с ажитированной депрессией.
Ведущие и обязательные симптомы с позиции формальной логики относятся к существенным признакам синдрома. При этом ведущие симптомы – родовые признаки синдрома, а обязательные – его видовые отличия. Дополнительные симптомы характеризуют признаки, которые закономерно встречаются в рамках определенного синдрома, но могут и отсутствовать. Они свидетельствуют об определенной тяжести патологического процесса, сопровождающегося появлением данного синдрома, степени его клинической выраженности. Так, голотимические бредовые (или сверхценные) идеи пониженной самооценки, суицидальные мысли, намерения, замыслы и действия, являясь дополнительными симптомами в структуре депрессивного синдрома классического типа, указывают на его психотический уровень, особую тяжесть, позволяют отличить от непсихотического субдепрессивного синдрома и являются клиническим показанием для применения медико-социальных мер, в частности – недобровольной госпитализации. Факультативные симптомы имеют еще меньшую связь с базисным патогенезом. Их появление большей частью зависит от действия привходящих патопластических факторов («почвы»), модифицирующих структуру синдромов. Они позволяют выделить атипичные варианты последних. Например, появление в структуре субдепрессивного синдрома таких факультативных симптомов, как выраженные соматовегетативные расстройства, фобии, обсессии, сенестопатии и др., позволяет типировать его атипичный вариант, называемый ларвированной субдепрессией. Дополнительные и факультативные симптомы с позиции формальной логики относятся к несущественным признакам синдрома. При этом дополнительные симптомы – собственные признаки, а факультативные – несобственные. Таким образом, разделение симптомов, образующих синдром, на ведущие, обязательные, дополнительные и факультативные дает возможность не только отнести конкретное синдромальное образование к той или иной группе, но и выделить его конкретный вид, определить выраженность, форму, обозначить как типичный или атипичный вариант.
Психопатологические синдромы – структуры, изменяющиеся во времени, что делает необходимым изучение их синдромокинеза.
Синдромокинез – раздел семиотики, изучающий динамику возникновения, развития, существования, соотношения и исчезновения структурных элементов синдрома (от момента возникновения до полного регресса). Структурно-динамические варианты его отражают определенные варианты патогенеза и косвенно о них свидетельствуют. Синдромы могут развиваться этапно (непароксизмальные) и мгновенно (пароксизмальные). По степени структурной завершенности синдромы делятся на развернутые и абортивные (редуцированные, неразвернутые).
Синдромокинез и патокинез имеют близкое, но не идентичное значение. Признаком синдрокинеза являются внешние, в первую очередь клинические проявления болезни. Иными словами, синдромокинез – это динамика возникновения, развития и исчезновения структурных элементов синдрома – симптомов. Понятие «патокинез» наряду с клиническими аспектами болезни отражает динамику нейробиологических (нейрофизиологических, нейрохимических, патологоанатомических) процессов. Различные варианты синдромокинеза соответствуют преобладанию определенных звеньев патогенеза.
Проявлением динамики болезни является видоизменение структуры синдрома. Психопатологические синдромы представляют собой «динамические образования с меняющимся соотношением синдромов», в процессе развития болезни «одни симптомы выдвигаются на первый план, другие редуцируются или оказываются скрытыми». Закономерности последовательности развития и смены симптомов не имеют абсолютного, жестко детерминированного характера, что определяется многообразием, вариативностью патогенетических механизмов. У конкретного больного отдельные симптомы и даже этапы болезни могут отсутствовать.
В одних случаях развитие манифестных проявлений болезни происходит постепенно (расстройства шизофренического и аффективного спектра, деменции), в других случаях имеет место одномоментное формирование развернутой клинической картины заболеваний. В этом случае продромальный и инициальный этапы болезни отсутствуют (пароксизмальные психические расстройства).
Пароксизм и приступ
Термины «приступ» и «пароксизм» часто используются в литературе в качестве синонимов для обозначения внезапно возникающих и быстро преходящих психических расстройств. Разграничение внешне сходных по клиническим проявлениям, но принципиально различных по механизмам развития состояний имеет важное практическое значение.
Одним из основных клинических признаков пароксизмальных психических расстройств является внезапное, без продромального периода, начало и столь же внезапное окончание приступа. Кратковременность состояния является вторым важным признаком пароксизмальных нарушений. Пароксизмальные психические расстройства характеризуются отсутствием этапности в развитии клинической картины. В межприступном периоде психических нарушений у больных, как правило, не наблюдается.
Значимым признаком пароксизмальных состояний является развитие нарушений по типу «клише». Стереотипность (от греч. stereos – твердый и typos – отпечаток, повторяющийся без изменений) предполагает постоянство, константность клинических проявлений пароксизмальных психических нарушений при их повторении. Каждое последующее пароксизмальное состояние является точной копией предыдущего. Для характеристики пароксизмальных психических нарушений используют понятие «фотографической» или «кинематографической» точности, отражающее полное сходство, идентичность нарушений при их повторении.
Приступообразные психические нарушения, напротив, отличаются вариативностью клинической картины. Приступообразный характер имеют эпизоды репереживания психотравмирующей ситуации при посттравматическом стрессовом расстройстве. Полной тождественности клинических проявлений при повторении эпизодов репереживания психотравмирующей ситуации (флэшбэк) не наблюдается. Характерным является сходство, но не идентичность сюжета повторно переживаемой ситуации. В одних случаях при повторении эпизодов репереживаний сходство преобладает над различием, в других – различие над сходством. Эпизоды репереживаний имеют различные клинические проявления и различную продолжительность. При легких абортивных приступах наблюдаются только зрительные образы (визуализированные воспоминания и представления), при более тяжелых приступах зрительные образы дополняются акустическим, тактильным, обонятельным компонентом (сенсориализированные воспоминания и представления).
На третьем этапе диагностического процесса применяется динамический подход к изучению не только возникновения, становления, развития и регресса психопатологических синдромов, но и их взаимосвязи – синдромотаксиса. Последний характеризует патогенетическую однородность, особенности и порядок сочетаний, изменчивость и скорость чередования синдромов в «длиннике» психического заболевания. Синдромотаксис представляет собой переход диагностического процесса на более высокий уровень систематизации и обобщения клинических данных уже в рамках патокинеза и нозологической предпочтительности синдромов. В нем отражена определенная закономерность развития клиники болезни, ее психопатологический стереотип, где все – от начала и до конца – присуще именно этому заболеванию: синдромы инициального этапа, манифеста, апогея, финала. Каждая нозологическая единица имеет свой предпочтительный синдромотаксис.
Существуют разнообразные варианты синдромотаксиса. Один из них заключается в усложнении трансформирующихся синдромов. Нередко это проявляется в том, что болезнь начинается простым синдромом, который по мере утяжеления патологического процесса усложняется, превращается в сложный за счет последовательного появления (присоединения) новых ведущих симптомов. Такой синдромотаксис указывает на утяжеление, прогрессирование, прогредиентность болезни. Наиболее типичен он для прогредиентных заболеваний. Каждый вариант синдромотаксиса – специфическая клиническая информация о типе патогенетических закономерностей психического заболевания. При этом оказывается, что каждый синдром в рамках конкретного заболевания имеет свою историю, т. е. несет в себе информацию, делающую возможными реконструкцию прошлого и прогнозирование будущего психопатологического состояния.
Психопатологические синдромы разделяются на продуктивные и негативные. При оценке заболевания необходимо рассматривать их в единстве и взаимосвязи. Такой принцип важен для понимания патогенетической сущности и нозологической предпочтительности синдромов. Проблема взаимной связи позитивных и негативных синдромов и нозологии исследована А. В. Снежневским.
Завершает процесс диагностики обобщение и сопоставление синдромотаксиса и информации, полученной при исследовании всех иных уровней патологического функционирования организма больного. Составляется медицинское заключение о патологическом процессе или состоянии, т. е. формулируется диагноз определенной нозологической единицы – идеальной модели болезни, обобщенно описанной в медицинских терминах и выраженной в языковых знаках. Этот раздел диагностики является предметом семиологии – науки о принципах соотнесения конкретной клинической картины с определенными нозологическими формами. В психиатрической семиологии целесообразно выделение рода, вида и типа заболевания.
В зависимости от рода заболеваний, определяемого их этиологической принадлежностью, выделяют следующие группы.
1. Эндогенные – хромосомные, наследственные или с наследственным предрасположением (мультифакториальные болезни, патогенез которых обусловлен в основном изначально внутренними механизмами, сформированными генетически).
2. Экзогенные, при которых этиологический фактор, действуя из внешней материальной среды, при взаимодействии с организмом вызывает его повреждения, которые и формируют патогенез болезни и ее клинику.
3. Психогенные, при которых этиологическим фактором выступает микросоциальный конфликт, психотравма – взаимодействие личности с неприемлемой для нее ситуацией в системе отношений.
4. Соматогенные (симптоматические), при которых причиной психического расстройства является первично нецеребральное соматическое страдание, изменяющее внутреннюю среду организма так, что уже эта измененная среда становится патогенной для функционирующего мозга и вызывает разнообразные нарушения его деятельности. Например, гипогликемия при сахарном диабете приводит к оглушенности.
Вид болезни – отдельная нозологическая форма в пределах того или иного рода заболеваний. Видами эндогенных болезней являются шизофрения и биполярное аффективное расстройство. Травматическая болезнь мозга, энцефалит и другие относятся к экзогенным; неврозы, реактивные психозы – к психогенным расстройствам; деменции и прочие психические нарушения при эндокринопатиях и иных соматических заболеваниях – к соматогенным.
Тип заболевания – разновидность конкретной нозологической формы, выделяемая по форме течения болезни или особенностям структуры ее ведущего синдрома. В психиатрической практике встречаются два наиболее универсальных типа течения заболеваний – непрерывное и приступообразное. В свою очередь, первое может иметь регредиентный, стационарный и прогредиентный (прогрессирующий) характер. Второе – фазный, рецидивирующий, рекуррентный и приступообразно-прогредиентный.
В развитии заболевания различают дебют, инициальный период, этап развернутой клинической картины, этап ее стабилизации и исход.
Дебют заболевания – это появление его первых признаков. Инициальный период характеризуется наличием неспецифических, непсихотических, общесоматических, вегетативных, неврозоподобных, психопатоподобных или эмоциональных расстройств с трудно выявляемой их нозологической предпочтительностью. На этапе развернутой клинической картины имеют место характерные для данной нозологической единицы синдромогенез, синдромокинез и синдромотаксис. Начало этого этапа может иметь манифестный (психотический) или неманифестный (непсихотический – неврозоподобный, субдепрессивный, гипоманиакальный и т. п.) характер. На этапе стабилизации прекращается дальнейшая трансформация симптоматики, ее усложнение и утяжеление. Симптоматика болезни как бы «застывает» на одном уровне с незначительными колебаниями интенсивности.
Исходом психических заболеваний может быть: полное выздоровление, неполное выздоровление с остаточной (резидуальной) симптоматикой, стабилизация состояния на одном из уровней психопатологических расстройств, глубокий дефект, смерть.
Прогредиентность и генерализация. Прогредиентность (лат. progredier – идти вперед) – признак, характеризующий эндогенные и эндогенно-органические заболевания, протекающие по процессуальному типу с нарастанием негативной и позитивной симптоматики. Противоположный тип течения, с наблюдаемой со временем тенденцией к обратному развитию позитивных, а иногда и негативных симптомов, носит название регредиентного.
Термин «генерализация» (от лат. generalis – общий) используется в научной литературе в нескольких основных значениях. При широком общенаучном толковании термина под генерализацией понимают процесс обобщения, перехода от частного к общему, «подчинение частных явлений общему принципу». В медицинских дисциплинах под генерализацией понимают распространение ограниченного, локального процесса на другие системы и органы, на весь организм в целом. В клинической психиатрии в качестве проявления генерализации болезненного процесса рассматривается трансформация простых (малых) психопатологических синдромов в сложные (большие).
Прогредиентность заболевания характеризует в первую очередь темп, скорость нарастания симптоматики. При этом общая тенденция к прогрессированию болезни не исключает периодов замедления темпа нарастания нарушений. Понятие генерализации характеризует в большей степени не скорость, темп, а диапазон наблюдаемой психопатологической симптоматики.
Понятие прогредиентности отражает общую тенденцию к прогрессированию, утяжелению состояния на всем протяжении болезни. Понятие генерализации характеризует тенденцию динамики нарушений только на определенном этапе болезни. Тенденция к генерализации психических расстройств может наблюдаться в определенные периоды заболеваний с регредиентным течением.
Генерализация болезни сопровождается усложнением клинической картины, нарастанием полиморфизма психопатологической симптоматики. При этом состояние больного может определяться психопатологической симптоматикой одного или нескольких регистров нарушения психической деятельности. Необходимо отметить, что пестрота, полиморфизм симптоматики могут быть связаны не только с прогрессированием, генерализацией болезни, но и с влиянием патопластических, биологических и социально-психологических факторов.
Генерализация клинической картины может в одних случаях реализоваться за счет утяжеления и усложнения симптоматики одного регистра, в других случаях – за счет присоединения нарушений более сложного регистра. Так, проявлением генерализации бреда является распространение болезненных переживаний на все более широкий круг событий и лиц, привлечение новых фактов для доказательства истинности болезненных переживаний. «Все больше и больше событий, явлений вовлекается в сюжет». Бредовые предположения, гипотезы сменяются бредовой убежденностью. Происходит переориентация направленности вектора бредовых переживаний. Все большее значение приобретает ретроспективная бредовая трактовка событий прошлой жизни. Изменяется поведение больных с бредовыми идеями. Бредовое избегание сменяется активным стремлением к противоборству с лицами, вовлеченными в болезненные переживания, «преследуемые превращаются в преследователей».
Частные признаки генерализации бреда различаются в зависимости от преобладающего механизма бредообразования.
Проявлением генерализации острого чувственного бреда является усложнение клинической картины за счет факультативных компонентов симптомокомплекса чувственного бреда – ложных узнаваний, антагонистического бреда, острых бредовых интерпретаций. Ложные узнавания приобретают множественный характер. Переживание сходства окружающих с хорошо знакомыми больному людьми быстро возникает и столь же быстро отвергается. Знакомые для больного лица узнаются то в одном, то в другом человеке, один и тот же человек напоминает больному сразу нескольких знакомых. Предположение о «подстроенности» происходящего сменяется твердой убежденностью в этом. Бредовые идеи инсценировки приобретают устойчивую фабулу с разделением лиц, вовлеченных в болезненные переживания, на два лагеря. Проявлением генерализации бреда воображения является включение конфабуляторного механизма бредообразования. Парафренизации состояния способствует возникновение ложных воспоминаний фантастического содержания – псевдогаллюцинаций памяти.
О генерализации интерпретативного бреда свидетельствует появление парамнезий, тематически связанных с основной фабулой бредовой идеи. Ошибочные воспоминания касаются отдельных деталей, хронологической последовательности происходивших событий. Развитие парамнезий тесно связано с кататимной бредовой оценкой действительности. Другим проявлением генерализации интерпретативного бреда является возникновение особого вида обманов восприятия в виде галлюцинаций воображения. Содержание галлюцинаций воображения, вторичных по отношению к бредовым идеям, отражает тематику бредовых переживаний.
При генерализации навязчивых нарушений происходит расширение круга объектов и ситуаций, вызывающих актуализацию навязчивостей, отмечается формирование вторичных фобий и обсессий. Другим проявлением генерализации является усложнение психопатологической структуры навязчивого синдрома – присоединение к первичным фобиям и обсессиям навязчивых воспоминаний, представлений, влечений. Прослеживается тенденция к визуализации навязчивых воспоминаний и представлений. Навязчивые страхи утрачивают кондициональный характер. Исчезает связь аффекта тревоги с определенными фобическими стимулами и ситуациями. Монотематические страхи трансформируется в панфобию. Парциальное избегание сменяется тотальным избеганием. Больные отказываются от попыток преодоления, борьбы со страхом. Исчезает критическое отношение к страху. Патологические страхи приобретают сверхценный характер. Навязчивые сомнения и опасения возникают по любому поводу, при столкновении с обыденными рутинными повседневными жизненными проблемами. Таким образом, тенденция к генерализации навязчивостей отражает трансформацию психопатологических расстройств в патохарактерологические.
Еще одним проявлением генерализации навязчивостей является усложнение системы символической защиты. Происходит формирование защитных ритуалов второго и третьего порядка. Частым следствием генерализации навязчивых расстройств является присоединение вторичной депрессивной, ипохондрической, деперсонализационной, конверсионной симптоматики.
Понятие генерализации имеет значение при выборе психофармакологической терапии. Так, по Г. Я. Авруцкому (1981), к негенерализованным синдромам относятся те, которые расположены в I–IV кругах общеизвестной модели (астения, аффективные, невротические и неврозоподобные, паранойя и вербальный галлюциноз). Начиная с V круга синдромы имеют характер генерализованных, т. е. отражающих более выраженную и распространенную (не локальную) дисфункцию головного мозга. С точки зрения Г. Я. Авруцкого (1981), при терапии состояний, характеризующихся генерализованными психопатологическими синдромами, избирательное действие лекарства заметно меньше, преобладает общее психотропное (иными словами, чем синдром менее генерализован, тем ярче проявляются психотропные свойства отдельных препаратов).
Систематизация (от греч. systema – соединение, связывание, составление из частей) является одной из форм генерализации бредовых и навязчивых нарушений. Систематизация бредовых идей наблюдается в случае преобладания интерпретативного механизма бредообразования, имеющего в основе искажение внутренних связей между предметами и явлениями. Отдельные бредовые суждения и умозаключения взаимосвязаны, образуют последовательную цепь доказательств и выводов. Формируются соподчиненные, иерархические отношения между «центральной идей» и производными вторичными идеями, связанными содержательно и причинно-следственно с основной патологической идеей.
Систематизированный бред составляет основу различных по фабуле вариантов паранойяльного синдрома. Монотематический интерпретативный бред фантастического содержания определяет клиническую картину систематизированной парафрении.
В случае систематизации обсессивно-фобических нарушений центральным элементом синдрома становятся навязчивое переживание, вызывающее наибольшее эмоциональное неприятие при рецидивировании. Актуализация контрастных навязчивых опасений либо сомнений определяет появление связанных с ними по содержанию вторичных навязчивых нарушений контрастного характера. Опасение совершения агрессивных действий в отношении близкого человека вызывает возникновение навязчивых воспоминаний, представлений, побуждений, связанных с возможностью нанесения физического или морального вреда близкому человеку.
Понятие «кристаллизация» (от фр. crystallization – упорядочивание) используется в литературе для характеристики как бредовых, так и навязчивых расстройств. Кристаллизация бредовых идей рассматривается как один из этапов динамики первичного интерпретативного бреда, следующий за этапом «первичного бредового настроения». Бредовые гипотезы и предположения периода «первичного бредового настроения» сменяются стойкой бредовой убежденностью. Формируется устойчивая бредовая фабула с переосмыслением реальных событий, с установлением причинно-следственных связей, понятных только больному. Бредовая система приобретает законченность и стройность. Расширяется круг по-бредовому интерпретируемых событий и фактов.
Иное значение вкладывается в понятие «кристаллизация навязчивости». В этом случае речь идет о появлении или восстановлении облигатных признаков навязчивостей – персевераторной повторяемости и критического отношения к болезненным переживаниям.
Как правило, термин «кристаллизация» используется для характеристики клинических особенностей навязчивостей с преобладанием аффективного компонента – фобий. Рецидивирование и актуализация навязчивого страха происходят только в строго определенной для каждой фобии ситуации, под влиянием строго определенного внешнего стимула. Актуализация кардиофобии наблюдается в ситуации затрудненного оказания помощи, актуализация социальных фобий – в «ситуациях общения и действия».
Кристаллизация навязчивостей характерна для этапа становления, формирования манифестного болезненного состояния либо при регредиентной динамике болезни в процессе обратного развития симптоматики.
Регистры (от лат. registrus – список, указатель, группа) – понятие, характеризующее уровень поражения психической деятельности. Концепция регистров психических расстройств базируется на положении о топографическом послойном строении психической деятельности. Многообразие психических нарушений Э. Крепелин впервые сравнил с различными регистрами органа, которые приводятся в действие в зависимости от силы или распространенности болезненных изменений.
Развитие концепции регистров нашло продолжение в моделировании соотношения психопатологических синдромов и нозологических единиц с помощью системы кругов А. В. Снежневского. Каждый регистр включает несколько синдромов, эквивалентных по общей тяжести нарушения психической деятельности.
Выделенные группы психопатологических синдромов соотносятся с определенными заболеваниями. Данное обстоятельство определяет большую или меньшую предпочтительность психопатологических синдромов для определенной группы заболеваний. Каждая группа заболеваний, имеющая общие патогенетические механизмы, клинически проявляется определенным предпочтительным для данной группы набором синдромов.
Соответственно степени генерализации патологического процесса происходит усложнение продуктивной психопатологической симптоматики с трансформацией простых («малых») синдромов в сложные («большие»). В структуре сложного синдрома возможным является сочетание симптоматики как одного, так и нескольких регистров. Прогрессирование негативных расстройств видоизменяет структуру продуктивной симптоматики в обратном направлении – от наиболее сложных к более простым психопатологическим синдромам.
Важно отметить, что психопатологические синдромы одного регистра могут отражать различную степень тяжести нарушения психики. Распределение синдромов по регистрам на основании иерархического принципа не имеет абсолютного характера. В частности, среди синдромов деменции, относимых к одному регистру, могут быть выделены простые или «малые» синдромы (парциальная деменция) и «большие» комплексные синдромы, включающие нарушения различных когнитивных функций (деменция с афазией, апраксией и агнозией). Совершенно очевидно, что и аффективные синдромы могут отражать различную степень поражения психики (дистимия и меланхолическая депрессия, гипомания и мания).
Понятие регистра имеет значение при выборе психофармакологической терапии. Так, по С. Н. Мосолову (1996), нейролептики адресуются преимущественно к психотическому регистру, антидепрессанты и нормотимики – к аффективному, транквилизаторы – к невротическому, ноотропы – к органическому регистру (выделяя эти регистры, автор ссылается на работы К. Ясперса (1912) и А. В. Снежневского (1960)).
Понятие «спектр» (от лат. spectrum – совокупность значений, характеризующих систему или процесс) отражает распределение значений определенной переменной. Спектральный подход к диагностике психических и поведенческих расстройств, основанный на континуальном принципе, предполагает объединение сходных в клиническом и патогенетическом отношении расстройств в единую группу. Под спектром в психиатрии понимают «континуум феноменов, простирающихся от нормы до патологии с отказом от разделения на nosos и pathos».
Теоретической основой спектрального подхода к диагностике является положение К. Ясперса об отсутствии принципиальных различий между нормой и патологией, психологией и психопатологией.
Концепция расстройств аффективного спектра основывается на гипотезе о единой патогенетической сущности состояний с преобладанием в клинической картине депрессивных и маниакальных состояний. Один полюс континуума аффективных расстройств представлен депрессивными состояниями психотического и невротического уровня в рамках рекуррентного депрессивного расстройства, другой полюс представлен психотической манией и гипоманией в рамках биполярного аффективного расстройства.
К особым формам расстройств аффективного спектра могут быть отнесены состояния с различным удельным весом эндогенно-конституционального и психогенного факторов – депрессия истощения П. Кильхгольца, депрессия почвы К. Шнайдера, эндореактивная дистимия К. Вайбрехта. Промежуточное, переходное положение между психогенными и эндогенными депрессиями занимает диагностическая категория дистимии, включенная в основные современные классификации психических и поведенческих расстройств, – депрессия невротического уровня с затяжным течением.
Отсутствие четких границ между отдельными диагностическими категориями – уязвимое место спектрального подхода к диагностике и систематике. Размытость, неопределенность границ внутри континуума является препятствием для формирования гомогенных в клиническом отношении групп при проведении научных исследований.
Кластер. Кластерный анализ – метод многомерной статистики, обеспечивающий разделение множества на группы, упорядочивание объектов или признаков в сравнительно однородные группы. Кластер (от cluster – гроздь) – группа объектов или признаков, выделяемых по совокупности общих для этой группы характеристик. При этом разделение множества на группы осуществляется не по одному, а по совокупности значимых характеристик.
Процесс кластеризации предполагает выделение различных групп объектов с общими признаками. Каждый объект или признак может принадлежать только к одной группе. Объекты и признаки, принадлежащие к одному кластеру, должны обладать сходством, а объекты и признаки, принадлежащие к разным кластерам, – различием.
Объединение в кластер различных диагностических категорий означает наличие у них больше сходства, чем межгрупповых различий. В отличие от спектра кластер или «семейство» диагностических категорий не основывается на континуальном принципе.
При математико-статистическом анализе под кластером понимают группу переменных, имеющих более высокие корреляции друг с другом в сравнении с другими переменными.
В психопатологии кластер – группа симптомов и признаков, обладающих высоким уровнем корреляции. Понятие «дименсия» является производным от понятия «кластер». Дименсия – это кластер психопатологических и поведенческих признаков, которые преобладают при данном расстройстве. Важно понимать, что любой категориальный диагноз может быть разделен на составляющие или дименсии посредством разделения целого на части.
Иерархическая организация кластеров способствует раскрытию клинико-патогенетических закономерностей психических и поведенческих расстройств. На основе кластерного анализа разработаны отдельные разделы современных международных классификаций. В ДСМ-5 систематика расстройств личности основана на данных кластерного анализа.
При этом выделены:
Кластер А: странный, необычный, эксцентричный;
Кластер В: драматичный, эмоциональный, неустойчивый;
Кластер С: тревожный, боязливый.
В качестве иллюстрации кластерного подхода можно привести работу Trevithick L. et al. (2015). Авторы разработали кластерную систематику психических нарушений с прагматичной целью улучшения эффективности психиатрической помощи, а также совершенствования системы ее оплаты. Компьютерный анализ позволил им выделить 21 кластер психических расстройств, сгруппированных в 3 класса: непсихотический, психотический и органический. Выделение кластеров осуществлялось на основании валидизированных методик: Mental Health Clustering Tool (MHCT) и Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS).
Домен (от фр. domanie – область, территория, сфера) – единица структуры, отличающаяся по своим свойствам от других смежных единиц. Термин «домен» заимствован из информатики. В опосредованном переводе домен представляет собой часть целого, отличающуюся строго определенными свойствами.
Домен имеет многовекторную структуру. Он представляет собой мозаику условно выделяемых уровней изучаемого явления: симптомов, психологических и поведенческих признаков, социальных навыков, последствий болезни. Целью выделения доменов является попытка охарактеризовать изучаемое явление максимально полно. Составляющие домена относятся к различным уровням оценки объекта или явления. В отличие от синдрома – понятия чисто клинического – в один домен могут быть включены данные оценки биохимического, иммунологического, физиологического, психологического, психопатологического, социометрического исследования. С одной стороны, компоненты одного домена могут входить в структуру различных синдромов, с другой – компоненты одного синдрома могут относиться к разным доменам.
Домен представляет собой взаимосвязанные составляющие, имеющие в своей основе «патогенетическое единство» разноуровневых характеристик. Структурные компоненты домена не связаны иерархическими отношениями. Отдельные составляющие являются равнозначными компонентами домена.
Понятие «домен» имеет преимущественно нормоцентрическую направленность. Примером использования данного термина с нормоцентрической направленностью является выделение доменов здоровья и благополучия в Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (ВОЗ, Женева, 2001). Исследовательские критерии доменов психического здоровья базируются в первую очередь на оценке объективно регистрируемых паттернов поведения и нейробиологических показателях в диапазоне от нормы до патологии. Основой для выделяемых доменов является отказ от клинических признаков в пользу нейробиологических маркеров и их поведенческих коррелятов.
Домен человеческого поведения и функционирования состоит из субдоменов: эмоций, когниции, мотиваций, социального поведения.
Домен здоровья складывается из значимого набора взаимосвязанных физиологических функций, анатомических структур, действий, сфер жизнедеятельности.
Выделение доменов в рамках традиционных психиатрических категорий основывается на дименсиональном подходе. Для реализации дименсионального подхода в клинической психиатрии используются психологические конструкты. Примером данного подхода является выделение когнитивного домена при депрессиях. Составляющими данного домена являются признаки, характеризующие функции внимания, памяти, психомоторные реакции, исполнительные функции при депрессивных состояниях.
Нозологическая форма – абстрактное обобщенное описание идеальной модели болезни, при сопоставлении которой с конкретной клинической картиной в процессе формирования индивидуального диагноза неизбежно возникают определенные трудности. Это связано с тем, что индивидуальное несравненно богаче, разнообразнее, изменчивее, нагляднее общего (в данном случае – общепатологического). Клиническая картина зависит не только от общих закономерностей патогенеза болезни, но и от конституциональных особенностей больного, его пола, возраста, социальных условий, действовавших на него в прошлом и существующих в настоящем, и т. д. При методологически правильном формировании индивидуального диагноза учитываются все перечисленные особенности заболевания у конкретного больного, т. е. проводится структурно-динамический, психопатологический и клинический анализ случая. Диагностический процесс имеет определенный алгоритм. Важно подчеркнуть, что клинический метод определяет направление и качество диагностического процесса в психиатрии. Все остальное служит дополнением к нему. Правильность и полнота решения задач любого этапа диагностического процесса зависят от того, насколько верно и полно они были решены на предыдущем. Речь идет не о простом суммировании результатов, получаемых на отдельных этапах диагностики. На каждом последующем как бы «в снятом виде» представлены итоги предыдущих. Именно таковы основные закономерности познания феномена болезни. Верно отражающий объективную реальность индивидуальный, методологически полный нозологический диагноз с прогнозом устанавливается при обязательном соблюдении последовательности его этапов.
Диагноз есть отражение наших знаний на данном этапе развития науки. Поэтому остаются справедливыми слова С. П. Боткина: «Диагноз больного есть более или менее вероятная гипотеза, которую необходимо постоянно проверять… Могут появиться новые факты, которые могут изменить процесс или увеличить его вероятность». Различают относительно истинный и ошибочный диагноз. Первый не является ошибочным, так как соответствует уровню знаний, достигнутому медициной на конкретный период времени. Второй обусловлен субъективными причинами или условиями. В его появлении всегда кто-то виноват. Одной из частых причин ошибочной диагностики психических заболеваний является незнание или несоблюдение методологических принципов построения диагностического процесса. Овладение принципами диагностики – профессиональный долг врача. В связи с этим такое важное значение приобретает знание общей психопатологии – «психиатрической азбуки» и профессионального языка психиатров, что является отправной точкой и базисом диагностического процесса.
Методологические подходы, которые привнесла в настоящее время доказательная медицина в клиническую практику, привели к тому, что в привычном взаимодействии «врач – больной» появился посредник – медицинский опросный инструмент (МОИ): психометрическая шкала, структурированное интервью и т. д.
В то же время основными методами клинической психиатрии были и остаются феноменологический и клинико-психопатологический. Пока наука не научится считывать мысли и образы с сознания человека (прерогатива научной фантастики), познать субъективный мир душевных переживаний можно лишь через их словесную передачу и частично по мимике, поступкам, вегето-соматическим реакциям. Наше сопереживание (по механизму эмпатии) основано на восприятии этих же внешних проявлений. Хорошо известно, что познать систему, не выходя за ее пределы, невозможно, поэтому клинический метод для познания самого себя не существует. А вот познать чужую психику при помощи своей, используя научный клинический метод, безусловно, можно. Недостаточность такого познания объективно присутствует, но точно так же относительно несовершенными надо признать психологические и другие методы, изучающие психическую (душевную) деятельность.
Абсолютизация формализованных подходов, математизация медицины и, в частности, психиатрии – позиция не бесспорная. Известный специалист по методологии диагноза и выдающийся клиницист А. Ф. Билибин подчеркивал, что «в медицине в принципе не все поддается измерению». То же о науке писал и З. Фрейд: «Признаком научного мышления как раз и является способность довольствоваться лишь приближением к истине и продолжать творческую работу, несмотря на отсутствие окончательных подтверждений». Д. Д. Плетнев считал теоретическую и экспериментальную медицину наукой, а установление индивидуального диагноза больного и поиск способа помочь ему – искусством. Действительно, искусство, отражая духовность человека, вообще не может быть математически «подсчитано». В клинической психиатрии «душевное» частично может быть квантифицировано, но только в изолированном виде, обсчитать все проявления душевной деятельности человека (а психиатрия охватывает еще и соматический, и духовный слои) не представляется возможным.
Клинический метод не является совершенным, он требует массы других дополнительных методов, в первую очередь психологического и психометрического. Тесты, шкалы и опросники широко практикуются в целях объективизации и количественной оценки психических расстройств, в некоторых случаях без них в настоящее время не верифицируется степень расстройства в классификациях (например, коэффициент интеллектуальности для ранжирования степени интеллектуальной недостаточности при олигофрениях). Но они лишь позволяют приблизиться к более полной оценке душевного состояния в силу неизбежности редукционистских ограничений. Психологические и психометрические методы в гораздо большей степени, чем клинический, направлены на объект, а не на субъект исследования. В психиатрии очень часто знание индивидуального, единичного, неповторимого, сугубо личностного может оказаться более важным, чем «объективное и доказательное» знание общего.
Однако в последние годы необходимость объективизации клинических феноменов, симптомов и синдромов привела к существенному пересмотру представлений в психиатрической диагностике. Это было связано в первую очередь с требованием доказательности в психофармакологии и инициировалось исследователями, работающими с крупнейшими фармацевтическими компаниями. Во вторую очередь это связано с глобализацией, быстрым развитием международных контактов психиатров, стимулирующих системы стандартизации диагноза как в описательном, так и в операциональном (критерий времени и критерий течения) плане. Именно это, а также внедрение в медицину методов математического анализа и привело к широкому использованию психометрических шкал, которые отражают операциональный принцип.
Как справедливо указывают А. Е. Бобров, Т. В. Довженко, М. А. Кулыгина, этот принцип заключается в необходимости учета только объективированных (т. е. не зависимых от наблюдателя) критериев аномалий поведения и социального функционирования, а также оценки различных сочетаний (констелляций) этих критериев. Принцип операциональной диагностики в рамках клинико-описательного метода служит задачам повышения надежности категориальной квалификации психопатологических нарушений. Без него были бы невозможными реалистическая квалификация типов и видов психических расстройств, их нозографическое обозначение и постановка валидного и верифицированного психиатрического диагноза. Однако при этом усложняется диагностическая процедура, а на смену клинической интуиции приходит формализованная система учета признаков, которые далеко не всегда вписываются в целостную «психопатологическую картину».
Операциональный подход предоставляет возможность дополнить категориальную квалификацию психического состояния больных количественной и степенной оценкой имеющейся у них симптоматики. Такой подход позволяет также давать взвешенную характеристику так называемым психопатологическим «радикалам» и «спектрам» психических расстройств. Это способствует тому, что различные диагностические категории рассматриваются не как самостоятельные дискретные сущности, а как элементы непрерывного континуума клинически и социально значимых свойств и параметров (например, расстройства шизофренического спектра, тревожные расстройства, зависимости, отклоняющееся поведение и т. п.).
В описательной психопатологии в последние годы наметилась тенденция к объединению категориального (феноменологического) и психометрического (операционального) подходов. Особенно ярко это проявляется в Руководстве по диагностике и статистике психических расстройств 5-го пересмотра (DSM – V), где психометрическая составляющая стала фактически необходимым компонентом клинико-диагностической квалификации. Однако и такой «мультиаксиальный» подход не лишен серьезных недостатков. Основная методологическая проблема здесь состоит в еще большем усложнении диагностической процедуры, формализации диагноза и снижении его внутренней валидности за счет увеличения потенциально нерелевантных критериев.
Итак, современный этап развития психиатрии характеризуется сосуществованием двух принципиально отличных подходов к диагностике (Крылов В. И., 2015).
Большинство современных научных исследований основывается на мультидименсиональной модели и опирается на операциональные диагностические критерии. Мультидименсиональная модель отрицает наличие четких границ между отдельными диагностическими категориями, между нормой и патологией. Оценка психического состояния проводится по отдельным относительно самостоятельным составляющим, или компонентам.
В практической психиатрии доминирует категориальная модель диагностики. Несмотря на требования диагностических указаний международных классификаций болезней, основанных на операциональном принципе, большинство практических психиатров ориентированы на традиционный дескриптивный, или описательный, подход. Категориальная модель предполагает наличие четких границ между отдельными диагностическими категориями, между нормой и патологией. Клинические случаи, соответствующие критериям нескольких диагностических категорий, рассматриваются в качестве переходных форм либо с позиций концепции коморбидности. Не вызывает сомнений, что будущее клинической психиатрии – в объединении на более высоком уровне познания дименсиольнальных и категориальных признаков с преодолением в очередной раз вынужденного редукционизма на клиническую, биологическую и социальную психиатрию.
1. Бухановский, А. О. Общая психопатология: атлас к пособию для врачей / А. О. Бухановский, Ю. А. Кутявин, М. Е. Литвак. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЛРНЦ «Феникс», 2013. – 390 с.
2. Власова, О. В. Феноменологическая психиатрия и экзистенциальный анализ. История, мыслители, проблемы / О. В. Власова. – М.: Территория будущего, 2010. – 639 с.
3. Давыдовский, И. В. Проблемы причинности в медицине (этиология) / И. В. Давыдовский. – М.: МЕДГИЗ, 1962. – 176 с.
4. Клиническая психометрика: учеб. пособие / под ред. В. А. Солдаткина. – Ростов-н/Д: Изд-во ГОУ ВПО РостГМУ, 2015. – 312 с.
5. Мелехов, Д. Е. Психиатрия и проблемы духовной жизни // Психиатрия и актуальные проблемы духовной жизни: сборник памяти доктора медицинских наук, профессора Д. Е. Мелехова. – М.: Свято-Филаретовская Московская высшая православно-христианская школа, 1997. – С. 5–61.
6. Менделевич, В. Д. Психиатрическая пропедевтика / В. Д. Менделевич. – М.: Городец, 2019. – 496 с.
7. Савенко, Ю. С. Введение в психиатрию. Критическая психопатология / Ю. С. Савенко. – М.: Логос, 2013. – 448 с.
8. Снежневский, А. В. Общая психопатология / А. В. Снежневский. – М.: Медпресс, 2009. – 122 с.
9. Тиганов, А. С. Общая психопатология / А. С. Тиганов. – М.: Медицина, 2008. – 256 с.
10. Ясперс, К. Общая психопатология / К. Ясперс. – М.: Практика, 1997. – 1053 с.
I.2. Этика и деонтология в психиатрии
Этика (греч. ethika от ethos – обычай, нрав, характер) – термин, принадлежащий древнегреческому философу Аристотелю. Обозначает философскую дисциплину, изучающую вопросы морали и нравственности. Этика может быть общечеловеческой, национальной, личной, групповой (корпоративной). Составной частью является этика «медицинская» как совокупность нравственных норм профессиональной деятельности медицинских работников, внутри же медицинской этики выделяется этика в психиатрии, которая по многим положениям стоит особняком по отношению к этике соматической медицины.
Острота и специфика этических проблем в психиатрии определяются рядом особенностей. У многих психически больных людей нарушены привычные нормы взаимоотношения с социальным окружением. Существующая необходимость защиты самих пациентов амбивалентно и двуедино присутствует с задачами защиты общества от некоторых пациентов с социально опасными формами поведения; проблемными зонами являются необходимость применения недобровольных и принудительных мер к пациентам; проблема стигматизации психически больных, психиатрической службы и психиатрической науки и др.
Деонтология – наука об этических нормах. Деонтологическая этика в философии представлена теориями, придающими особое значение отношениям между долгом и нравственностью в человеческих поступках. Следовательно, деонтология (от греч. deon – долг и logos – наука) основывается на логике и этике. В психиатрической этике, как и в общей, выделяют две теории.
1. Деонтологическая этика утверждает, что основа нравственной жизни есть долг, выполнение которого связывается с внутренним повелением. Нравственность находится вне всякой целесообразности, не служит удовлетворению потребностей человека (И. Кант). Деонтологическая этика формальная, поскольку основной принцип состоит в соответствии любого действия некоторому правилу или закону. Так, христианская этика видит идеальную жизнь человека в повиновении Божественной воле или некоторым позитивным законам, выражающим эту волю. Запрет на аморальное действие содержится в знаменитых Десяти заповедях. Нормы этики, представленные в заповедях, – обязательный и подлежащий преодолению минимум – закон, выше которого благодать. Недостаточен, например, отказ от убийства – нужно «сердце», не принимающее в себя гнева, наполненное любовью. Всеобъемлющим законом нравственности является категорический императив: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относись к нему только как к средству». По Канту, всякая личность есть самоцель и не должна рассматриваться как средство осуществления каких-либо задач, хотя бы это были задачи всеобщего блага. Следуя долгу, человек отказывается от своекорыстного интереса и остается верен самому себе. В школе деонтологического интуитивизма (Г. Причард, Д. Росс и др.) акцент ставится на интуитивно постигаемых человеком «самоочевидных» нравственных обязанностях (не совершать зла, делать добро, распределять добро и зло соответственно достоинству людей, говорить правду, выполнять обещания, благодарить за услуги, возмещать причиненный тобой ущерб, самосовершенствоваться и т. п.). В концепции общественного договора (Дж. Роулс) основным критерием нравственности выступает честность, понимаемая как моральное обязательство индивида действовать исходя из общественно принятых норм поведения.
2. Утилитаристская, или телеологическая, этика считает, что мерой нравственности поступка является его целесообразность. Критерием оценки поступков человека является полезность. В рамках утилитаризма моральное значение поступков устанавливается в зависимости от последствий, к которым они приводят (консеквенциальная этика). Источник нравственности – в естественном стремлении человека испытывать наслаждения и избегать страданий. И. Бентам, основоположник утилитаризма, считал единственной целью моральной деятельности достижение наибольшего количества счастья для наибольшего числа людей. К этому можно прийти путем правильного расчета, посредством «моральной арифметики», с учетом «шкалы удовольствий и страданий». Дж. Ст. Милль, систематизатор утилитаризма, связывал счастье не с количеством, а с качеством удовольствий. Только «высшие» (интеллектуальные) удовольствия соответствуют нравственной природе человека, чувству собственного достоинства. Обе теории присутствуют в реальной жизни, определяя теории, нормы, стандарты в психиатрии, иногда доходя до острейшего диалектического противоречия, например, при оказании помощи душевнобольным, совершающим неоднократные тягчайшие преступления (серийные сексуальные убийцы).
Базисные этические ПРИНЦИПЫ в психиатрии:
1. АВТОНОМИЯ.
● Уважение личности пациента.
● Оказание психологической поддержки в затруднительных ситуациях.
● Возможность выбора из альтернативных вариантов.
● Предоставление необходимой информации (о состоянии здоровья и предполагаемых медицинских мерах).
● Самостоятельность принятия решений пациентом.
● Возможность осуществления пациентом контроля за ходом исследования или лечения.
● Вовлеченность пациента в процесс оказания ему помощи («терапевтическое сотрудничество»).
2. БЛАГОДЕЯНИЕ.
● Лицо, которому мы должны помочь, находится в опасности или под угрозой серьезного ущерба.
● Психиатр располагает реальными средствами для предотвращения этой опасности или ущерба.
● Действия психиатра, скорее всего, предотвратят опасность или ущерб.
● Благо, которое лицо получит в результате действия психиатра, перевешивает ущерб, а сами действия представляют минимальный риск.
● Принцип благодеяния может вступать в противоречие с принципом полезности (для общества).
3. НЕПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА.
● То, что мы намереваемся делать, не должно быть безнравственным.
● Предполагаемый риск не должен быть средством для достижения благой цели.
● Нельзя совершать что-либо безнравственное только потому, что за этим может последовать нечто положительное.
● Побочный эффект не может быть специальной целью, а только тем, с чем приходится мириться.
● Для совершения действия, за которым могут наступать негативные последствия, нужны веские основания (благо должно перевешивать риск или потерю).
4. СПРАВЕДЛИВОСТЬ.
● Распределение ресурсов здравоохранения (и, следовательно, доступа к ним членов общества) в соответствии со справедливым стандартом.
Рассмотренные выше этические принципы, применяемые в медицине, являются основой для более конкретных этических НОРМ: правдивости, приватности, конфиденциальности, лояльности, компетентности.
Норма ПРИВАТНОСТИ подразумевает обязанность не вторгаться в сферу личной (частной) жизни пациента. Речь идет, во-первых, о недопустимости бесцеремонного вторжения в эту сферу без согласия пациента, что не исключает возможности (а для психиатра и необходимости) деликатного проникновения в мир сугубо интимных отношений; во-вторых, о сохранении за пациентом права на личную жизнь даже в условиях, стесняющих его свободу. Нарушение приватности, не продиктованное строгой медицинской необходимостью, квалифицируется как неоправданный патернализм.
Норма КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ – это доверительность отношений, основанная на неразглашении информации. Иными словами, информация, предоставляемая пациентом медицинскому работнику или полученная медицинским работником в результате обследования, не может быть передана другим лицам без разрешения пациента. Норма конфиденциальности оправданна как с точки зрения принципа автономии, который она выражает, так и с точки зрения производимых ею последствий. Она дает возможность удовлетворить потребность пациента в защите информации от третьих лиц, повышает уровень доверия врачу, способствует более полному предоставлению необходимых сведений, реализации требования взаимной честности и достижения целей диагностики и лечения. Хотя конфиденциальность зафиксирована во всех кодексах медицинской этики, она, к сожалению, нарушается практически повсеместно. К тому же некоторые законы устанавливают пределы конфиденциальности и требуют от врачей сообщения информации о пациентах, независимо от согласия последних (например, органам следствия, суду и т. п.).
Основой для нормы ЛОЯЛЬНОСТИ являются принципы уважения автономии и позитивного благодеяния. Лояльность врача, т. е. его верность долгу, добросовестность в исполнении явных или подразумеваемых обещаний способствовать благополучию пациента, проистекает из ролевых отношений, которые устанавливаются между врачом и пациентом. Конфликтные ситуации возникают тогда, когда в этих отношениях появляются интересы третьих лиц: родителей (при лечении детей и подростков), социальных институтов (например, правоохранительных органов), студентов (в процессе обучения в клинике). В этих случаях этическое решение зависит от значимости тех или иных отношений.
Норма профессиональной КОМПЕТЕНТНОСТИ заключает в себе адресованное врачу требование овладеть специальными знаниями и искусством врачевания. Без этого условия медицинская деятельность недопустима и вредна, какими бы благими намерениями она ни оправдывалась. Кроме того, эта норма призывает врача не выходить за границы своей специальности, оставаясь на твердой почве научных знаний и опыта, которыми располагает клиническая психиатрия.
Норма ПРАВДИВОСТИ предполагает обязанность и медика, и пациента говорить правду. В защиту этой нормы можно привести следующие аргументы. Обязанность говорить правду есть проявление нашего уважения к другим. В медицине оно находит выражение в уважении к автономии, являющемся основанием стандарта информированного согласия. Согласие не может быть автономным, если оно не опирается на правдивую информацию. Будучи вовлечен в терапевтические и исследовательские отношения, пациент становится участником своего рода социального договора, дающего особое право на правдивые сведения о диагнозе, прогнозе, процедурах и т. п. Точно так же и врач имеет право на получение правдивой информации от пациента. Правдивость в отношениях необходима для успешного терапевтического взаимодействия и сотрудничества.
Говорить или не говорить пациенту правду о его заболевании, сформулированную в научном медицинском диагнозе? Эта проблема существует не только в психиатрии, но и во всей медицине в целом, наиболее часто в онкологии, но в психиатрии она встречается гораздо чаще, затрагивая и правовые, и этические положения. Что сказать больному шизофренией о его диагнозе и перспективах жить в дальнейшем без лекарств, больному с начальной формой болезни Альцгеймера о его перспективах сохранения памяти, депрессивному пациенту, интересующемуся возможностью рецидивирования, родителям, которые расспрашивают о перспективах умственного развития ребенка с врожденной церебральной недостаточностью? Перед врачом-психиатром встают две проблемы.
С одной стороны, он знает и может назвать нозологический диагноз, при этом он не всегда уверен в том, как заболевание будет протекать в дальнейшем. С другой – он понимает, что от него часто хотят услышать слова успокоения, и возникает тенденция не говорить правды или сообщать небольшую часть правды, предполагая, что точная информация только навредит пациенту, особенно учитывая стигматизированность многих диагнозов. В опросах врачей-психиатров тридцатилетней давности (Телешевская М. В., 1983) 90 % опрошенных (!) заявили, что больному не следует сообщать диагноз, говорить ему о трудностях лечения и возможных осложнениях. Но и в сегодняшней России сохраняются, хоть и в меньших размерах, те же взгляды – до 55 % врачей считают закрытость информации оправданной (Евтушенко В. Я., 2004; Перехов А. Я., 2007). Часто ссылаются при этом на необходимость соблюдения врачебной тайны, что нелепо, поскольку врачебная тайна – это обязанность врача хранить молчание о больном перед другими лицами, а не перед самим пациентом, и это касается не этической проблемы правдивости, а проблемы конфиденциальности. В обыденной жизни большое количество пациентов при выписке из стационаров не получают вообще никакой информации о своем диагнозе, многие – крайне расплывчатую, неточную. Почти никто не имеет на руках выписок из истории болезни, в лучшем случае – информацию для амбулаторного психиатра о диагнозе в виде шифра МКБ-10, что напоминает шпионскую переписку между врачами. При этом в оправдание приводятся резко преувеличенные правовые положения о закрытости информации для тяжелобольных пациентов. Часто на самом деле это прикрывает нежелание врача тратить время и силы на написание эпикриза, подробную беседу с больным, аргументацию своего диагноза, а также атавистический страх, задержавшийся со времен тоталитарной власти, по принципу «как бы чего не вышло плохого…». В этом проявляется нежелание брать на себя ответственность за морально-этические и правовые проблемы конкретного пациента. Другое объяснение сокрытия диагноза связано с господствующим в российской государственной психиатрии принципом патернализма, когда все психически больные воспринимаются «неразумными детьми» и отношения строятся, как в трансактном анализе Э. Берна по типу «врач – мудрый родитель» и «пациент – ребенок». Ведь взрослый (врач) лучше знает, как жить его пациенту, на что ориентироваться в социальной и личной жизни. Больной же должен принимать на веру и без вопросов все, что говорит врач, фактически он навязывает пациенту определенные убеждения и ценности, при этом ориентируясь на собственные существующие разрешения и табу («Я бы лично не хотел знать, что у меня неоперабельный рак или верифицированный диагноз неизлечимой болезни Альцгеймера…»). Существует и целая система моральных оправданий такого подхода: информация о диагнозе может ухудшить психическое состояние пациента, вызвать у него депрессию, спровоцировать самоубийство. «Обман во благо» с этой точки зрения – большое благодеяние. Однако нарушение психиатрами этических норм правдивости гораздо чаще несет в себе выраженный тройной вред: а) доставляя моральные страдания больному в связи с унижением его человеческого достоинства; б) потворствуя ксенофобическим настроениям в отношении лиц с психическими расстройствами, закрепляя их отчуждение в обществе; в) выделяя психиатрию, может быть, наряду с онкологией в дегуманизированную часть медицины. Нарушение нормы правдивости может быть оправданно, когда она вступает в противоречие с другими обязанностями, имеющими приоритет в конкретной ситуации. Кроме того, пациент сам может наложить ограничения на сообщение ему медицинской информации по мотивам абсолютного доверия врачу или нежелания узнать плохие вести. В таких случаях «право больного знать» сочетается с его «правом не знать». В современной психиатрии все больше начинает преобладать не патерналистский тип взаимоотношений, а партнерский, предполагающий общение на уровне «взрослый – взрослый», когда врач фактически является специалистом, предлагающим услугу, а пациент – ее потребителем. Но в определенных ситуациях эти взаимоотношения тоже могут оказаться этически уязвимыми. Например, незаинтересованный врач может холодно и отстраненно сообщать диагноз, совершенно не интересуясь последствиями, выступив как какой-то механизм по типу компьютера. Поэтому наиболее этичным является принцип сотрудничества, который начинается с общения по типу «взрослый – взрослый», но при необходимости продолжается как «врач – родитель» – «пациент – взрослый» (при этом врачом сообщаются с заинтересованностью все дополнительные сведения о диагнозе и его последствиях, т. е. читается микролекция). Важно, чтобы предоставление информации не превращалось в безликую формальную процедуру, а осуществлялось в процессе заинтересованного общения в виде беседы, разъяснения, убеждения, поиска компромиссов. Практически всегда психически больные ждут от врача информацию о своей болезни. Часто это выражается в форме вопросов о том, каков диагноз. Но в действительности их интересует не медицинская терминология, а объяснение сути происходящего с ними. Сведения должны излагаться достаточно простым и понятным языком, не отягощенным специальными терминами. Не исключено постепенное «дозирование» информации небольшими порциями, с учетом эмоционального состояния больного, его толерантности к подобным сведениям. Возможно использование современных классификаций психических расстройств, которые иногда пренебрегают чисто научно-медицинским подходом в угоду социальному и частично дестигматизируют некоторые «одиозно страшные» диагнозы, позволяя заменять шизофрению на шизоаффективные психозы и шизотипическое расстройство, истерический невроз – на конверсионный, психопатии – на расстройства личности и т. д. Психически больные должны получать правдивую информацию о своем диагнозе как в устной, так и в письменной форме, за исключением только тех пациентов, которые по своему психическому состоянию не понимают значения своих действий или не могут собой руководить.
В 1977 г. ВПА утвердила Гавайскую декларацию, в которой устанавливались этические нормы психиатрической практики, она была модернизирована в Вене в 1983 г.
1. Целью психиатрии является лечение психических заболеваний и улучшение психического здоровья. Используя все свои возможности, в соответствии с полученными научными знаниями и принятыми этическими принципами, психиатр должен служить высшим интересам пациента, а также заботиться об общем благе и справедливом размещении ресурсов здравоохранения. Достижение этих целей требует непрерывных исследований и постоянного обучения здравоохранительного персонала, пациентов и общественности.
2. Каждый психиатр должен предложить пациенту лучшую из находящихся в его распоряжении и соответствующих его знаниям терапий и, если это принято, должен лечить пациента заботой и уважением, достойными всякого человека. Если психиатр несет ответственность за лечение, которое проводят другие врачи, он должен осуществлять квалифицированное руководство ими и их обучение. В случае потребности или по обоснованной просьбе пациента психиатр должен обратиться за помощью к своему коллеге.
3. Психиатр должен стремиться к таким отношениям с пациентами, которые основываются на взаимном согласии. В оптимальном варианте это требует доверия, конфиденциальности, сотрудничества и взаимной ответственности. С некоторыми пациентами установление таких взаимоотношений может быть невозможным. Тогда контакт должен быть установлен с родственниками или другими людьми, близкими пациенту. Если взаимоотношения установлены не в терапевтических, а в целях судебной психиатрии или иных, их природа должна быть подробно объяснена заинтересованным лицам.
4. Психиатр должен проинформировать пациента о природе его заболевания, терапевтических процедурах, включая различные альтернативы, и о возможных последствиях. Такую информацию следует излагать в тактичной форме, пациенту должна быть предоставлена возможность выбора между необходимыми и доступными методиками.
5. Никакое лечение не должно осуществляться против воли пациента, если только из-за психического заболевания он не может сформировать своего мнения о том, что послужит ему в высших интересах, а также если без данного лечения вероятно появление серьезного вреда для пациента или других лиц.
6. Как только показания для принудительного лечения исчезают, пациент должен быть освобожден от такового, а для осуществления дальнейшей терапии врач должен получить добровольное согласие пациента. Психиатр должен проинформировать пациента и/или его родственников или других близких лиц о существовании механизмов обжалования задержания и любых других жалоб, связанных с благополучием пациента.
7. Психиатр никогда не должен использовать свои профессиональные возможности для оскорбления достоинства и нарушения прав какого-либо индивида или группы и никогда не должен позволять неприемлемым личным желаниям, чувствам, предрассудкам или убеждениям влиять на лечение. Психиатр ни в коем случае не должен использовать приемы своей профессии, если психическое заболевание не было подтверждено. Если пациент или третьи лица требуют действий, которые противоречат научным знаниям или этическим принципам, психиатр должен отказаться от сотрудничества с ними.
8. Что бы ни было сказано пациентом или что бы ни было записано в течение обследования или лечения, это должно быть конфиденциально, если только пациент не освободил психиатра от такого обязательства или если раскрытие информации необходимо для предотвращения причинения серьезного вреда пациенту или другим лицам. В этом случае, однако, пациент должен быть проинформирован о нарушении конфиденциальности.
9. Для умножения и распространения знаний по психиатрии необходимо участие пациента. Однако должно быть получено информированное согласие на демонстрацию пациента перед аудиторией и, если возможно, на использование истории болезни для научной публикации. При этом должны быть предприняты все разумные меры в целях сохранения достоинства и анонимности пациента, защиты его личной репутации. Участие пациента должно быть добровольно после получения полной информации о целях, процедурах, опасностях и неудобствах исследовательского проекта, а также всегда должно сохраняться разумное соотношение между предполагаемыми опасностями, неудобствами и пользой исследования. Каждый участник клинического исследования должен пользоваться всеми правами пациента. Для детей и других пациентов, которые не могут сами дать информированное согласие, таковое должно быть получено от ближайшего родственника. Каждый пациент или участник исследования волен отказаться по любым причинам и в любое время от любого добровольного лечения и от любой учебной или исследовательской программы, в которой он участвует. Этот отказ, как и несогласие включиться в программу, никак не должны влиять на усилия психиатра, направленные на оказание помощи пациенту или участнику.
10. Психиатр должен остановить все терапевтические, учебные или исследовательские программы, которые могут войти в противоречие с принципами настоящей Декларации.
В 1996 г. на Х Конгрессе ВПА была принята Мадридская декларация, которая наметила этические ориентиры в новых ситуациях. Было указано, что причинами усиления интереса к вопросам этики в психиатрии являются:
а) движение «потребителей медицинских услуг»;
б) неистовые и непрекращающиеся нападки со стороны антипсихиатрического движения;
в) традиционный имидж врача, манипулирующего несчастной жертвой в процессе лечения;
г) злоупотребление психиатрией в политических целях;
д) проблемы конфиденциальности и открытости психиатров, которые они могут гарантировать пациентам;
е) резкое усиление значения юриспруденции в практической психиатрии;
ж) усиление влияния на психиатрию социологии, психологии, теологии и философии.
1. Психиатрия имеет дело с социально функционирующей личностью. Психиатрия вступила в сферу обыденных человеческих отношений, достигнув условной границы между здоровьем и болезнью, нормой и патологией. Возник риск расширительного толкования понятия психической патологии, гипердиагностики психических заболеваний, что часто поддерживается требованием общества конкретных заключений и практических мер.
2. Профессиональная этика требует от психиатра предельной честности, объективности и ответственности при вынесении заключений о психическом состоянии, с опорой на принцип «презумпции психического здоровья».
3. Диагноз психического расстройства несет в себе такую негативную социально-этическую нагрузку, которой не имеет никакой другой клинический термин в медицине. Люди, признанные психически больными, неизбежно попадают в особую категорию ущемленных в моральном и социальном аспекте.
4. Этическая задача – повышение толерантности общества к лицам с психическими отклонениями, преодоление предвзятости, отчуждения, а также регулирование социальных санкций в их отношении.
5. Явное отличие от других медицинских дисциплин – применение к некоторым больным недобровольных мер принуждения и даже насилия. Ситуация значительно усложняется, если болезнь проявляется не грубыми и очевидными для всех нарушениями, а нерезко выраженными признаками при формально организованном поведении.
6. Этическая задача – ограничение сферы принуждения при оказании психиатрической помощи до пределов, определяемых медицинской необходимостью, что служит гарантией соблюдения прав человека.
7. Пациенты в психиатрии образуют широкий континуум – от тяжелобольных, которые не могут самостоятельно не только защитить, но и выразить свои интересы, до тех, которые по личностной автономии, ответственности, интеллектуальному развитию, правовому и нравственному сознанию не уступают врачу-психиатру (а часто и превосходят его).
8. Важной задачей является установление оптимальных взаимоотношений врача и пациента, способствующих реализации интересов больного с учетом конкретной социальной ситуации. В психиатрии этическими признаются все виды взаимодействия: традиционные – патерналистские по отношению к тяжелобольным и находящимся в критическом положении; партнерские по отношению к сохранным больным; оптимальным следует признать в большинстве случаев совещательную модель или модель сотрудничества.
9. Психиатрия призвана выполнять двуединую функцию защиты интересов больного и интересов общества. Противоречивость этого требования следует из возможного несовпадения личных и общественных интересов. Возможные конфликты:
1) поведение больного противоречит его объективным интересам;
2) поведение больного противоречит общественным интересам;
3) общество наносит ущерб интересам больного.
10. Психиатрическая этика стремится к достижению баланса интересов больного и общества на основе ценности здоровья, жизни, безопасности и благополучия граждан.
В последние годы приняты значимые решения по этическим проблемам (ВПА, 1999 г., 2005 г., 2011 г.).
1. ЭВТАНАЗИЯ. Психиатр должен понимать, что представления пациента могут быть искажены психическим заболеванием, например, депрессией. В этом случае помощь заключается в лечении болезни. Психиатры не должны участвовать в процедурах эвтаназии и не должны поддерживать законодательные инициативы по легализации эвтаназии.
2. ПЫТКИ. Психиатры не должны принимать участия в любой физической и психологической пытке, даже если от них это требуют власти.
3. СМЕРТНАЯ КАЗНЬ. Ни при каких обстоятельствах психиатры не должны участвовать в юридически принятых наказаниях или в оценке дееспособности тех, которым назначена смертная казнь.
4. СЕЛЕКЦИЯ ПОЛА. Ни при каких обстоятельствах психиатры не могут участвовать в принятии решения о прекращении беременности с целью селекции пола.
5. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ. Психиатры не должны выступать в качестве уполномоченных при принятии решений, касающихся пациентов (и доноров, и реципиентов), или использовать психотерапевтические навыки для влияния на принятие решения.
6. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. Психиатры должны представлять психически больных таким образом, чтобы не ущемлять их достоинство, не допустить вмешательства в частную жизнь, уменьшить стигматизацию и дискриминацию: психиатры должны достойно представлять психиатрию как профессию; психиатры не должны делать заявлений касательно предполагаемой психической патологии у кого-либо.
7. ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ЭТНИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ПОЧВЕ. Дискриминация психиатрами лиц с психическими расстройствами на основе их этнической принадлежности или культуры (включая религию), как непосредственная, так и с участием третьей стороны, является неэтичной. Психиатры не должны участвовать или поддерживать, ни прямо, ни опосредованно, никакие действия, связанные с этническими чистками.
8. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. Психиатры должны учитывать, что использование генетической информации не ограничено индивидом, от которого она получена, и что раскрытие информации может оказать негативное и разрушительное действие на семью и сообщество. Генетическое консультирование относительно планирования семьи или прерывания беременности должно производиться с учетом системы ценностей пациента.
9. ФАРМАКОИНДУСТРИЯ. Принимая по любым профессиональным или личным мотивам поддержку со стороны фармакоиндустрии, психиатры ни в коем случае не должны отказываться от выполнения своей основной обязанности – заботиться о благополучии пациентов. При проведении клинических испытаний психиатры должны обеспечить, чтобы пациенты поняли все аспекты, касающиеся исследований лекарственных препаратов, и давали свое согласие на основе полной информированности; следует учитывать научную ценность проекта и его соответствие этическим стандартам.
10. ГРАНИЦЫ МЕЖДУ ВРАЧОМ И ПАЦИЕНТОМ. Доверительные отношения с пациентом, стирание границ не дают разрешения извлекать выгоду и преимущества, манипулировать сексуальными страхами и желаниями. Наличие сексуального элемента во взаимоотношениях с пациентом, попытки соблазнения совершенно недопустимы.
11. РЕГУЛИРУЕМАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. Если регулируемая психиатрическая помощь не является компонентом общей политики здравоохранения, основанной на равенстве прав и общей доступности медицинских услуг, она становится препятствием на пути использования пациентами соответствующих возможностей лечения. Из-за разнообразия и сложности болезней, а также из-за имеющейся душевной болезни, в рамках частной системы страхования психиатрические пациенты могут страдать от дискриминации. При этом лечение душевного заболевания может проходить в худших условиях страхования, чем лечение другого расстройства. В психиатрии лечащие врачи должны ставить благополучие своих пациентов выше заботы о расходах. Психиатры должны отвергать подходы, оправдывающие неравенство пособий и других выплат разным группам больных, и всеми средствами отказываться от работы в условиях дискриминации какой-либо группы пациентов.
12. ЭТИКА ПСИХОТЕРАПИИ. С этической точки зрения недопустимо применять лечебные процедуры, в отношении которых не существует специальных показаний и доказательств их эффективности и безопасности. Это общее правило относится и к психотерапии. Психотерапия представляет собой важный способ лечения душевных заболеваний и как компонент всякого медицинского вмешательства, и как специфический вид терапии при некоторых расстройствах. Эффективность и безопасность психотерапии должны оцениваться точно так же, как и эффективность и безопасность любого другого лечения в медицине, т. е. должны существовать критерии показаний, эффективности, безопасности и контроля качества. Учитывая сложность и интимность психотерапевтической работы, необходимо рассмотреть целый спектр оценок результатов психотерапии, включая позитивное влияние лечения на здоровье. На применение психотерапии должно быть получено информированное согласие, особенно в тех случаях, когда пациент полностью понимает выгоду и возможный риск лечения. Информирование пациента должно быть частью начальной стадии процесса терапии. Всякий раз, когда есть медицинские показания для комбинирования психо- и фармакотерапии, следует объяснить это пациенту и предложить именно такое лечение. Ни в коем случае нельзя ограничиваться одной психотерапией, когда для лечения пациента необходима и фармакотерапия. Необходимо уважать конфиденциальность. Пациенты, проходящие курс психотерапии, имеют право знать о возможностях раскрытия информации, полученной в ходе психотерапии, третьим сторонам, например, в целях исследования, страхования или семейной терапии. Только те психиатры могут использовать психотерапию, которые прошли специальное обучение по применению психотерапевтических техник.
В России «Кодекс профессиональной этики психиатра» был принят впервые в 1994 г. на пленуме правления Российского общества психиатров. Принятие этического кодекса, безусловно, важное событие в жизни отечественного психиатрического сообщества, которое свидетельствует о достижении им определенного уровня морального самосознания и отвечает потребности моральной саморегуляции.
Необходимо отметить, что задачи и функции «Кодекса профессиональной этики психиатра» не сводятся к задачам и функциям иных нормативных, в частности правовых, актов.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ этики в психиатрии:
● Интегрировать этические, правовые и медицинские подходы к регулированию деятельности психиатров.
● Дать психиатрам общие ориентиры («ключи») к принятию правильных (с этической, правовой и медицинской точек зрения) решений в сложных и конфликтных ситуациях.
● Свести к минимуму риск ошибочных решений и их негативных последствий.
● Обозначить критерии оценки врачебных действий.
● Защитить врачей от неправомерных к ним претензий.
● Способствовать гуманизации психиатрии, укреплению ее нравственных позиций.
● Консолидировать профессиональное сообщество психиатров на основе моральных взаимоотношений и моральной ответственности.
Кроме того, существенные отличия обнаруживаются и в механизмах реализации этических требований. Было бы наивно полагать, что с принятием кодекса моральное сознание врачей сразу поднимется до такого уровня, на котором достаточно лишь действия механизмов внутреннего этического контроля: чувства долга, порядочности, совести и т. п. Скорее всего, должны работать механизмы внешней регуляции, но не в форме судебной или административной ответственности, а в виде общественных санкций за нарушение принципов нравственного отношения к пациентам и коллегам. Предание фактов аморального поведения широкой огласке через средства массовой информации, публичное выражение недоверия и осуждения со стороны коллег, вплоть до исключения из профессионального сообщества, могут действовать намного сильнее, чем судебные штрафы или дисциплинарные взыскания. Все это означает, что введение этического кодекса предполагает определенные формы общественных организаций. Во-первых, это профессиональные организации – общества или ассоциации психиатров, членство в которых считается престижным, а также является одним из условий для занятия врачебной практикой. Иначе роль и влияние профессионального сообщества на своих членов ничтожны, как и применяемые им моральные санкции. Во-вторых, это этические комиссии (комитеты) в составе профессионалов, представителей общественности, родственников пациентов, организуемые при лечебных, научных учреждениях, региональных отделениях психиатрических обществ и ассоциаций и на более высоком (федеральном) уровне. Задачи таких комиссий, как показывает зарубежный опыт, состоят не только в рассмотрении конфликтных случаев, фактов неэтичного поведения медицинских работников и применении к ним вышеуказанных моральных санкций, но и в образовательной и воспитательной работе как с медицинским персоналом, так и с населением. При отсутствии этих организационных форм функции этического кодекса сводятся к моральной проповеди, адресуемой к нравственному самосознанию врача, что само по себе чрезвычайно важно, но не вполне достаточно. При их наличии – кодекс начинает играть к тому же роль инструмента общественной регуляции поведения.
В заключение необходимо отметить, что морально-этические проблемы психиатрии связаны с тем, что полнота критического отношения (и больного, и общества) к психической патологии объективно недостижима. В человеческом обществе представители особых помогающих профессий (священнослужитель, врач, юрист) сталкиваются с принципиальным несовершенством человечества, проявляющимся как грех, болезнь, правонарушение. В психиатрии лишь врач осознает возможность болезненного распада душевных структур, столь же тленных, как телесные. Больной и его близкие легко согласятся с переутомлением, несчастной любовью, инцестом и др. как причиной психического расстройства, но никогда не поблагодарят врача за диагноз шизофрении. Отвержение психопатологии – свойство самосознания. Поэтому положение психиатра трагично. Общество убеждено, что он своевольно отбирает у человека личную свободу, право на индивидуальность, тогда как врач пытается помочь разрушающейся душе, не покушаясь на духовную свободу.
Научная литература
1. Биомедицинская этика / под ред. В. И. Покровского. – М.: Медицина, 1997.
2. Кодекс медицинской деонтологии. – Киев: Сфера, 1998.
3. Кодекс профессиональной этики психиатра. Пленум Правления Российского общества психиатров (1996 г.).
4. Конфиденциальность при оказании психиатрической помощи: комментарий к этическим и правовым нормам. – М., 1999.
5. Краснов, В. Н. Этические проблемы современной российской психиатрии // НПЖ. – 2002. – № 3 – С. 12–15.
6. Полищук, Ю. И. Актуальные проблемы этического регулирования профессионального сообщества // НПЖ. – 2002. – № 3. – С. 16–19.
7. Права человека и профессиональная ответственность врача в документах международных организаций. – Киев: Сфера, 1998.
8. Прокопенко, А. С. Безумная психиатрия. Секретные материалы о применении в СССР психиатрии в карательных целях. – М., 1997.
9. Этика практической психиатрии: руководство для врачей / под ред. В. А. Тихоненко. – М., 1996.
10. Яровинский, М. Я. Медицинская этика (биоэтика). – М., 2006.
11. Psychiatric Ethics, ed byS. Bloch and P. Chodoff, Oxford University Press, 3-nd Edition, 2001.
Художественная литература
1. Лаувенг А. «Бесполезен как роза».
2. Лаувенг А. «Завтра я всегда бывала львом».
3. Чехов А. П. «Палата № 6».
Фильмы
1. «А как же Боб?» (реж. Ф. Оз).
2. «Грехи отца» (реж. Т. Маклафлин).
3. «Мистер Джонс» (реж. М. Фиггис).
4. «Опасный метод» (реж. Д. Кронненберг).
5. «Остров проклятых» (реж. М. Скорсезе).
6. «Принц приливов» (реж. Б. Стрейзанд).
7. «Пробуждение» (реж. П. Маршалл).
8. «Фрэнсис» (реж. Г. Клиффорд).
I.3. История болезни в психиатрическом стационаре
Ведение истории болезни является повседневной необходимостью для каждого врача, работающего в стационаре. В настоящее время мы пользуемся «Медицинской картой стационарного больного», форма № 003/у, утвержденной Приказом Минздрава СССР от 04.10.80 № 1030 (ред. от 31.12.2002) «Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения». Данный вид документации разработан в своей основе для всех медицинских специальностей и не учитывает специфику каждой из них.
В этой связи в настоящее время в некоторых медицинских учреждениях принимаются внутренние «Положения» о ведении медицинской документации, что помогает практикующим врачам в их работе.
«Медицинская карта стационарного больного» (далее – история болезни) заводится при поступлении пациента в стационар. Решение об оформлении истории болезни принимается дежурным врачом (если пациент поступает по скорой помощи) или лечащим врачом (если пациент поступает в плановом порядке). Сразу же врач должен определиться с видом госпитализации (добровольная/недобровольная). Если пациент госпитализируется добровольно, то с него берется информированное согласие на госпитализацию и лечение согласно статье 11 закона «О психиатрической помощи и гарантиях граждан при ее оказании» (далее – закон «О психиатрической помощи»). Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в отношении несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет или больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет дает один из родителей или иной законный представитель. В отношении лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, согласие выражает его законный представитель, который обязан известить орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного о том, что согласие было дано не самим недееспособным пациентом, а его законным представителем. Сделать это необходимо не позднее дня, следующего за днем указанного согласия.
Если же пациент отказывается от лечения в добровольном порядке либо его состояние не позволяет принять осознанное решение о госпитализации, то в историю болезни вносится запись о недобровольности данной госпитализации и указывается пункт статьи 29 закона «О психиатрической помощи». Запись дежурного врача начинается с указания даты и времени освидетельствования пациента, а также фамилии, имени и отчества врача, проводящего освидетельствование. Затем дежурный врач указывает жалобы больного (если он их предъявляет), собирает также, если это возможно, анамнез заболевания (часто со слов врача скорой помощи либо родственников пациента); описывает психический статус при поступлении, типирует синдром заболевания и выставляет предварительный диагноз. Дополнительно в осмотре дежурного врача должна быть указана информация, которая позволит правильно и своевременно начать терапию пациенту. Прежде всего, это информация о возможных аллергических реакциях на медикаменты (выносится на титульный лист истории болезни), о наличии хронических соматических и неврологических заболеваний; описывается соматический и неврологический статус. Тщательно описываются телесные повреждения, если таковые имеются. Назначенные лекарства фиксируются в листе назначения и отражаются в записи дежурного (лечащего) врача в истории болезни.
В соответствии со статьей 22 Конституции Российской Федерации гражданин может быть подвергнут задержанию до решения суда не более чем на 48 часов, поэтому лицо, помещенное в психиатрический стационар в недобровольном порядке, должно быть осмотрено комиссией врачей-психиатров в эти сроки (согласно статье 32 закона «О психиатрической помощи»), и если недобровольная госпитализация признана обоснованной, то заявление и заключение комиссии врачей-психиатров в течение 24 часов подаются в суд по месту нахождения медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, для решения дальнейшего пребывания лица в ней. Принимая заявление врачебной комиссии и мотивированное обоснование на пребывание в психиатрическом стационаре, судья санкционирует нахождение гражданина в указанном медицинском учреждении на срок, необходимый для рассмотрения заявления в суде. Заявление может рассматриваться судьей до 5 суток с момента принятия. Гражданину должно быть предоставлено право лично участвовать в судебном разбирательстве (если состояние здоровья не позволяет присутствовать в суде, то заявление о недобровольной госпитализации рассматривается судьей в медицинской организации). При рассмотрении заявления обязательно присутствие прокурора, представителя медицинской организации, ходатайствующей о недобровольной госпитализации, и представителя лица, в отношении которого решается вопрос о недобровольной госпитализации. Постановление судьи об удовлетворении заявления остается в истории болезни и является основанием для дальнейшего содержания лица в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. Продолжение лечения в недобровольном порядке будет продолжаться, пока это соответствует критериям закона «О психиатрической помощи».
В течение первых шести месяцев, не реже одного раза в месяц, пациент подлежит освидетельствованию комиссией врачей-психиатров указанной медицинской организации для решения вопроса о продлении госпитализации. При продлении госпитализации свыше шести месяцев освидетельствования комиссией врачей-психиатров проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. На основании статьи 36 закона «О психиатрической помощи», по истечении шести месяцев с момента госпитализации пациента в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях в недобровольном порядке, заключение комиссии врачей-психиатров о необходимости продления такой госпитализации направляется в суд. Судья в порядке, предусмотренном статьями 33–35 закона «О психиатрической помощи», постановлением может продлить госпитализацию. В дальнейшем решение о продлении госпитализации лица, госпитализированного в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, принимается судьей ежегодно. Все эти действия должны иметь отражение в истории болезни. Если же основания для недобровольной госпитализации потеряли актуальность, пациент может продолжить терапию в добровольном порядке, о чем с него берется информированное согласие на госпитализацию и лечение, либо пациент может отказаться от продолжения терапии, что также должно иметь отражение в истории болезни. Оформляется письменный отказ от лечения пациента. Если же пациент не пожелал сделать письменный отказ от госпитализации, то лечащий врач оформляет это дневниковой записью, заверенной заведующим отделением, либо в выходные дни она фиксируется дополнительно подписью медицинской сестры. В этом случае в дневниковой записи указывается, что пациент предупрежден о возможных последствиях отказа.
Следует отметить, что 15.09.2015 был введен в действие Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ). Он вывел дела о недобровольном психиатрическом освидетельствовании и недобровольной госпитализации из сферы действия Гражданского процессуального кодекса России (ГПК РФ) и перевел их в разряд административных дел. Новый кодекс упорядочил процедуру судебного контроля недобровольной госпитализации, конкретизировал перечень и содержание представляемых в суд документов, восполнив тем самым пробелы, существовавшие в законе «О психиатрической помощи» и ГПК РФ. Соответственно этому значительно вырос круг обязанностей психиатрического стационара и судебных органов.
Можно отметить нововведения:
● Заключение комиссии о необходимости пребывания лица в психиатрическом стационаре призвано стать более емким и доказательным. Помимо диагноза и описания состояния лица оно должно содержать критерии, по которым было установлено психическое расстройство, изложение конкретных особенностей поведения лица, страдающего психическим расстройством, на основании которых принято решение о необходимости недобровольной госпитализации.
Согласно КАС РФ, административное исковое заявление о недобровольной госпитализации пациента (в случае, если комиссия врачей-психиатров по правилам закона «О психиатрической помощи» признает такую госпитализацию обоснованной) должно подписываться непосредственно руководителем медицинской организации или его заместителями. Согласно ч. 3 ст. 275 КАС РФ, в заявлении должны быть указаны сведения, предусмотренные п. 1–3, 5 и 8 ч. 2 ст. 125 КАС РФ:
– наименование суда (по месту нахождения медицинской организации), в который подается заявление, наименование медицинской организации, место ее нахождения, сведения о госрегистрации; Ф.И.О. представителя, его почтовый адрес, сведения о высшем юридическом образовании, если заявление подается представителем, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты медицинской организации, его представителя;
– Ф.И.О. пациента, его место жительства или место пребывания, дата и место рождения (если известны); номера телефонов, факсов, адреса электронной почты (если известны);
– содержание требований к пациенту как к административному ответчику и изложение оснований и доводов, посредством которых медицинская организация (административный истец) обосновывает свои требования (п. 5 ч. 2 ст. 125 КАС РФ);
– иные сведения (п. 8 ч. 2 ст. 125 КАС РФ);
– установленные федеральным законом (законом «О психиатрической помощи») основания для недобровольной госпитализации пациента;
– ссылки на заключение комиссии врачей и иные данные, обосновывающие эти сведения.
К административному исковому заявлению согласно ч. 4 ст. 275 КАС РФ должны прилагаться:
а) заключение комиссии врачей-психиатров о необходимости пребывания пациента в психиатрическом стационаре. Заключение должно быть мотивированным и надлежащим образом оформленным. В нем указываются: диагноз психического расстройства; тяжесть психического расстройства; критерии психического расстройства; описание общего состояния и поведения пациента; иные материалы, с учетом которых принято решение о помещении пациента в психиатрический стационар в недобровольном порядке;
б) документы, на основании которых составлено заключение комиссии, свидетельствующие об отказе пациента от госпитализации в добровольном порядке;
в) мотивированное и надлежащим образом оформленное заключение комиссии врачей-психиатров о том, позволяет ли лицу его психическое состояние лично участвовать в судебном заседании, в том числе в помещении суда.
Заявление и документы могут быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим суду убедиться в получении адресатом копий заявления и документов (ч. 7 ст. 125 КАС РФ). В случае, если другим лицам, участвующим в деле, копии заявления и приложенных к нему документов не были направлены, в суд представляются их копии, а при необходимости также копии для прокурора.
● При поступлении административного искового заявления о недобровольной госпитализации судья должен незамедлительно вынести определение о принятии его к производству и о продлении пребывания лица в психиатрическом стационаре на срок, необходимый для рассмотрения заявления.
● При отсутствии у гражданина, в отношении которого решается вопрос о госпитализации в недобровольном порядке, представителя, суд назначает ему адвоката в качестве представителя.
● Впервые в законодательство, регулирующее рассмотрение дел данной категории, введена норма, предусматривающая обстоятельства, которые необходимо выяснить суду при рассмотрении дела (их четыре, они перечислены в ч. 1 ст. 278 КАС РФ).
● Мотивированное решение суда должно быть изготовлено в день принятия решения, копии решения суда вручаются под расписку лицам, участвующим в деле, в том числе пациенту, и их представителям или направляются им незамедлительно после изготовления решения.
● Процедура подачи документов в суд и рассмотрения дел о недобровольной госпитализации и о продлении ее сроков теперь едина.
● КАС РФ устранил имевшееся противоречие между ч. 3 ст. 35 закона «О психиатрической помощи» и положениями ГПК РФ, которые устанавливали соответственно 10-дневный и 30-дневный срок подачи апелляционной жалобы на принятое судом решение по делу о недобровольной госпитализации. КАС РФ (ч. 6 ст. 298) «принял сторону» закона «О психиатрической помощи».
● Возникло противоречие между нормами закона «О психиатрической помощи» и КАС в отношении личного участия пациента в судебном заседании. Закон «О психиатрической помощи» не позволяет рассматривать дело о недобровольной госпитализации заочно, если только сам пациент не выступит с заявлением о рассмотрении дела в его отсутствие. Личное участие пациента в деле, согласно закону «О психиатрической помощи», не зависит от состояния его здоровья и обеспечено возможностью проведения выездного заседания суда непосредственно в лечебном учреждении. Нормы КАС позволяют провести заочное рассмотрение дела.
● Закон «О психиатрической помощи» предусматривает обязательное участие прокурора в рассмотрении дела о недобровольной госпитализации, в то время как КАС говорит о том, что отсутствие надлежащим образом извещенного прокурора не является препятствием к рассмотрению дела.
● Согласно КАС, резолютивная часть судебного решения должна содержать указание на порядок и срок исполнения решения суда, на немедленное исполнение решения суда, если оно обращено судом к немедленному исполнению. Однако КАС наделяет правом просить суд обратить решение к немедленному исполнению только административного истца, т. е. больницу, пациент такого права лишен.
Руководитель юридической службы НПА России Ю. Н. Аргунова рекомендует при разрешении коллизий между законом «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и КАС РФ, в том числе в отношении права пациента лично участвовать в судебном заседании, руководствоваться позицией Конституционного суда РФ, сформулированной им в Определении от 8 ноября 2005 г. № 439-О: «Разрешение в процессе правоприменения коллизий между различными правовыми актами должно осуществляться исходя из того, какой из этих актов предусматривает больший объем прав и свобод граждан и устанавливает более широкие их гарантии».
Работа с историей болезни начинается с титульного листа, все графы которого должны быть заполнены в процессе госпитализации. Начинается заполнение медицинской сестрой приемного покоя. На титульном листе медицинская сестра делает запись о результатах осмотра пациента на педикулез, отмечается температура тела, артериальное давление, рост и масса тела пациента. Указываются время и дата поступления пациента в отделение. Необходимо заполнить графу, в какое отделение и какую палату поступает пациент. В графе 1 заполняются паспортные данные больного, подтверждающиеся гражданским паспортом пациента. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных» у пациента, поступающего в добровольном порядке, берется информированное согласие на обработку персональных данных. Без документов пациент принимается в отделение лишь по неотложным показаниям. На титульном листе указывается, что личность пациента не установлена. О таких пациентах в течение суток должна подаваться информация в территориальные отделения внутренних дел, с точным описанием внешности, а лучше с фотографией пациента. В графе 2 титульного листа указывается пол, в графе 3 – возраст, в графе 4 – постоянное место жительства, в графе 5 – место работы, профессия и должность. На основании статьи 94 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в истории болезни должна находиться информация о номере, серии паспорта, дате и месте рождения, месте постоянного жительства и регистрации, номере полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в системе обязательного пенсионного страхования пациента. Так как в существующем бланке истории болезни нет соответствующих граф, целесообразно данную информацию скопировать и вклеить. В графах 6, 7 указывается, кем направлен пациент, госпитализирован ли по экстренным показаниям или в плановом порядке. Здесь указывается пункт статьи 29 закона «О психиатрической помощи» о недобровольной госпитализации. Начиная с графы 8, информация заполняется дежурным и/или лечащим врачом. Также дежурный и/или лечащий врач заполняет графы группы крови и резус-фактора. Если они не определяются при поступлении, то это и указывается в этих графах. В обязанности дежурного и/или лечащего врача входит заполнение раздела, касающегося побочных действий и непереносимости лекарственных препаратов.
Ведение истории болезни возлагается на лечащего врача. Назначает лечащего врача заведующий отделением с учетом квалификации и текущей нагрузки на специалиста (информация об этом выносится на титульный лист истории болезни). Однако пациент может высказать пожелание о выборе или замене лечащего врача, также и врач может отказаться от ведения конкретного пациента по согласованию с заведующим отделением, если это не угрожает жизни и здоровью пациента и окружающих (статья 70 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). Лечащий врач начинает с первичного осмотра.
Первичный осмотр включает в себя несколько разделов. Начинается первичный осмотр с жалоб пациента. В дальнейшем лечащий врач описывает несколько разделов анамнеза. Информацию при сборе анамнеза лечащий врач должен получать из многих источников. Прежде всего, это субъективный анамнез со слов пациента, затем информацию можно получать от близких родственников, сослуживцев, знакомых пациента (с условием соблюдения правил врачебной тайны). Наиболее объективной зачастую является информация, полученная из имеющейся медицинской документации, различных документов (например, трудовая книжка, имеющиеся характеристики с работы, награды и т. п.), в некоторых случаях – фотографии и видеоматериалы в различные возрастные периоды (например, при заболеваниях, связанных с расстройством пищевого поведения, либо спорных половых состояниях). Анамнез заболевания в первичном осмотре должен включать основные данные развития заболевания, которые позволят провести предварительный диагностический процесс.
Анамнез жизни пациента содержит данные о перенесенных заболеваниях и их терапии в течение жизни (если есть возможность, необходимо ознакомиться с медицинской документацией). Анамнез жизни должен содержать биографические данные, которые позволяют прямо или косвенно оценить личностные характеристики пациента. Важно, чтобы у врача не осталось незаданных вопросов. Не на все вопросы врач может получить ответы, но важно, чтобы он попытался выяснить, насколько это возможно, все жизненные события, которые могут иметь отношение к диагностическому процессу. В этой связи важна информация об увлечениях, вредных привычках, образовании, профессии, семье пациента. Весьма важным является сбор наследственного анамнеза. Желательно, чтобы он был отражен в графическом варианте (составление генеалогического древа). Прежде всего, необходимо выяснить, имеется ли заболеваемость психическими расстройствами (в том числе наркологическая отягощенность либо злоупотребление психоактивными веществами и алкоголем, что зачастую может маскировать течение психических заболеваний). Также важна информация о личностных характеристиках близких родственников, их социальных проблемах (суицидах, судимостях). Анамнестические сведения желательно выстраивать в хронологической последовательности, обозначая годы и возраст пациента в период ключевых событий его жизни (если это возможно). В первичный осмотр также включаются еще ряд разделов анамнеза.
Так, в аллергологическом анамнезе указываются все случаи аллергии либо подозрение на нее в течение жизни пациента. В эпидемиологическом анамнезе собирается информация о контакте с инфекционными больными, о пребывании в эндемичных очагах перед госпитализацией, о выездах за границу в течение предшествующих 6 месяцев, о тяжелых инфекционных заболеваниях (туберкулез, вирусные гепатиты). У женщин описывается гинекологический анамнез, включающий информацию о начале, течении и завершении менструального цикла, о количестве беременностей, родов, медицинских и непроизвольных абортах, об оперативном вмешательстве. Отдельно описывается экспертный анамнез, в котором указывается степень трудоспособности пациента до госпитализации, наличие инвалидности, место работы (учебы), профессия и должность, состояние на учете в центре занятости, наличие (количество дней нетрудоспособности на момент госпитализации, открыт или закрыт листок нетрудоспособности) или отсутствие листка нетрудоспособности на момент госпитализации, необходимость открытия листка нетрудоспособности в период госпитализации либо информация о необходимости выдачи справки (для учащихся) о пребывании в стационаре. Необходимо, чтобы пациент собственноручно, если это возможно, указал в истории болезни правильное написание его места работы, должности и заверил это подписью. В фармакологическом анамнезе указывается терапия пациента по поводу заболевания, ставшего причиной госпитализации. Желательно изначально определиться с эффективностью и переносимостью отдельных медикаментов и групп препаратов, чтобы в дальнейшем, исходя из этого, оптимизировать предстоящую терапию.
В первичном осмотре лечащий врач подробно описывает соматический, неврологический и психический статусы. При этом вносить информацию необходимо о патологии. Нет нужды перегружать статусы описанием нормативности в тех или иных органах, системах, сферах психики.
Соматический статус. Начинается описание статуса с оценки телосложения пациента, состояния питания (особенно при расстройствах пищевого поведения), кожного покрова и слизистой. При необходимости оценивается костно-мышечная система, железы; сердечно-сосудистая система: пульс на лучевой артерии, кровяное давление, тоны сердечного ритма; система внешнего дыхания: тип, ритм и частота, характер дыхательных шумов; система пищеварения: пальпация живота, деятельность кишечника (стул); мочевыделительная система, болезненность в области почек и мочевого пузыря, характер мочеиспускания.
Неврологический статус. Исследование неврологического статуса пациента начинается с внешнего осмотра, что позволяет сразу определить наличие или отсутствие грубой патологии ЦНС. В первую очередь описываются 12 пар черепно-мозговых нервов: I пара – обонятельный нерв; II пара – зрительный нерв; III, IV, VI – глазодвигательные нервы (необходимо исследовать ширину глазных щелей, объем и движение глазных яблок, величину зрачков, реакцию на свет, реакцию зрачков на конвергенцию и аккомодацию); V пара – тройничный нерв (чувствительность лица, наличие роговичных и чихательных рефлексов, симметричность жевательных мышц, безболезненность точек выхода тройничного нерва); VII пара – лицевой нерв (симметричность лица, мимические пробы: поднимание, нахмуривание бровей, надувание щек, оскаливание, вытягивание губ трубочкой, отсутствие слезотечения, изменений вкуса); VIII пара – слуховой и вестибулярный нервы (состояние слуха, наличие головокружения и нистагма); IX, X пары – языкоглоточный нерв, блуждающий нерв (наличие вкуса, глоточного и небного рефлексов); XI пара – добавочный нерв (нарушение кивательной и трапециевидной мышц); XII пара – двигательный нерв языка (дизартрия, анартрия). В дальнейшем необходимо исследовать равномерность или утрату сухожильных рефлексов (карпо-радиальный, рефлексы с двухглавой и трехглавой мышц, брюшные, коленные, ахилловы, подошвенные рефлексы). В исследовании координаторной сферы необходимо выполнить пробу Ромберга, пальце-носовую (ПНП) и пяточно-коленную (ПКП) пробы, дисдиадохокинез. Приступая к выявлению патологических рефлексов, указывающих на поражение пирамидной системы, необходимо исследовать оральные рефлексы (хоботковый, сосательный, симптом Маринеско – Радовичи), симптом Барре верхний и нижний, верхний симптом Россолимо, симптомы Бабинского, Оппенгейма, Гордона, Шеффера. Производится описание поверхностной чувствительности (болевая, тактильная, температурная), глубокой чувствительности (мышечно-суставная, чувство давления), сложных видов чувствительности (стереогноз); оценивается вегетативная нервная система (сосудистый тонус – глазосердечный рефлекс Даньини – Ашнера, кожные вегетативные рефлексы, терморегуляция и сало-слюно-потоотделение, регуляция мочеиспускания и дефекации). При необходимости производят исследование менингеальных симптомов: ригидность затылочных мышц, симптомы Брудзинского (верхний, средний и нижний), симптомы Бехтерева, Кернига.
Психический статус. Существенное клиническое значение в диагностическом процессе имеет правильное описание психического статуса. Психический статус пишется в настоящем времени, и в нем нельзя использовать психиатрическую квалификацию симптомов и синдромов. Психический статус составляется в описательном виде.
В тексте можно использовать терминологию больного, но оформляться она должна в виде прямой речи в кавычках. Психический статус имеет определенную структуру, но требует творческого подхода, чтобы после ознакомления с ним любой врач смог составить объективное представление о психическом состоянии пациента. Работа над психическим статусом может продолжаться несколько дней, пока идет знакомство с пациентом в процессе сбора анамнеза и наблюдения за ним.
Обычно начинается описание психического статуса с определения уровня сохранности сознания. Далее необходимо описать внешний вид и поведение больного: мимику и пантомимику, походку, степень активности во время общения с врачом, медицинским персоналом и другими пациентами, насколько опрятен больной (особенности одежды, возможная эксцентричность наряда, ухоженность, использование макияжа и т. п.). Отмечается поведение пациента в отделении (соблюдение режима, участие в жизни отделения, проведение досуга). Весьма информативным является описание манеры речи (темп речи, грамматический строй, словарный запас, громкость, тембр, модулированность и экспрессивность, особенности артикуляции). Если высказывания пациента являются клинически важной иллюстрацией психопатологического симптома либо дают яркое описание синдромальной принадлежности, необходимо их цитировать в психическом статусе (неологизмы, например). Главное внимание необходимо уделить симптомам, которые в клинической картине являются ведущими. Описываются симптомы психопатологии сознания, восприятия, мышления, памяти, эмоций и воли, оценка интеллектуальной сферы.
Описывая состояние сознания пациента, необходимо ориентироваться на результаты беседы с ним и косвенные признаки его поведения. Необходимо понять, насколько он ориентирован в собственной личности, окружающей обстановке, времени, месте. При этом важно оценить, что нарушает его ориентировку – измененное сознание либо, например, нарушение памяти. Правильно оцененная и описанная продуктивность контакта пациента с окружающими позволит верно квалифицировать расстройство сознания.
В расстройствах восприятия выявляют и описывают иллюзии, фотопсии, сенестопатии, галлюцинации (зрительные, слуховые, тактильные, обонятельные и т. п., а также истинные или ложные). Отмечается характер галлюцинаторных переживаний (комментирующие, ругающие, императивные).
Патология мышления описывается по содержанию и структуре. В расстройстве содержательной стороны мышления необходимо типировать навязчивые, сверхценные, бредовые нарушения. Бредовые высказывания зачастую сопровождаются бредовым поведением. Необходимо помнить также о возможности диссимуляции пациента, особенно когда речь идет о персекуторном бреде либо о бреде ревности. Врач-психиатр должен владеть навыками выстраивания беседы с бредовым больным, чтобы получить объективную информацию о его переживаниях. Для этого психиатр должен развивать в себе определенные личностные характеристики (эмпатийность, синтонность, иметь соответствующий эмоциональный резонанс). С одной стороны, нецелесообразно лицемерно во всем соглашаться с больным, с другой – активно возражать ему. Важно тонко удерживать нить диалога, продолжая выявлять психопатологическую симптоматику, вместе с тем склоняя больного к мысли о необходимости продолжения терапевтического взаимодействия. Структурные нарушения мышления лучше всего выявляются именно в диалоге с пациентом (резонерство, аморфность, разноплановость, торпидность, ригидность, обстоятельность).
Исследование памяти производится уже в процессе беседы с пациентом (необходимо внимательно оценивать информацию, которую пациент сообщает о себе, например, ориентируется ли он в датах произошедших событий, насколько четко рассказывает о приеме медикаментов, их дозировках и т. п.). Это позволяет оценить как среднесрочную, так и долговременную память. С помощью стандартного тестирования возможна проверка кратковременной памяти. Для ее оценки может предлагаться для запоминания ряд слов или цифр с последующим их воспроизведением после беседы на другие темы. Оценивать варианты и степень мнестических нарушений возможно также на основании данных среднего медицинского персонала в процессе наблюдения за пациентом в отделении.
В некоторых случаях необходимо оценить степень интеллектуального развития пациента. В этой связи следует подробно описать общий, образовательный и культурный уровень развития пациента, преобладающие интересы, профессиональную компетенцию.
При описании эмоциональной сферы прежде всего следует обращать внимание на фон настроения больного (в момент беседы, в течение дня в разных ситуациях). Важно указать глубину, длительность и интенсивность эмоциональных переживаний, их соответствие поведению пациента. В этой части психического статуса описывают антивитальные мысли и суицидальные тенденции.
Расстройства волевой сферы типируются преимущественно в части описания поведения пациента: гипербулия, гипобулия, парабулии, а также разнообразная кататоническая симптоматика (ступор, возбуждение, негативизм, амбитендентность, речевые стереотипии).
В психическом статусе возможно описание жалоб пациента либо их отсутствие. Это позволит оценить осознание пациентом своего состояния, насколько сформировано представление о течении заболевания. Таким образом оценивается критичность больного, что, в свою очередь, может служить критерием оценки тяжести психического расстройства. Завершается составление психического статуса типированием синдрома заболевания.
Затем в первичном осмотре выставляется предварительный диагноз. Иногда он может быть временным синдромальным либо выставляться под вопросом.
Далее указывается режим пребывания в психиатрическом стационаре:
● наблюдение (описание состояния и поведения пациента с возможностью больного перемещаться свободно по стационару и выходить из него, ставя в известность медперсонал);
● надзор (постоянный контроль за поведением пациента);
● строгий надзор (режим усиленного наблюдения, связанный с тяжестью психического состояния, обусловленного, например, высоким риском суицидального поведения, агрессии, помраченным сознанием, кататоническим возбуждением).
Помимо истории болезни, режим указывается в листе назначения.
В круглосуточном стационаре назначается определенный вид диеты (Приказ МЗ от 26.04.2006 № 316):
– основной стандартный вид диеты – ОВД (общий вид диеты);
– варианты диеты с механическим и химическим щажением – ЩД (щадящая диета);
– вариант диеты с повышенным количеством белка – ВБД (высокобелковая диета);
– вариант диеты с пониженным количеством белка – НБД (низкобелковая диета);
– вариант диеты с пониженной калорийностью – НКД (низкокалорийная диета).
Затем составляется план обследования и лечения. В настоящее время при составлении данного плана врач должен руководствоваться Стандартами медицинской помощи при психических расстройствах, утвержденными Приказами Министерства здравоохранения РФ, созданными на основании Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения (Приказ МЗСР РФ от 17 мая 2012 года № 566-н). Необходимо отметить, что стандарты носят рекомендательный характер и не являются абсолютной рекомендацией к действию. Подходя к процессу творчески, врач, тем не менее, должен соотносить свои назначения с существующими рекомендациями. Если его назначения будут отличаться от стандартов, то он должен обоснованно отразить эти отклонения в медицинской документации.
Целесообразно в рамках добровольной госпитализации взять подпись у пациента о том, что он ознакомлен с планом обследования и лечения.
Диагностический процесс написанием первичного осмотра не завершается. Одна из основных задач госпитализации – это установление основного развернутого клинического диагноза. В соответствии с ч. 2 ст. 64 № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 2011; № 48, ст. 6724; 2013, № 48, ст. 6165), приказом Минздрава РФ от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» введен новый порядок (п. 2.2) установления клинического диагноза в течение 72 часов с момента поступления пациента в психиатрическое отделение (дневной стационар). К этому времени должны быть проведены необходимые параклинические обследования, собран подробный анамнез, описан психический статус. Ответственность за установление клинического диагноза лежит на лечащем враче. Решение его должно быть независимым и может не совпадать с мнением врача-руководителя или статусного консультанта, так как лечащий врач несет юридическую ответственность за лечебно-диагностический процесс. Клинический диагноз должен быть обоснованным, о чем делается запись в истории болезни. В обосновании клинического диагноза врач пользуется клинико-психопатологическим методом, используя данные жалоб пациента, анамнестических сведений, психического статуса, параклинических исследований. Обоснование диагноза носит квалификационный характер. Врач должен продемонстрировать свои клинические знания, опираясь на полученную ранее информацию. Необходимо отметить, что в процессе госпитализации клинический диагноз может быть пересмотрен, если будут выявлены новые клинические или параклинические данные, что также должно быть отражено в истории болезни. Диагностика должна проводиться в соответствии с критериями существующей классификации (в настоящее время – МКБ-10). Клинический диагноз выносится на титульный лист истории болезни в графе 10.
Существенной частью истории болезни является ведение дневниковых записей. Дневники истории болезни позволяют отслеживать клиническую динамику. В настоящее время нет четких указаний кратности написания дневниковых записей. Долгие годы психиатры пользовались Методическими рекомендациями «Оформление и правила ведения истории болезни в психиатрическом стационаре», разработанными в 1972 г. Согласно этим рекомендациям, дневниковые записи делались ежедневно первые 7 дней. В дальнейшем при стабилизации состояния больного записи осуществлялись не реже 1 раза в 3–4 дня. Однако если состояние пациента было нестабильным, то записи продолжались также в ежедневном режиме. Если пребывание больного в стационаре затягивалось и превышало 3 месяца, при этом психическое состояние не имело выраженной клинической динамики, то дневниковые записи осуществлялись 1 раз в 5 дней. В Инструкции по оформлению истории болезни, утвержденной МЗ СССР от 04.10.80 № 1030, указывается, что дневниковые записи должны быть ежедневными. В настоящее время в рамках существующих Стандартов медицинской помощи при психических расстройствах кратность осмотра врачом пациента прописывается индивидуально в зависимости от патологии. Так, например, в Стандарте специализированной медицинской помощи больным шизофренией, острой фазой средней продолжительности в стационарных условиях предполагается длительность пребывания в отделении в среднем 75 дней. При этом врач обязан осмотреть больного не менее 24 раз. Ежедневные дневниковые записи указывают на то, что врач осуществляет постоянное мониторирование психического состояния пациентов, при этом также соблюдается правовая сторона ведения медицинской документации, подтверждающая ежедневное пребывание больного в стационаре. Содержательная сторона дневниковых записей должна отражать терапевтическую динамику. Даже в рамках одной нозологии психопатологическая картина у разных пациентов имеет свои индивидуальные особенности. Описывая редукцию симптомов, темп их исчезновения, врач обозначает эффективность лечения. Дневниковые записи несут отражение индивидуальных особенностей течения заболевания. Поэтому необходимо стремиться уходить от формализованных фразеологизмов. Обязательно в дневниках должно иметь отражение изменение терапевтических назначений, коррелирующее с записями в листе назначения (дата назначения и отмены препарата). Консультации, новые методы обследования и анализы вносятся в дневник с их обоснованием. После получения результатов обследования запись об этом вместе с интерпретацией результатов следует сделать в истории болезни.
Как правило, госпитализация в психиатрический стационар носит длительный характер, поэтому периодически врач обязан проводить аналитическую клиническую работу. Для этого в истории болезни составляется этапный эпикриз, в среднем каждые 10–14 дней. В этапном эпикризе врач подводит промежуточные итоги лечебно-диагностического процесса за указанный период. И если в дневниковых записях он использует описательный стиль, то в этапном эпикризе – квалификационный.
Этапный эпикриз содержит следующие разделы:
1. Паспортные данные.
2. Уточненный клинический диагноз.
3. Жалобы больного.
4. Данные о течении болезни и ее этапах.
5. Анализ полученных результатов обследования и данных консультантов.
В обязанности заведующего отделением входит регулярный осмотр пациентов отделения, о чем не реже 1 раза в 10 дней делается запись в историю болезни. В записи констатируется текущее состояние пациента, а также даются рекомендации по ведению больного. Осмотр подписывается заведующим отделением и лечащим врачом.
В сложных диагностических случаях врач имеет право созвать врачебный консилиум. Решение консилиума оформляется в истории болезни протоколом, в котором указывается причина проведения консилиума, описывается текущее состояние пациента, проводится анализ полученных клинических и параклинических данных, выносится заключение консилиума. Результаты консилиума подписываются его участниками с указанием фамилий и должностей. Мнения участников консилиума не всегда могут совпадать. В этом случае каждый участник консилиума может написать свое особое мнение.
При рассмотрении сложных и конфликтных случаев приказом главного врача создается врачебная комиссия, которая рассматривает (Цыганков Б. Д., Евтушенко В. Я., 2013):
● принятие решений в отношении профилактики, диагностики, медицинской реабилитации граждан;
● определение их трудоспособности, а также профессиональной пригодности некоторых категорий работников;
● осуществление оценки качества, обоснованности и эффективности лечебно-диагностических мероприятий, в том числе назначения лекарственных препаратов;
● обеспечение назначения и коррекции лечения при обеспечении пациентов лекарственными препаратами.
Решение врачебной комиссии принимается большинством голосов, оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию.
Завершается ведение истории болезни в день выписки пациента из стационара. Пишется заключительная дневниковая запись, в которой констатируется состояние пациента на день выписки и указываются рекомендации по дальнейшему лечебно-диагностическому процессу, если в этом есть необходимость. Если больному выдавался листок нетрудоспособности, то обозначаются даты его выдачи, затем указывается – либо «приступить к труду», либо пациент «продолжает болеть». Подписывается последний дневник лечащим врачом и заведующим отделением. На титульном листе обозначается дата выписки пациента и количество проведенных койко-дней в стационаре. В графе 11 заполняется заключительный диагноз с указанием основного диагноза, осложнений основного диагноза, сопутствующего диагноза. Самым последним пишется выписной эпикриз.
В выписном эпикризе в сжатой аналитической форме врач описывает динамику развития заболевания с психопатологической квалификацией симптомов, синдромов. Проводится описание лечения пациента в стационаре и течение болезни за период, проведенный пациентом в отделении. Указываются диагностически важные результаты параклинических исследований, вписываются рекомендации. Затем составляется выписка из истории болезни, в которой в сжатой форме описываются данные анамнеза, статусы, все параклинические и психологические исследования, течение заболевания в период нахождения пациента в стационаре. Вносятся данные о листке нетрудоспособности (если таковой выдается). Пишутся подробные рекомендации дальнейшего лечебно-диагностического процесса. Выписка из истории болезни подписывается лечащим врачом и заведующим отделением. В некоторых учреждениях также вносится подпись руководителя ЛПУ либо его заместителя.
1. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185–1 «О психиатрической помощи и гарантиях граждан при ее оказании».
2. Приказ Минздрава СССР от 04.10.80 № 1030 (ред. от 31.12.2002) «Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения».
3. Приказ МЗСР РФ от 10.01.2006 № 2 «О внесении изменений в инструкцию по организации лечебного питания в ЛПУ», утвержденную приказом № 330.
4. Приказ МЗСР РФ от 17.05.2012 № 566-н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения».
5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных».
6. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
7. Аргунова, Ю. Н. Новый порядок недобровольной госпитализации: коллизии в законодательстве и способы их разрешения // Независимый психиатрический журнал. – 2015. – № 3. – С. 55–64.
8. Триумфов, А. В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы: Краткое руководство / под ред. проф. Шварева А. И. – Изд. 6-е. – Л.: Медицина, 1965. – 260 с.
9. Цыганков, Б. Д., Евтушенко, В. Я. Оформление и ведение истории болезни в психиатрическом стационаре – Изд. 3-е, доп. и перераб. – М., 2013. – 239 с.
Глава II
Общая психопатология
II.1. Психопатологические симптомы (психиатрическая семиотика)
II.1.1 Симптомы патологии чувственного познания
При анализе психического состояния больных существенное значение имеет исследование их чувственного познания, традиционно называемого сферой восприятия. Его ступени (этапы) – ощущения, восприятия, представления.
Ощущение – простейший психический процесс отражения отдельных чувственно конкретных свойств и качеств предметов и явлений при их непосредственном воздействии на рецепторные зоны органов чувств.
Восприятие (в узком смысле слова) – психический процесс отражения предметов и явлений в целом, в совокупности их чувственно конкретных свойств и составных частей при их непосредственном воздействии на рецепторные зоны анализаторов. Восприятия предметны. Их образ проецируется в так называемое объективное (реальное) пространство, что связано с полем действия анализатора, соотношением его с результатами деятельности других анализаторов и индивидуальным опытом восприятий.
Представления – следы бывших восприятий, их образы, возникающие в сознании (непроизвольно или произвольно) при отсутствии в момент их возникновения самого объекта в пределах досягаемости соответствующего анализатора. Образ представления проецируется в субъективное пространство, осознаваясь как результат психического творчества субъекта.
Психологическая характеристика восприятия и представления представлена на рисунке II.1.1.
Рис. II.1.1. Психологическая характеристика восприятия и представления
Основная классификация проявлений патологии чувственного познания представлена на рисунке II.1.2.
Рис. II.1.2. Патология чувственного познания
Патология ощущений
А. Патологическое изменение порогов чувствительности
Понижение порогов чувствительности проявляется психической гиперестезией – резким усилением восприимчивости при воздействии обычных или даже слабых, нередко индифферентных раздражителей. Привычные свет, звук, запах, вкус, прикосновение ощущаются крайне интенсивными, болезненными, а иногда невыносимыми для больного, часто отмечаются раздражительность, несдержанность, гневливость, душевный дискомфорт.
◆ Встречается на начальных этапах развитиянепароксизмальных помрачений сознания (делирий, аменция, онейроид), острых психотических состояний (острые галлюциноз, параноид и др.), при многихневротических синдромах, абстиненции, в состоянии острой интоксикациинекоторыми веществами (опиатами, гашишем, циклодоломи т. п.).
Повышение порогов чувствительности имеет два варианта.
Психическая гипестезия – значительное снижение восприимчивости к действующим раздражителям. Для больного окружающий мир становится блеклым, теряет яркость, красочность, звуки – отчетливость (доносятся глухо), голоса – индивидуальные особенности (как бы нивелируются), пища – вкус, ароматические вещества – запах, болевая чувствительность падает (например, пациентка жалуется, что находится как будто «под стеклянным колпаком, а весь мир – за его пределами», звуки доносятся глухо, «как из-под воды, если нырнуть в ванне», «солнечные лучи проникают через этот колпак неяркими, все вокруг блеклое, окружающий мир тусклый, как будто прямо смотришь через пыльное немытое стекло»). Или пациент жалуется на ощущение, что он «как мертвый», окружающий мир видится «как осенью в пасмурный дождливый день, как сквозь туман».
◆Встречается при оглушенности, ряде депрессивных и субдепрессивных (депрессивно-дереализационных и депрессивно-деперсонализационных) состояний, истерических феноменах, в структуре развернутой картины онейроида, некоторых вариантах делирия, алкогольном и наркотических опьянениях, в наркотической стадии (стадии сна).
Психическая анестезия – полная нечувствительность одного или нескольких анализаторов при формальной анатомо-физиологической сохранности: психическая амблиопия (слепота), психическая аносмия (нечувствительность к запахам), психическая агейзия (утрата чувства вкуса), психическая глухота, психическая тактильная и болевая анестезия (аналгезия).
◆Встречается при сопоре и коме, истерических невротических синдромах.
Б. Сенестопатии – неопределенные, нередко трудно локализуемые, часто мигрирующие, диффузные, неприятные, беспредметные, крайне тягостные ощущения, проецируемые внутрь телесного «Я». Пациенты нередко прибегают к их образному обозначению: обозначают их как «стягивание», «жжение», «разливание», «щекотание» и т. п.
По содержанию сенестопатии делятся на:
● патологические термические ощущения («жжет», «печет», «леденит»);
● патологические ощущения движения жидкостей («пульсация», «переливание», «откупоривание и закупоривание сосудов» и т. п.);
● циркумскриптные (сверляще-разрывающие, жгуче-болевые);
● ощущения передвижения, перемещения тканей («сливание», «переворачивание», «расслоение» и т. п.);
● патологическое ощущение натяжения.
Наиболее часто сенестопатии локализуются в области головы, мозга, реже – в области грудной клетки и брюшной полости, редко – в районе конечностей. Часто их локализация меняется, что связано со склонностью сенестопатии к миграции.
Например, больная жалуется на болезненные, крайне неприятные ощущения в области головы, при этом чувствует «как мозг сжимается железными пальцами и как кровь перетекает из левой половины головы в правую». Другой больной – на «точечные мигрирующие колющие иголками боли» в области волосистой части головы, ощущение, что «на голове как будто шапка надета», мигрирующие ощущения жжения, «жужжания» в грудной и поясничной областях спины, перемещающиеся в область передней стенки грудной клетки, затем в область обоих бедер, «иногда возникает ощущение в мышцах, как будто током бьет, перемещающееся из нижних конечностей на туловище и обратно».
Другой больной жалуется на крайне неприятное, трудно описываемое словами ощущение в области макушки, жжение, «сверление», боли в мышцах обеих стоп, ощущение, что при каждом шаге чувствует, «как раздавливаются эти больные мышцы на стопах», «болезненный докучающий спазм» в области шеи, левого глазного яблока, сердца, при этом «немеет левая рука, левая половина лица», чувствует свой кишечник, «как он работает – сжимается и разжимается, периодически охватывается спазмами по всему животу», покалывает, тянет.
Сенестопатии следует отличать от проявлений соматической патологии и парестезий.
Неприятные ощущения при патологии внутренних органов имеют периферическое происхождение и появляются в результате прорыва интероцепции в сознание за счет усиленного раздражения патологическим процессом соответствующих рецепторных зон внутренних органов. Для них характерны локализованность, стереотипность содержания, связь с анатомическими границами и топографией органов. Довольно часто отмечается проекция в соответствующие зоны Захарьина – Геда, в которых выявляется тактильная и болевая гиперестезия. Нередко возникновение этих ощущений патогенетически обусловлено (например, алгии из-за нарушения диеты при гепатохолецистите или «голодные» боли при некоторых вариантах язвенной болезни желудка).
Например, при эрозивном гастрите пациентка жалуется на ноющие боли в области эпигастрия, натощак, уменьшающиеся после еды, беспокоящие в ночное время, купирующиеся при этом приемом пищи. Другая пациентка жалуется на колющие, выраженные вплоть до кинжальных боли в межлопаточной области при грыже пищеводного отверстия диафрагмы.
Парестезии же являются признаком неврологического или сосудистого поражения. При неврологической патологии они, в отличие от сенестопатии, проецируются на поверхность кожи (патология чувствительных нервов или задних корешков), локализуются в соответствующей зоне иннервации и сочетаются с иными неврологическими расстройствами в той же зоне (гипер- или гипестезии).
Например, при левосторонней грыже межпозвоночного диска L5-S1 пациент жалуется на покалывания, жжения в области внутренней поверхности левой голени, стреляющие, простреливающие боли в пояснице, иррадиирующие вниз по боковой и задней поверхности левого бедра (что соответствует зоне иннервации левого корешка L5, ущемленного грыжей). Кроме того, при неврологическом осмотре выявляются болезненность при пальпации в области остистых отростков L5-S1, в паравертебральной области, больше слева, дефанс мышц, также больше слева, сохранность сухожильных рефлексов, гипо-, гипестезия по наружной поверхности левого бедра, внутренней поверхности левой голени, положительный симптом натяжения Лассега.
При динамических нарушениях кровообращения парестезии имеют своеобразные условия возникновения (например, при болезни Рейно они появляются при ходьбе и исчезают после отдыха), отмечаются изменения цвета, температуры кожи и пульса на конечности. Органическим заболеваниям сосудов (эндартериит, тромбофлебит и пр.) сопутствуют трофические расстройства (например, при варикозной болезни нижних конечностей пациент жалуется на тяжесть, судороги, ноющие боли, покалывания «в ногах»; наблюдаются отек голеней и стоп, пигментация кожи в области голеней, варикозно-расширенные извитые подкожные вены, трофические язвы в области голеней).
◆ Сенестопатии встречаются при сенестопатозах, невротических синдромах, ларвированных депрессиях, сенестопатически-ипохондрических (паранойяльных, параноидных, парафренических), аффективно-бредовых, онейроидных психоорганических синдромах.
Патология собственно восприятия
В основе разделения патологии восприятия – сохранение или нарушение идентификации субъективного образа с воспринимаемым объектом.
Представлены двумя группами симптомов (рис. II. 1.3.):
А. Психосенсорные расстройства – искаженное восприятие с сохранением узнавания воспринимаемого объекта.
Б. Иллюзии – извращенное восприятие, при котором идентификация реального объекта восприятия нарушена. При иллюзии субъективный образ не соответствует реальному объекту перцепции и замещает его.
Рис. II.1.3. Патология восприятия
А. — нарушения отражения пространственно-временных качеств и свойств объектов внешнего мира и собственного тела, их величины, формы, веса, объема, местонахождения, контрастности, освещенности и т. п., с сохранением узнавания воспринимаемого объекта в целом.
По виду искаженно воспринимаемого объекта выделяют две группы симптомов:
● метаморфопсии – искаженное восприятие одного или нескольких объектов внешнего мира;
● нарушения восприятия «схемы тела» – искаженное восприятие собственного тела, физического (телесного) «Я».
По нарушению восприятия отдельных характеристик объектов:
● величины и размеров (макропсии – предметы воспринимаются увеличенными, микропсии – уменьшенными);
● формы (дисмегалопсии – предметы кажутся перекрученными, изломанными, скошенными и т. д.);
● пространственных параметров, взаиморасположения, числа (порропсии – предметы видятся удаленными или приближенными, растянутыми или спрессованными; оптическая аллестезия – пациенту кажется, что предметы якобы находятся не на том месте, где они действительно находятся; симптом поворота на 180° – поле зрения в восприятии больного развернуто на 180°, все кажется перевернутым; полиопия – при формальной сохранности органа зрения вместо одного предмета видится несколько);
● течения времени, последовательности развития событий (тахихрония – течение времени как бы ускоряется, брадихрония – замедляется);
● чувства реальности (дереализация – реальный мир предстает как бы «мертвым», «чуждым», «нарисованным», «неестественным», «ненастоящим»; галеропия – необычно воспринимается освещенность или контрастность; ксантопсия – все окружающее видится в желтом цвете; эритропсия – в красном). Указанными симптомами психосенсорные расстройства не исчерпываются. Встречаются такие нарушения восприятия «схемы тела», как искаженное восприятие местоположения его частей, их взаимосвязи, веса, объема и др. (например, больному кажется, что «живот стал большим, его не охватить руками», или «ноги удлинились, стали огромными, толстыми, тяжеленными, не могу дотянуться до них, чтобы снять туфли, даже не могу сделать шаг, такие тяжелые и огромные»).
По полноте охвата объекта искаженным восприятием:
● тотальное искажение – патологическое восприятие всего объекта в целом;
● парциальное – восприятие лишь части объекта.
Характеризуя психосенсорные расстройства, следует отметить, что у больных всегда сохраняется критическое отношение к ним, они чужды личности и субъективно крайне неприятны. При нарушении восприятия схемы тела использование дополнительного анализатора может купировать симптом. Например, при кажущемся увеличении головы (парциальная макропсия) дотрагивание до нее (использование тактильного анализатора) или взгляд в зеркало (использование зрительного анализатора) могут восстановить патологически измененное восприятие.
◆ Психосенсорные расстройства встречаются при синдромах психосенсорных, особых состояний сознания, психоорганических, абстинентных.
Б. — симптом патологии восприятия, при котором субъективный образ не соответствует реальному объекту перцепции и замещает его, идентификация реального объекта восприятия нарушена (вместо одного объета пациент воспринимает другой).
Существует несколько видов иллюзий. Аффективные иллюзии возникают при выраженных аффективных состояниях: страхе, тревоге, депрессии, экзальтации, экстазе. Условиями их возникновения, помимо аффективного напряжения, обычно являются слабость раздражителя (слабая освещенность, удаленность объекта, тихие звуки, невнятная речь) и признаки астении. Содержание аффективных иллюзий чаще всего связано с ведущим аффектом и содержанием основной психопатологической симптоматики.
Например, пациентке, недавно похоронившей супруга, дома, ночью, когда не могла уснуть и долго лежала, плакала, вспоминала мужа, показалось, что он стоит в прихожей; «придя в себя, поняла, что это всего лишь вешалка с пальто».
◆ Встречаются на начальных этапах делирия, при острых тревожно-депрессивных синдромах, острых парафренных, параноидных синдромах.
При вербальных иллюзиях вместо нейтральной речи больной слышит речь иного содержания, адресованную, как правило, к нему (обычно брань, угрозы, осуждение).
Например, больной жалуется, что ему «слышалось», как в очереди через проходную на завод беседующие между собой рабочие «говорят обо мне – ругаются, что я опаздываю и не выполняю план».
Этот симптом следует отличать от бреда толкования и отношения при острых параноидных состояниях. В последнем случае больной слышит и пересказывает речь окружающих правильно, но понимает ее иначе, обнаруживая в ней иной смысл, подтекст (ошибка суждений, а не восприятия). При иллюзиях же реальная речь замещается иллюзорной.
◆ Появляются на ранних этапах становления синдромов острого вербального галлюциноза, галлюцинаторно-параноидного.
Парейдолии – это зрительные иллюзии, при которых игра светотени, пятна, морозные узоры, щели, трещины, облака, сплетения ветвей деревьев и т. п. замещаются фантастическими образами.
«Узоры на ковре, висящем на стенке, складывались в ряды слонов с наездниками, шедшими среди барханов», «в рисунке обоев виделись монстры, корчащие рожи».
Парейдолии возникают вне зависимости от аффекта и воли больного. Если парейдолии теряют характер объективности, реальности для пациента и это сопровождается появлением чувства их сделанности, бредовым толкованием, то они называются псевдопарейдолиями.
◆ Отмечаются во второй стадии делирия, при некоторых состояниях наркотического опьянения (мескалин, марихуана, ЛСД-25); псевдопарейдолии – при онейроидном помрачении сознания, острой парафрении.
Патология представлений
Симптомы патологии представлений – галлюцинации, классификация которых приведена на рисунке II.1.4.
Рис. II.1.4. Классификация галлюцинаций
Галлюцинации – это чувственно яркие представления, доведенные патологическим процессом до степени восприятия реальных предметов.
Основными признаками галлюцинаций являются:
● реальный предмет или явление в поле досягаемости анализатора в момент галлюцинаторного переживания отсутствует («мнимое восприятие»); это патология представлений – следов бывших восприятий;
● галлюцинация всегда появляется в результате биологического страдания, патологического процесса (традиционно считается формальным признаком психоза). Вызывается не органической деструкцией коркового конца анализатора, его рецепторных полей или проводящих путей, а изменением функционального состояния центральной нервной системы; в противном случае должны возникнуть симптомы центрального выпадения функции – гемианопсия, амблиопия, скотома, а не психопатологическая продукция;
● патологический процесс меняет функционирование центральной нервной системы таким образом, что представления приобретают несвойственные им ранее психологические характеристики, которыми в норме определяется восприятие.
Наиболее существенным и клинически важным является разделение галлюцинаций на истинные и ложные (псевдогаллюцинации), критерии разграничения приведены в таблице II.1.1.
Таблица II.1.1
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТИННЫХ И ЛОЖНЫХ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ
Классификация галлюцинаций по анализаторам: слуховые, зрительные, обонятельные, вкусовые, тактильные, висцеральные (интероцептивные), кинестетические (моторные, проприоцептивные) и их вариант – речедвигательные.
Необходимо дифференцировать висцеральные галлюцинации и сенестопатии, проекция которых совпадает (внутрь телесного «Я»). Основным критерием при этом является то, что первые всегда предметны (больной называет объект, его качества – размеры, форму, температуру и т. п., местонахождение, выполняемые им действия и т. д. (например, больной жалуется на «синий овальный холодный тяжелый, как камень, кусочек стекла с гладкими краями в желудке»), а вторые беспредметны, так как являются ощущениями (крайне неприятное тягостное «ощущение тяжести, давления, как будто комок из мокрых газет в животе»).
● ● ●
Варианты галлюцинаций по вовлеченности анализаторов в формирование галлюцинаторного образа:
Простые – галлюцинаторные образы возникают в одном анализаторе.
Сложные – в формировании галлюцинаторных образов участвуют два и более анализатора. Разновидностью таких галлюцинаций являются так называемые синестетические галлюцинации Майера – Гросса: галлюцинаторные образы в двух или более анализаторах существуют одновременно и связаны общей фабулой. Например, больной «видит» во дворе оживленно беседующих людей и до него доносится их речь. Не следует идентифицировать данные галлюцинации с ассоциированными (связанными), при которых галлюцинаторные образы последовательно сменяют друг друга в различных анализаторах в соответствии с логикой развития фабулы. Например, «голос» сообщает о каком-либо событии, которое затем возникает перед глазами больного.
По условиям возникновения галлюцинации разделяются следующим образом (рис. II.1.5).
Рис. II.1.5. Классификация галлюцинаций по условиям возникновения
Функциональные галлюцинации – всегда слуховые. Имеют все признаки истинных или ложных, появляются лишь при реальном звуковом раздражителе, не смешиваясь, сосуществуют и исчезают вместе с ним. Их следует отличать от иллюзий, для возникновения которых также необходим реальный раздражитель. При иллюзиях патологически возникший образ поглощает образ реального предмета (больной слышит вместо…), при функциональных же галлюцинациях патологический образ с реальным не сливается, больной отличает его от галлюцинаций (слышит вместе с…). Например, во время шума включенного пылесоса пациенту «слышались какие-то голоса»; после того как он выключал пылесос, «голоса пропадали», затем, при включении пылесоса, слышались вновь.











