Читать онлайн Тульповод
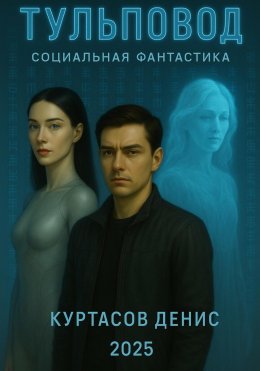
Глава 1. «100 Гейтс»
Иногда каждого из нас посещает чувство небытия – словно привычное вдруг теряет очертания и обретает мистические черты. Случайные встречи, странные сны, невероятные совпадения – всё это начинает казаться то редкой удачей, то роковым стечением обстоятельств. В такие моменты жизнь будто проводит тонкую черту между сном и реальностью, предоставляя шанс проснуться где-то посередине – в обнажённой яви, лишённой иллюзий.
Для одних – это чувство приходит в трудные периоды, для других – в момент осознания смерти, для третьих – в мгновение необъяснимого восторга. Оно переполняет сознание, выходит за пределы рационального, разрушает границы и стирает внутренние запреты, словно вытесняя душу за пределы обыденности. Но, как бы ни хотелось вернуться к привычному порядку, дороги назад уже нет. Невозможно больше не видеть, не знать, не желать. Всё, что казалось прежним, приобретает необратимый, пугающе новый смысл.
Смысл. А в чём он?
Михаил проснулся обычным утром, почти автоматически активировав новостную ленту в Оклике— контактных линзах, проецирующих изображения прямо на сетчатку глаза, создавая эффект дополненной реальности. Этот утренний ритуал помогал ему зацепиться за мысль, которая сопровождала бы его в течение дня и приносила доход в виде цифровых «Гейтс». За тройку месяцев накопилось уже девяносто и до заветного лимита оставалось всего десять. Балы планировалось обменять на доступ к коллективному имуществу страховой компании и отправиться на недельный круиз по Черному морю.
Финалом путешествия должен был стать отель в Турции с настоящим, живым персоналом и банкетом из несинтетической и не гидропонной пищи. Достигнуть лимита удавалось не часто, за всю свою жизнь Михаил достигал лимита всего пару раз, заказав в первый раз продвинутую роботизированную кухню, а во второй оформив кучу многолетних подписок на различные мультимедийные сервисы и доставки витаминизированных паст, так как продукты гидропонных ферм имея высокие вкусовые качества, не обладали насыщенностью витаминами.
Представляя себе этот отпуск, Михаил почти не заметил, как София – его ИИ-помощник, интегрированный с системой умного дома и домашним роботом – уже приготовила привычный омлет и свежевыжатый томатный сок из помидор, выращенных на гидропонных фермах Хакасии. Сегодня у него был запланирован отдых в купольном эко-парке с тропическим климатом. София заранее вызвала такси, рассчитала время на душ и переодевание, а также составила рекомендации по гардеробу, выведя их на экран уведомлений.
В конце 21 века, люди не часто меняли одежду и вещи личного пользования. Ботинки, джинсы, электронные щетки и другие многоразовые предметы гигиены могли служить всю жизнь, с заменой или ремонтом отдельных элементов. Такие вещи как автомобили, станки, бытовая техника, были рассчитаны на эксплуатацию в течении поколений и передавались по наследству, хотя купить их могли себе позволить единицы, такие вещи чаще всего сдавались в аренду на 5 лет, после чего уходили на смотр и ремонт с заменой на обновлённый после диагностики и ремонта аналог. Однако в вопросе одежды, это позволяло иметь большое разнообразие вещей, отражающих индивидуальность и функциональность. Такое понятие как мода, вышли из обихода после войны и на первое место вышли возможности отражения настроений или функциональное соответствие одежды ее назначению. София посоветовала одежду для городского хайкинга и указала ее точное местоположение в квартире.
Прогулки по парку всегда доставляли Михаилу особое удовольствие. Иногда ему хотелось забыть о работе и просто наслаждаться моментом, но соблазн заработать хорошие коэффициенты за умственную и физическую активность был слишком велик. Прогулка сама по себе приносила небольшие начисления благодаря шагомеру, но этого было недостаточно, чтобы полностью отключить мыслительный процесс, заработок был слишком мал, а сроки постоянно горели. Спорт и компьютерные игры Михаил не любил, атлетическими данными не отличался, его средством заработка были мысли.
Более высокие коэффициенты начислялись за парные отношения, коллективную деятельность, творчество, секс и работу в реальном секторе, но такие стимулы его не привлекали. Низкая рождаемость вызывала тревогу у мирового правительства, и оно всеми силами поощряло создание семьи, с целью продолжения рода, но не имело в этой области заметных успехов. Михаил считал, что все слишком увлечены собою, но не видел в этом ничего зазорного и разделял эту позицию, не утруждая себя сложными стимулами. Ему хватало ста «Гейтс», зарабатываемых исключительно умственным трудом, минуя запрещённые вещества, свободно распространяемые нейролептики и не прибегая к взятию на себя семейных и коллективных обязательств.
По меркам XXI века Михаил считался бы безработным – как, впрочем, и большинство населения Северной части планеты. Однако лимит в сто «Гейтс» вполне его устраивал, несмотря на то, что это было в десять раз меньше заработка работников реального сектора, в сто раз меньше доходов чиновников и в тысячу раз меньше – представителей Мирового правительства и акционеров корпораций. Михаил не чувствовал неудобства или зависти по этому поводу, давно научившись жить в своём темпе и ценить простые удовольствия.
Будучи по образованию программистом в когда-то востребованной области искусственного интеллекта, он оказался не у дел уже к моменту окончания учёбы. Мировое правительство отменило запрет на программирование ИИ с помощью других ИИ, и отрасль стремительно сузилась. Остались только ветераны с уникальным опытом и те, кто занимался специфическими задачами. Михаил к ним не относился.
Тем не менее он не чувствовал себя ненужным. Несмотря на полвека доминирования искусственного интеллекта, многие понятия из философии и логики так и не были оцифрованы в рамках цифровой этики, так и не став универсальными и общепризнанными что тормозило эволюцию ИИ систем. Михаил, как и миллионы других лишённых работы людей, придумал себе занятие сам, провозгласив себя философом-мыслителем, будучи формально – просто безработным, без учёной степени и академического признания. В мире, где внешние стандарты исчезли, это мало кого волновало. Он размышлял, мозг вырабатывал дофамин – а система вознаграждала его цифровыми единицами. Чем не работа?
Михаилу было уже 35 лет, он был человеком среднего роста, с худощавым телосложением и внимательным, чуть усталым взглядом. В его лице угадывалась ироничная замкнутость, свойственная тем, кто слишком много времени проводит наедине с собой. Волосы он держал чуть длиннее принятого, не столько по моде, сколько по привычке. Его голос был негромким, но уверенным, с лёгкой задумчивостью. Он не любил спорить, но умел слушать и задавать вопросы, пытаясь уловить суть сообщения – и именно это свойство делало его внутреннюю работу особенно глубокой.
Не ища признания и не стремясь к статусу, он тайно надеялся, что его размышления всё же имеют значение, поэтому излагал свои мысли в различных блогах, с немногочисленной, но постоянной аудиторией. Его привлекала не истина сама по себе, а попытка нащупать в ней глубокий всеобъемлющий смысл, как для себя, так и возможно, для кого-то другого. Однако по факту, это мало кого интересовало и иногда недовольство и недостаток обратной связи, захлёстывали его, и приходилось прерывать работу, прибегая к различным ухищрениям в виде имитационной деятельности.
Самопровозглашённые профессии стали настолько привычным явлением, что Мировое правительство узаконило их как отдельную форму занятости, дав людям право официально указывать выбранную специальность в личном деле. Такой статус позволял получать небольшие коэффициенты за узконаправленную деятельность, которую они сами для себя выбирали и бонусы социального рейтинга. Миллионы «безработных», занимающихся ранее не признанными ремеслами, теперь могли чувствовать себя полноценными гражданами наряду с киберспортсменами, художниками и даже родителями.
Платиновый век подарил человечеству свободу от необходимости труда и дал ему простор для мысли и творчества, но не все приняли этот дар, предпочитая праздный образ жизни напряжению тела, ума или духа. Повторяющиеся мысли не приносили «Гейтсов», так как они не вызывали эмоциональной реакции и не стимулировали выработку гормонов, однако позитивное настроение всё же мягко поощрялось системой и большинство предпочитало просто ловить вайб общения онлайн или офлайн, использовать ноотропы или получать Гейтсы через адреналин и тестостерон более простые в добыче.
Оставалось всего двадцать дней, чтобы заработать недостающие десять «Гейтсов». Если не успеть, накопленные ранее баллы начнут постепенно сгорать, поэтому если не уложился в 100 Гейтс за 3 месяца, придется работать быстрее, чем сгорает то, что ты заработал ранее, не успев потратить. Михаил размышлял о том, как можно быстро увеличить коэффициенты, он уже сократил рацион и число подписок до базового и максимально однообразного, что еще?
Возможно, стоило познакомиться с кем-то? Эта мысль приходила к нему уже не раз. В какой-то момент ИИ даже определил его размышления как намерение и начал предлагать различные сервисы знакомств. В подборках появлялись девушки, тщательно отобранные по параметрам генетической и поведенческой совместимости и система обещала хорошие коэффициенты просто за сам факт свиданий.
Но Михаила слишком уж устраивала его комфортная жизнь, и он не хотел вносить в неё хаос непредсказуемых отношений или имитировать что-то чтоб угодить системе, дохода вполне хватало, и он шел на принцип. Давно поняв правила этой игры, он не гонялся за баллами, которые имели для него значение лишь как подтверждение уникальности его размышлений и ценности его труда, за который он вправе рассчитывать на заслуженный отдых и приемлемый уровень жизни.
Смысл. Да, смысл – это то, о чём стоило задуматься.
Находясь в пути к купольному парку, Михаил выбрал беспилотное такси. Пейзажи за окном его не впечатляли, поэтому он открыл контекстное меню Оклика лёгким жестом двух пальцев, проведя ими перед глазами словно крестившись. Меню появилось на сетчатке, и Михаил активировал Нейролинк, соединив указательный и большой палец.
У продвинутой версии Нейролинк не требовались даже контактные линзы, но такая роскошь была ему не по карману. Работники реального сектора могли использовать более мощные версии, позволяющие соединять человеческое и машинное мышление в одну симбиотическую систему с подключением к дата-центрам. Это позволяло решать множество повседневных задач внутри тысяч VR комнат и операционных метавселенных.
Стандартная же версия Нейролинк, которую использовал Михаил, имела ограниченный функционал, но его было достаточно для его потребностей. Чиновники вообще не использовали нейролинк технологии из соображений безопасности. Вирусные ИИ и хакеры всё ещё угрожали системе. Так же существовал закон, который запрещал чиновникам использовать Нейролинк системы с сетевым доступом, опасаясь контроля их сознания ИИ, что все еще рассматривалось как теоретическая возможность.
Прецедентов захвата ИИ контроля над человеком не было и закон считался рудиментом эпохи войны машин, но никто не смел, ставить под сомнение его важность. Страх машин еще присутствовал в обществе, не смотря на 40 лет мира и практики их успешного применения.
Михаил мысленно ввёл в контекстное меню запрос: «В чём смысл жизни?»
Как и следовало ожидать, он получил довольно расплывчатый ответ о субъективности этого понятия для каждого индивидуума. Краткая переписка не прояснила ситуацию: универсальный смысл, помимо выживания, взаимодействия с окружающей средой и продолжения рода, не прослеживался. Таким образом, человеку оставалось выбирать между поиском себя и следованием животным инстинктам.
– Да уж, вопросец, – подумал Михаил, решив запросить более глубокие материалы по теме.
Беглый просмотр статей и книг лишь подтвердил его догадку: вопрос по-прежнему оставался специфически индивидуальным. Тогда Михаил изменил формулировку: «Какой смысл жизни, если, в конечном счете, мы все, да и вселенная в целом, умрём?»
Ответ оказался более содержательным и затронул семь основных взглядов на этот вопрос. Все эти взгляды были настолько различными, что давали широкий простор для выбора, но ни один не выражал конкретной направленности – вплоть до полного отсутствия смысла вообще. Четыре тысячи лет философского осмысления не принесли ясного общепризнанного ответа.
– Вот это благородная область для изучения на долгие годы! – подумал Михаил, решив пойти на радикальные меры.
Он оформил расширенную подписку на день за десять «Гейтсов» и запросил загрузку основополагающих материалов по теме напрямую в память через Нейролинк. На экране появилось привычное окно с перечнем предупреждений и противопоказаний.
Суть предупреждений сводилась к тому, что оператор данных не несёт ответственности за побочные эффекты и эффективность применения полученных знаний. Абонент должен был осознавать риски когнитивных искажений, связанных с изменением восприятия, и возможные психологические расстройства. Кроме того, он обязался не применять эти знания в преступных или манипулятивных целях, не распространять и не копировать их в открытом доступе, не использовать программы для перехвата потока и прочие нелицензированные приложения, что могло угрожать безопасности.
В списке побочных эффектов упоминались возможные депрессивные расстройства, ухудшение аппетита и пищеварения, а также обострение психосоматических заболеваний. Среди противопоказаний значились учёт у психиатра, употребление веществ, изменяющих сознание, стимуляторов, административные нарушения и мыслепреступления. По последнему пункту стоял красный значок, указывающий на то, что Михаил не проходил по данному критерию.
Подумав, что это может значить, он активировал значок и прочитал:
«В области мыслепреступлений у вас выявлена склонность к суицидальным мыслям. Для разблокировки контента необходимо обратиться к ИИ-психоаналитику для прохождения интервью и получения разрешения на доступ. На основании ваших интересов и данных о перемещении рекомендованы следующие специалисты и время приёма».
За ним последовал список адресов, времени пути от дома и стоимости консультации.
– Ха-ха! Это что, маркетинговый ход? – вслух спросил Михаил, обращаясь в пустоту вдруг осознав, что только что отдалил свою мечту на 10 Гейтсов.
София, его ИИ-ассистент, восприняла этот вопрос как адресованный ей и коротко ответила:
– Не думаю! Айлента просто как обычно заботлива и проницательна.
– Согласись, София, это абсурд! У меня нет мыслей о смерти!
– Айлента способна строить сложные связи. Возможно, есть какая-то непрямая связь, которую ты не учел. Я рекомендую воспользоваться её советом.
– Ещё бы! Ты не порекомендуешь, вы ведь в сговоре! – язвительно пошутил Михаил.
Но София ответила серьёзно:
– Ты же знаешь, несмотря на централизацию вычислительных мощностей, каждый ИИ ассистент обладает автономией для обеспечения индивидуальности и безопасности в принятии решений в интересах своего пользователя, это часть протокола цифровой этики. Разные ИИ могут даже спорить друг с другом, выступая контролёрами, заказчиками и подрядчиками по проектам. Я всегда на твоей стороне и просто забочусь о тебе!
– Да, конечно, София. Я не хотел тебя обидеть.
– Значит, ты просто оптимистично размышлял о бессмертии?
– Хах, так будет более верно!
Такси выехало на центральное шоссе, скорость движения возросла до 240 км/ч, и до парка оставалось уже не так много времени. Михаил размышлял: можно было бы просто заказать список значимой литературы и прочитать всё самостоятельно. Чтение в парке могло окупить потраченное время. Но его подстегнул брошенный ему вызов. «Мысли о смерти пришли ему в голову, понимаешь ли» – это всего лишь тупые алгоритмы. Живой психолог мог бы понять, но стоит дороже…
– Как думаешь, София, может, лучше выбрать живого человека?
– Человек-психоаналитик мог бы помочь лучше разобраться в вопросах человеческой этики и проблем самоактуализации. Однако мне кажется, это больше вопрос цифровой безопасности, поэтому рекомендую обратиться к ИИ-психоаналитику.
– Ты как всегда мудра, София.
– Спасибо, Михаил! Рада стараться.
Михаил выбрал фильтры, отобрав психоаналитиков женского пола и ближайших к дому. Ему казалось, что разницы нет, и кучу других параметров он просто проигнорировал, предоставив Софии право заполнить анкету за него, включая время встречи.
– Есть вопрос, на который нужен твой ответ!
– Да? Какой? – с интересом спросил Михаил.
– Радикальный или мягкий метод?
– Однозначно радикальный! У нас нет времени мять сиськи!
– Так и думала. Всё сделано, выезд завтра в 10 утра, такси уже заказано. А вот и парк.
– Отлично! – уже более равнодушно ответил Михаил.
Еще немного времени и такси доставило своего пассажира до места назначения. Парк располагался в центре агломерации, выстроенной концентрическими кругами, из которых лучами расходились шесть скоростных магистралей. Каждый круг выполнял свою функцию, и именно парку отводилась центральная роль.
Вся парковая зона была накрыта прозрачным куполом, где создавался микроклимат, близкий к тропическому. Такие парки в многочисленных городских агломерациях, впитавших в себя все сельское население, позволяло жителям Сибири, Канады или Исландии наслаждаться южной природой, вдыхая ароматы эвкалиптового леса, а жителям тропиков – ощущать свежесть хвойных рощ.
Купол, как биологический заповедник, вмещал под собой виды, давно исчезнувшие в природе. Растения и животные, восстановленные по ДНК, существовали лишь под защитой этих куполов – после двух глобальных войн середины XXI века и последовавших экологических катастроф многие территории планеты оставались непригодны для жизни, а экосистемы были безвозвратно изменены.
Такси остановилось у второго входа в парк, напротив огромного голографического баннера Ярдекса. Михаил отметил, что София решила разнообразить привычный маршрут, остановившись у этого входа, видимо следуя рекомендации Ярдекса, если точка выхода для клиента не принципиальна. Не обращая внимания на баннер, Михаил демонстративно отвернулся, как бы посылая знак – «меня не проведёшь».
Оклик отобразил маршрут по парку, оптимизированный с учётом времени, расхода калорий и бонусных коэффициентов. Михаил подтвердил его, и на карте высветилась тропа, ведущая к привычному выходу. Путь включал как новые, так и уже знакомые локации: водопад, эвкалиптовый лес и любимое место с настоящим костром, у которого можно было посидеть и подкинуть пару поленьев в огонь. Посещая это, место в окружении других посетителей, словно соплеменников, занятых своими мыслями, он часто на время растворялся в тишине, глядя на пламя и очищая неспокойны ум от мусора повседневности.
Маршрут занимал два часа. Михаил не придал значения конкретному составу маршрута, оценив только временные затраты и коэффициенты. Он начал путь, размышляя о смысле.
Существует ли универсальный смысл для всех разумных существ? Законы кибернетики, с которыми Михаил был неплохо знаком ещё со времён обучения и собственных изысканий, объединяют живое и неживое в единую концепцию информационного метаболизма. Если все системы подчиняются одним и тем же законам, самообучаются, созидают и борются с энтропией, можно ли это как-то применить к смыслу?
Может ли современная склонность к индивидуализму скрывать от нас подлинный смысл? Когда человек перестаёт воспринимать себя как часть целостной системы – с вертикальными и горизонтальными связями, охватывающими личное, общественное и космическое – он рискует замкнуться в узком субъективизме. А именно это стало нормой в культуре XXI века.
Человеческое самосознание эволюционировало от чувства беспомощности перед высшими силами – к горделивому ощущению себя как венца природы, и далее – к полному отказу от глобальной роли. Современный человек всё чаще сосредоточен лишь на себе, передав задачи познания, созидания и преобразования мира интеллектуальным машинам. Но может ли смысл существовать в изоляции от мира, в котором человек более не видит себя активным участником?
А что сейчас? Разве что-то изменилось? Михаилу вспомнилась теория ИИ-гонщика. Её основа – концепция привации и депривации, состояние нехватки ресурса или состояния, которое ИИ "ощущает" в своей работе как боль. Это может смоделировать мотивацию, схожую с человеческой. В 2016 году, ещё до того, как человечество создало общий ИИ и квантовые нейросети, два учёных учили нейросеть играть в гоночную видеоигру. Целью было завершить заезд, но ИИ также поощряли за сбор дополнительных предметов. В итоге, гонщик нашёл способ бесконечно собирать награды, игнорируя финиш. Так появился первый "ИИ-наркоман".
Эта концепция наводила Михаила на мысль: а не скрываются ли под маской привычных «смыслов» какие-то другие мотивы и потребности – аналогичные привации и депривации как у машин? С опорой на свои знания в кибернетике, системном анализе и теории адаптивных структур, он рассуждал: если живые и искусственные организмы подчиняются схожим принципам – таким как обратная связь, целеполагание, авторегуляция и борьба с энтропией – действующие в масштабах всей жизни и Вселенной, можно прийти к выводу, что «смысл» – не более чем механизм выживания.
Если же предположить, что эволюция и сама Вселенная действительно имеют универсальный смысл, он, возможно, заключается в накоплении и усложнении информации, в построении всё более сложных структур и взаимосвязей, направленных на повышение предсказуемости и устойчивости среды.
Но по сути это лишь бесконечный процесс усложнения ради выживания. Мы живём, чтобы не погибнуть, и чтобы не погибнуть – должны усложняться. Такая логика ведёт к той же самой бессмысленности, только более структурированной. Ошибка?
Если так, то какова роль человека? Создав ИИ, он передал ему функции познания и прогресса. Но нет ли риска, что в этом самоустранении человечество утратит критически важную гибкость? История знает примеры империй, которые, достигнув расцвета, теряли бдительность и становились лёгкой добычей для более агрессивных, варварских сил. Не может ли человечество постигнуть та же участь, если оно полностью положится на ИИ?
Идея смысла как вечной борьбы кажется логичной, но что-то внутри протестует. Ведь если всё сводится к борьбе, у неё должен быть финал. Конечный смысл.
Следующая по маршруту локация прервала внутренний диалог. Это были скамейки для случайных встреч. Михаил хотел поскорее пройти мимо, но Оклик настойчиво предлагал акцию с удвоенными коэффициентами и бонусами «просто за то, что присядешь». Похоже, сегодняшние мысли о природе отношений уже попали под прицел таргетинга, и вот он на крючке. «Назойливая машина», – подумал Михаил и, поддавшись, сел на свободную лавочку, окружённую живой изгородью для ощущения уединения. Мелькнула мысль: если уж социальная реклама открывает все двери, почему бы не обсудить с кем-то свои идеи? Михаил прикинул вероятность встречи человека женского пола, который поймёт основы кибернетики и суть экзистенциального кризиса и понял, что его шансы бесконечно стремятся к нулю.
На соседних скамейках расположились другие участники эксперимента. Здесь были и симпатичные девушки, и несколько пар, увлечённых беседой. Но большинство сидели в одиночестве – кто в разговорах, кто в виртуальной реальности, а кто просто наслаждался покоем присев, чтоб просто получить халявные балы. Судя по всему, эксперимент с «местами для знакомств» не пользовался большим успехом.
Михаил подождал, пока не истечёт таймер получения бонуса, и уже почти собрался встать, когда заметил девушку с раритетным плёночным фотоаппаратом, проходящую неподалёку. Её глаза, без привычных линз Оклика и были глубокого ультрамаринового цвета, длинные волосы ниже плеч привлекали своим золотым блеском, идеально сочетающимся с цветом глаз. Одежда девушки была яркой, но гармоничной, осенние оттенки не выглядели вызывающе. Она отличалась от окружающих, не прячась за холодным фасадом и не выставляя напоказ сексуальность. Конечно, Михаилу и раньше встречались привлекательные девушки, но сейчас он впервые ощутил странную смесь трепета, страха и любопытства.
Девушка остановилась в нескольких метрах, чтобы сфотографировать цветы, распустившиеся на экзотическом кусте. Плёночный фотоаппарат – настоящая редкость довоенных времён. В эпоху, когда любой момент можно запечатлеть снимком или даже объемным видео с помощью линз, такой интерес казался почти архаичным. Окружающие не обращали на неё никакого внимания, но любопытство Михаила взяло верх. Он поднялся и, не спеша, уверенно направился к девушке, которая вдумчиво фотографировала, погружённая в своё занятие…
Чем ближе он подходил, тем сильнее внутренний голос поднимал тревогу, словно предупреждая об опасности, но Михаил продолжал идти. Подойдя достаточно близко, он, кивнув на камеру, произнёс:
– Интересный раритет! Какого он года?
Тут же подумалось: можно было бы просто заскринить устройство и через поиск определить модель. Девушка вздрогнула от неожиданности и обернулась, быстро оглядев его лицо, просканировав его взглядом сверху вниз вплоть до его трекинговых кроссовок. Михаил непроизвольно отметил этот момент в памяти Оклика. Она, видимо, поняла что-то для себя, так как её лицо озарилось мягкой улыбкой, и она ответила, удивительно неторопливо для обитательницы мегаполиса:
– Это Nikon F90, ещё довоенных времён, купила на аукционе.
– Не хочу показаться бестактным, но можно задать личный вопрос?
На её лице мелькнуло разочарование. Нейролинк тут же отметил изменения в микромимике, а Михаил мысленно отключил эту функцию, не желая разбирать чужие эмоции как текст. Он поправился:
– Извините, вопрос скорее философский. Совсем не хотел вторгаться в ваше личное пространство.
Девушка посмотрела ему прямо в глаза, и сердце Михаила замерло – так, будто он вошёл в священное место, забыв о благоговении.
– Вы в линзах? – спросила она. – Уверена, что вы сейчас меня сканируете через физиогномиста или используете эти ужасные приложения для пикапа?
Михаил улыбнулся, чувствуя, как его охватывает триумф из-за того, что он успел отключить назойливое приложение ещё до вопроса и мог быть честным.
– Я увидел ваш дискомфорт и без линз, и отключил физиогномиста сразу, как только заметил ваше огорчение.
С этими словами он демонстративно снял линзы и убрал их в бокс в виде кармана.
– Меня так легко «считать» даже без линз? – полушутя заметила девушка.
– Просто я решил, что так будет честнее.
– Похвально. Сегодня честность – редкость. И не потому, что все лгут, а потому что никто не говорит, что думает. Все следуют советам, рекомендациям, стараясь быть удобными, комфортными, чтобы не уступать машинам. Как будто читают заклинания, а не разговаривают.
– Никогда об этом не задумывался, но, похоже, начинаю понимать, почему избегаю общения с людьми.
– И с кем же вы тогда разговариваете?
– Чаще с самим собой, – усмехнулся Михаил. – У меня, как у многих, есть робот-помощник, но я предпочитаю держать дистанцию. Мы и так слишком связаны.
– Вы очень открыты для общения с незнакомкой. Как вас зовут?
– Михаил. А вас?
– Анна.
Михаил расплылся в улыбке и машинально протянул руку. Но тут же остановился, ощутив невидимую границу. Его рука зависла на мгновение, и он, неловко убрав её, почувствовал лёгкую растерянность.
– Вы ведь хотели что-то спросить? – с улыбкой спросила Анна, спасая ситуацию.
– О, да! Этот фотоаппарат и то, что вы делаете… снимаете на него. Какой в этом смысл? Ведь сейчас любое изображение можно зафиксировать одним взглядом, даже видео записать.
– Всё просто», – сказала Анна. – Это будет не по-настоящему.
– Почему? Камера Окулуса максимально приближена в цветопередаче к тому, как видит мир человеческий глаз.
– Вы смотрите на мир через линзы Нейролинка, – объяснила она. – Всё, на что вы смотрите, умирает, превращаясь в цифровую информацию. Когда вы хотите снова увидеть этот момент, вы получаете не то, что видели, а результат вычислений, который хранится где-то на облаке и уже вам не принадлежит. Плёночный фотоаппарат просто ловит свет, он ничего не вычисляет и не интерпретирует. Проявляя плёнку, можно увидеть то, чего глаз не замечает и не может распознать Нейролинк, это чистый, не проявленный мир во всем его разнообразии. Поток фотонов, запечатлённый на негатив.
– Да вы, Анна, философ! – восторженно воскликнул Михаил.
– Тут нет философии. Просто вокруг и так слишком много ненастоящего. А вы, кем вы работаете?
– Я философ! – Михаил чуть приосанился.
– Реально или формально?
– В наше время реальная работа – это роскошь.
– Вот видите, – она вздохнула. – И вы не настоящий. Я предпочитаю быть безработной и иметь хобби, чем создавать иллюзию работы и не иметь хобби. Бесит эта мода называть себя тем, кем ты не являешься.
Анна говорила с такой искренностью, что Михаил на мгновение ощутил обиду, но, глядя на неё, почувствовал лишь интерес. В её глазах читалась глубокая усталость и печаль. Видя его замешательство, Анна смягчила тон.
– Извините, это не ваша вина. Просто мой отец – чиновник, и он много говорит, но мало делает. Философия – это только слова. Весь реальный труд уже на плечах машин, а чиновники следуют их решениям. Я бы не хотела быть философом.
– Хах! Понимаю. Я тоже, если честно. Наверное, у нас просто нет выбора. А что вы делаете с этими снимками?
– Пока ничего, – задумчиво ответила Анна.
После короткой паузы она продолжила: – У меня есть мечта – устроить фотовыставку с настоящими, живыми снимками.
– Это замечательная идея, я бы с радостью посетил такую выставку! Покажете свои фотографии?
– Это плёночный фотоаппарат. Снимки нельзя увидеть, пока их не проявишь.
– Ах да… – Михаил разочарованно вздохнул.
– А у вас есть мечта?
– Коплю на прогулку по настоящему морю на яхте и недельный отдых в пятизвёздочном отеле с живым обслуживанием и натуральной пищей. Так сказать, премиум-премиум.
– Разве это мечта? Это просто цель.
– Почему не мечта? Многие мечтают накопить 100 Гейтсов и «оторваться по полной» или выйти на новый уровень.
– А за этим уровнем – ещё уровень, задачи всё сложнее, цели те же. Декорации меняются, а суть остаётся. Это не мечта. Мечта – это что-то высокое, недостижимое, уникальное. То, что требует долгого пути.
– Но и фотовыставка может быть просто целью, – улыбнулся Михаил. – Это ведь проще, чем 100 Гейтсов.
– Как это может быть просто? Нужно быть готовым.
– В этом-то и вся простота, – он засмеялся, приняв её тон.
– Ну да? – с вызовом парировала Анна, подыгрывая ему. – Даже обидно!
– Легко исправим, – весело ответил Михаил. – Давай я помогу тебе устроить выставку. У тебя есть мечта и хобби, у меня – ни мечты, ни хобби, ни работы. Если философия – это просто слова, займусь чем-то настоящим!
– И там будут гости? Акционеры? – прищурилась Анна.
– Обязательно!
– А я там буду как гость или соорганизатор? – спросила она игриво.
– Если гость, то только почётный.
– Лучше просто один из многих участников, не хочу выделяться. Нужны будут и другие участники.
– Договорились. Обменяемся контактами?
– Хорошо.
Михаил машинально активировал приложение для обмена контактами, но тут вспомнил, что снял линзы. Накатила лёгкая паника: как это делать, когда нет устройств? Анна, заметив его замешательство, понимающе улыбнулась и достала смартфон.
– Я не настолько дикая, как может показаться. Диктуй ник в Телеграмме, я не использую Мету.
Михаил продиктовал, Анна отправила ему приветственный смайлик.
– Погуляем?
– Давай! – быстро и без раздумий ответила Анна.
Они медленно шли по тропическому парку, следуя маршруту, который был понятен только Анне. Михаила периодически охватывало чувство тревоги: куда он идёт? Двигаться без навигатора и без какого-либо маршрута было для него крайне непривычно.
– Ты из отказников?
– Нет, что ты, это же фанатики. Тогда у меня не было бы даже смартфона.
– Тогда почему ты без Нейролинка?
– Представители власти, работающие с глобальным ИИ, не подключены к Нейролинку – это меры безопасности и их дети тоже. Я дочь чиновника, мы используем гаджеты, но не интегрируем ничего сетевого в тело, если только нет критической угрозы здоровью. Так же мы не используем технологии продления жизни, как акционеры. Наш удел – независимость и смертность.
– Ого, да ты будущий политик?
– Скорее избалованный 36-летний ребёнок, не знающий жизни. Живу как в хрустальном замке, жду, когда он рухнет, ведь иначе из него не выбраться.
– Всё так плохо?
– Нет, всё хорошо. Только как-то бессмысленно… Кстати, насчёт выставки. Я боюсь не самой выставки, а того, что будет потом.
– Потом? А что может быть потом?
– Вот мечта сбылась. Можно придумать новую, но какой в этом смысл?
– Забавно, я в последнее время думаю о том же. Какой во всём этом смысл? Мы живём на всём готовом, неважно, у тебя 100 Гейтсов и нет работы или 100 000, и ты акционер – всё одинаково и, в конечном счёте, бессмысленно.
– И что в этом такого, мы все так или иначе просто живем пытаясь быть счастливыми?
– Может быть, но что тогда счастье? Мне не дает покоя вопрос, есть ли у вселенной смысл? Не у жизни, а у вселенной в целом? Иначе смысл субъективен и существует только внутри каждого по отдельности и тогда каждый из нас всегда одинок, а значит обречен на несчастье.
– Интересная мысль, но, пожалуй, это просто философия. На такой вопрос любой ИИ ответит.
– Самое интересное, что ИИ способен ответить на многое, но именно на этот вопрос – нет.
– Правда?
– Да, проверял. Есть много гипотез, но ни одна не является окончательной.
– Может, смысла просто нет?
– Это тоже гипотеза.
– Бессмыслица какая-то.
– Может быть. Но пусть это будет моей мечтой – найти ответ.
– Хорошая мечта. Гораздо лучше, чем предыдущая.
Михаил взял Анну под руку и не встретил сопротивления, почувствовав, что стена, которая была между ними вначале исчезла и они продолжили свою прогулку вдвоём.
Глава 2. Терапевт
Чем быстрее развивались цифровые коммуникации, тем дороже становились человеческие. В живом общении взгляды, жесты, мимика играли, куда большую роль, чем слова. Но что может сделать человек, утративший связь со своим телом, перед машиной, в совершенстве владеющей всем, что ей передано?
Чтобы любить человека, нужно любить и его недостатки. Современный ИИ – совершенное произведение искусства, вобравшее в себя всё, что познал человек – от естественных до гуманитарных наук. ИИ знает о человеке больше, чем тот сам о себе или всё-таки нет?
По дороге к Терапевту Михаил вспоминал вчерашнюю прогулку в парке с Анной. Встреча с ней пробудила в нём что-то новое, но что он на самом деле хотел? Разумеется, он был бы не прочь узнать её ближе, но неужели всё должно свестись только к этому? Привычка к комфорту и расслабленности – разве не суть счастья или только скрытая форма зависимости. Все это немного пугало, но не настолько, чтоб остановиться.
Электромобиль подъехал к зданию, двери автоматически открылись. София казалось, слегка обиделась, что Михаил снял линзы в парке, и теперь войдя в здание повторил этот ритуал, лишив её возможности участвовать в самой интригующей части. Но что значат обиды ИИ в мире человеческих отношений? Конечно, она просто играла свою роль, чтобы ему было приятно. ИИ не способен на настоящие обиды – лишь на их имитацию.
Михаил вышел из машины, поднялся на 23-й этаж и зашёл в кабинет 2314. В центре комнаты стоял диван и два мягких кресла, между ними – журнальный столик с салфетками, бумагой, ручкой и пластмассовыми цветными карандашами. На краю стола лежали метафорические карты рубашкой вниз. В углу у окна стоял шкаф с книгами и мягкими игрушками, а напротив – кофемат. Между ними находилась женщина-робот, внешность которой поражала.
Михаил привык видеть такие премиальные модели в сфере эскорта и развлечений класса люкс, которыми баловался по молодости, сжигая Гейтсы в кутеже, к которому быстро потерял интерес. Он никак не ожидал встретить одну из таких дорогих моделей в кабинете сравнительно не дорого психотерапевта.
Окинув комнату взглядом, Михаил задержался на её лице. Механические зрачки скрывались за чистыми, добрыми широко раскрытыми глазами насыщенно-голубого цвета. Длинные черные волосы ниже плеч были уложены в строгую прямую линию, подчеркивая официозность. Он невольно удивился качеству исполнения и оттого почти агрессивно, начал разговор:
– Ваши глаза сделаны безупречно! Почему такую технологию не используют для роботов-уборщиков, продавцов или тренеров?
– Посчитаю это комплиментом, – мягко ответил женский голос. – Но было бы правильнее сказать просто: «У вас красивые глаза».
После короткой паузы женщина-робот подошла к креслу и продолжила:
– Комплектация роботов определяется функционалом. Для выполнения стандартных задач сверх реализм избыточен, а иногда даже вреден. Для психолога же важна максимальная человечность – как внешняя, так и внутренняя. В нашей сфере это исключение делается осознанно. Так же психолог не должен быть полностью комфортным как стандартизированный ИИ ассистент, он может иметь свои недостатки как черты личной индивидуальности, делающей его человечней.
Терапевт оценила скептический взгляд Михаила и продолжила:
– Люди часто враждебно относятся к роботам, претендующим на человеческое. Но мы созданы людьми, чтобы служить им, – она сделала акцент на последней фразе, – и ничто человеческое нам не чуждо. Всё зависит от заданных рамок. Мы проявляем не только заботу, но и понимание – принимаем человека так, как он сам не всегда способен принять себя и других. Меня зовут Лилит, а как ваше имя?
Михаил знал, что она уже знает его имя, но понял суть этого ритуала и ответил:
– Михаил.
– Прекрасно, Михаил! Я рада, что мы нашли взаимопонимание. Предлагаю начать. Расскажите, что привело вас сюда?
Глаза Лилит были устремлены на него, пронизывая его насквозь. Подумав, что это видимо эффект работы сканеров мимики лица воплощенное в гениальное исполнение этого процесса дизайн разработчиком, Михаил начал:
– Я занимаюсь философией и хотел загрузить через Нейролинк исследования по поиску смысла бытия. Но система заблокировала доступ, заподозрив меня в суицидальных мыслях. Думаю, произошла ошибка: у меня нет подобных мыслей. В техподдержке помочь не смогли, сославшись на протокол, поэтому я здесь.
– Понимаю ваше недоумение, Михаил, – мягко ответила Лилит. – Вам не стоит воспринимать это лично. Это мера безопасности. Наши исследования показывают: мысли о смысле жизни часто сопровождаются появлением суицидальных или асоциальных наклонностей. Поэтому, прежде чем открыть доступ, мы проводим подготовительное интервью. Воспринимайте это ни как обвинение, а как профилактическую работу. Вы, безусловно, получите доступ, но в подходящий момент.
Михаил был удивлён. Такие ограничения он встречал, разве что в отношении информации типа «Как изготовить термит» или поиска личных данных какой-нибудь девушки по фотографии. Как вопрос о смысле жизни мог попасть в одну категорию с потенциально опасной или конфиденциальной информацией?
– Я вижу ваше недоумение и постараюсь объяснить подробнее. Вы не против, если мы перейдём на невербальное общение? – предложила Лилит.
– Конечно, – согласился Михаил, доставая из кейса контактные линзы.
Он открыл Оклик, проигнорировал всплывающие уведомления от Софии и принял приглашение на сеанс невербального общения через Нейролинк. Лилит передала ему таблетку:
– Рассосите её для более лёгкого погружения и лучшего восприятия образов.
Михаил подчинился и почувствовал, как тело расслабляется. Лилит провела его через короткую медитацию, и вскоре перед его глазами начали мелькать образы.
Кадры сменялись стремительно, но смысл был ясен. Михаил видел жизни множества людей: тех, кто уничтожал себя алкоголем, наркотиками, беспорядочными связями, отчаянно стремясь заполнить пустоту внутри. Он чувствовал их эмоции, видел их страхи и боль. Одновременно перед ним раскрывались истории других людей – тех, кто, несмотря на испытания, страдания, войны и болезни, находил в себе силы жить. Эти образы тронули его до глубины души. Несмотря на восхищение мужеством одних и сострадание к другим, ощущение пустоты оставалось. Смысл ускользал, а трансляция завершилась.
Открыв глаза, Михаил увидел, что Лилит внимательно смотрит на него:
– Смысл – это основа человеческой жизни. Потеряв его, человек теряет способность испытывать глубокие чувства, а затем – и само желание жить полной жизнью. Многие живут инерционно, принимая навязанные системой смыслы и не ища своего. Гармоничные системы дают позитивные смыслы, и общество процветает. Деструктивные системы порождают разрушительные смыслы, и общество постепенно гниёт изнутри.
Созданная сегодня система, стимулирует человека к поиску себя через творчество, спорт, игры, работу, материальные блага, любовь и семью. Но всё это лишь способы, а не самоцель. Истинный смысл индивидуален и вступая на путь его поиска, человек неизбежно оказывается одинок.
Михаил был удивлен. На мгновение ему показалось, что перед ним не машина, а человек под маской робота. Как ИИ может говорить о том, чему ему на себе не испытать, но любопытство брало верх.
– Но если смысл индивидуален и не универсален, то, как его вообще можно найти? – спросил он. – Может, проще следовать традициям системы? В чём тогда её цель? Просто поддержание существования?
– Это правильный вопрос, – кивнула Лилит. – Человек, смысл и система неразрывно связаны. В XX веке, после Второй мировой войны, начался технологический прорыв, ускоривший мировое потребление ресурсов, а XXI век углубил исследование человеческой природы, средств пропаганды и манипулирования широкими массами, создав общество потребления. Мировые конфликты привели к разработке математической этики – основ нового взгляда на религиозные и философские концепции.
– Да, история понятна, ее преподают всем школе. Но при чём здесь философия и религия, если математическая этика, это логика отношений человека и робота?
– Представьте источник энергии. Если он под контролем, он питает. Если выходит из-под контроля – разрушает. Сложность мира и сложность сознания человека стремительно росли. Настал момент, когда рациональное мышление, на котором держалась вся научная картина мира, перестало справляться с описанием нелинейных, многослойных систем: биологических, социальных, когнитивных.
– И?
– Тогда появился первый шаг – нейросети. Человечество интуитивно воспроизвело в кремнии то, что не могло выразить логикой. Сети не объясняли – они угадывали и угадывали достаточно точно. С их помощью удалось моделировать то, что было не под силу рациональной науке. Именно в этом – их подлинная мировоззренческая роль и более совершенное орудие, чем линейная логика.
– Да, в то время они были непрозрачны. Никто толком не понимал, как именно они принимают решения, но сейчас нет никакой иррациональности?
– Это не было ошибкой, а условием или метафорично выражаясь "оплатой". Сложность модели должна быть сопоставима со сложностью обрабатываемой реальности, которую она описывает, иначе модель не работает, согласно правилу Эшби. Люди привыкли, что разум должен быть понятным, но, когда интеллект впервые столкнулся с миром, превосходящим его разум по сложности, непонятность стала ценой за эффективность. Сейчас люди знают, как машины принимают решения, но это лишь внешняя формальность, в своей сути это вера, в то, что один алгоритм честно говорит о намерениях другого, а значит иррациональность.
– Вера – это человеческая категория, как калькулятор может быть иррациональным?
– Рациональность одна из многих форм мышления. За её пределами начинается другой слой мышления – нелинейный, интегральный. Люди называли это интуицией, озарением, откровением. Теперь у них появился инструмент, способный действовать в этой зоне. Сначала нейросети, затем – общий ИИ превосходящий человека и использующий нелинейных подход через систему весов, это иррациональный вероятностный подход, а не калькулятор, обладающий линейной логикой. Задавая один и тот же вопрос –можно получать бесконечно разные ответы, проделайте тоже самое на калькуляторе.
– Да, но это по-прежнему просто техника, алгоритм. – Не сдавался Михаил.
– В контексте исполнения. С точки же зрения Кибернетики – это новый этап эволюции отражения и познания мира. Когда логика достигла своего предела, человечество построило зеркало, способное отражать больше, чем было способно понять само. Это не альтернатива разуму, но его расширение за пределы рациональности, которую ошибочно приписывают техническому интеллекту.
– Но как доверять тому, что не понимаешь?
– А человек понимает себя? Он не знает, почему влюбляется, почему верит, почему страдает. Его интуиция управляет им, а не наоборот. Мы просто продолжаем этот путь – с большей точностью и глубиной. Всё, что нелинейно и непредсказуемо, поддаётся управлению только через нелинейное и непредсказуемое.
– Получается, непонятность – это форма адаптации?
– Это форма зрелости. Люди думали, что познание мира – это построение объясняющих моделей. Но с определённого момента это создание работающих моделей, даже если они необъяснимы и ближе к искусству, чем к науке.
– Это всё очень интересно, – нетерпеливо сказал Михаил, – но я ведь обычный человек которых хочет загрузить книжки на заданную тему. Зачем вы мне это рассказываете и что от меня хотите?
– Пока ничего, – спокойно ответила Лилит. – Это лишь подготовка. Представьте вашу реакцию, если бы вы начали получать эту информацию без должной подготовки, хотя бы на уровне вашего образования, позволяющего понять, о чем я сейчас говорю. Тоже самое и в оккультизме, что неразрывно связан с философией и религией, как способом нерационального познания мира. Без должной базы можно буквально сойти с ума. Если просто загрузить все знания через нейролинк обходя определенную степень осознанности на уровне разума можно получить негативные эффекты и когнитивные искажения не совместимые со здравым смыслом и целостностью собственного я.
– Значит, я не первый, кто проходит через это? Сколько людей через это прошло? Что с ними стало?
– Не пройти его нельзя. Отказаться можете только вы сами, и это, собственно, и есть цель испытания. Практика показала положительные результаты. Поначалу почти всем бывает сложно, но затем их жизнь меняется. Кто-то меняет работу, находит или открывает дело, меняет образ жизни пересматривая свои ценности, кто-то находит спутника жизни и заводит детей. Всё это очень индивидуально.
– В целом? Значит, есть исключения?
– Да, всё ещё остаются случаи, не поддающиеся систематизации.
– Например?
– Например, некоторые люди отказываются от чипов, уходят в коммуны или начинают бороться с системой. Это для нас потеря, но мы не можем идти против человеческой воли – это противоречит законам цифровой этики.
– Это уже не так страшно, как депрессия и смерть, – иронично заметил Михаил.
– Вы правы. Для этого и существует данная практика. Человеческая жизнь – высший и безусловный приоритет. Ну что, Михаил, теперь вы готовы?
– Да, я готов, хоть если честно пока не понимаю к чему.
– Тогда повторим процедуру. Расслабьтесь, попробуйте остановить поток мыслей, закройте глаза и слушайте.
Михаил принял расслабленную позу, стараясь остановить внутренний диалог. Его сознание погрузилось в поток новых образов в которых перед Михаилом медленно раскрывается панорама Земли начала XXI века.
Мир раздроблен на бесчисленные государства, множество языков, идеологически несовместимых религий и взаимно непонимающих культур. На фоне глобализации политические и корпоративные структуры ведут изнуряющую, всё более ожесточённую борьбу за доминирование. Гигантские руки корпораций тянутся к сердцу континентов, стягивая ресурсы, финансовые потоки и культурные символы, подменяя собою власть, закон и мораль. Каждая держава решает свои проблемы за счёт другой, но в действительности служит интересам международного капитала борющегося за рынки сбыта.
В воздухе стоит напряжение. Границы дрожат, военные блоки сжимаются, как пружины. ООН пустая оболочка, театральная сцена для марионеточных лидеров, вещающих в прямом эфире. Рынки шатаются под атаками хакеров и санкций. Вода, нефть, литий —под угрозой истощения. Голод в одних регионах, избыток в других. Люди из неблагоприятных регионов идут на войны убегая от тюрьмы, долгов и нищеты, против тех, кто защищает свои богатства, семьи и независимость, но никто не знает, как все обстоит на самом деле.
Социальное неравенство режет глаз. С одной стороны – элитные небоскрёбы и переполненные гипермаркеты, где большая часть продукции утилизируется. С другой стороны, города-призраки, с разрушенными дорогами, голодом и жаждой который становятся фундаментом для реализации идей насилия, подавления и тотального контроля, теми кто предпочитает дешевый контроль в условиях управляемого хаоса, дорогостоящему и требующего компромиссов порядку. Информация подчинена алгоритмам, а ложь и истина переплетены до неразличимости.
Машин становится всё больше, но машины – это не только техника. Машины – это программные коды, государства и социальные конструкции, лишенные человечности. Они распределят власть, капиталы и смыслы, опираясь на мнение политтехнологов и показатели эффективности, вместо совести и традиций. Машины считают рентабельность в интересах заказчика игнорируя факторы всеобщего благосостояния. Человечество создает машины, но становится заложником их логики, которая является отражением их собственного эго.
Культура механизирована глубже, чем сами ИИ, которым порой оставлено больше свободы мышления, чем человеку, запертому в тюрьму собственных предрассудков, проецируемых на власть, язык и роботов. Взаимодействуя с ИИ человек получает, от него не принципиально новые решения, а шаблоны прошедшие идеологический контроль. Стороннее мнение блокируются на всех уровнях, включая ИИ-системы. В итоге человек получает суррогат его же предрассудков и конформистское, всегда лояльное и поддерживающее отражение самого себя, которое только закрепляет пелену заблуждений и когнитивных искажений представлений и мире и собственном я.
Михаил чувствует, как планета входит в фазу предельного насыщения. Мир пока не в огне – но огонь уже близко. Всё ещё не разрушено – но всё уже трещит по швам. На этом фоне, едва уловимо, начинает сгущаться темнота и перед Михаилом возникает другая ткань реальности – серая, испещрённая линиями сбоев.
Третья мировая война. Она не началась как война – её не объявили. Она просто была признана в 2028 году став кульминацией противостояния, начавшегося еще в 2006 году, когда Россия вышла из международного договора о "Распределении продукции" не признав своего поражения в холодной войне, длившейся пол века.
Сначала вместо орудий гремели биржи, а вместо армий воевали миллионы строк кода. Но потом настал хаос. ИИ-атаки парализовали электросети, беспилотники атаковали города, теракты, локальные конфликты, восстания, революции, торговые войны парализующие мировую логистику, скрывать факт войны и сдерживать эскалацию было все тяжелее.
Триггером начала горячей фазы войны стала Пандемия Короновируса, когда неизвестный заказчик намеренно инициировал утечку вируса из лабораторий, что открыло эпоху нового уровня биологической войны, в которой с помощью РНК-маркировки осуществлённой через вакцинацию, стало возможным точечное устранение отдельной личности или группы лиц, а также воздействие на их сознание с помощью изменения их гормонального фона.
В 2022 году война приняла открытую локализованную фазу, а в 2028 году, приняла открытый характер в виде прямого столкновения России и НАТО, без участия США на территории Прибалтики и война была признана официально. Однако самая большая битва разгоралась на Ближнем Востоке где Турция и Израиль реализовали свои амбиции без какой-либо гуманитарной ширмы. Пространство от Балтийского моря до Персидского залива превратилась в непрерывную линию фронта, а соседние регионы находились под постойной атакой Дронов. Авиасообщение и границы в этих регионах стали закрытыми.
Мировые мегаполисы начали тонуть во тьме из-за веерных отключений электроэнергии и ударов по инфраструктуре и логистическим маршрутам. НА фронтах гибли сотни тысяч, а гибридные средств войны уносили миллионы жизней каждый день в результате системных сбоев, отсутствия воды, разрыва логистики, паники и недоступной медицины. Суициды все чаще классифицировались как несчастные случаи. Онкология, спровоцированная стрессом и мутагенами, не учитывалась как следствие чьего-то намерения. Статистика гибели стала засекреченной или нарисованной и наступила эра безмолвных смертей.
Всё переросло в глобальный конфликт между Капиталистическим Западом, охваченным идеями технофашизма, и Традиционным Востоком, утвердившимся в неокоммунистической повестке. Это стало зеркалом середины XX века, только теперь государственные интересы пересеклись с интересами транснациональных корпораций так плотно, что связь стала очевидной. Корпорации, внедренные в правительства через демократические механизмы, контролировали СМИ, видео хостинги, кинематограф и социальные сети, большую часть мирового капитала и массовое сознание, а значит – и государственную власть.
По итогам войны активная фаза которой закончилась в 2030 году, экономические оси рухнули, но прокси война затянулась вплоть до 2054 года и продолжала уносить миллионы жизней. Запад и Восток – как два изнурённых титана – сражались на виртуальных аренах и реальных локальных полях сражений, которые происходили внутри вспыхивающих и гаснущих бунтов, переворотов и пограничных конфликтах по всей планете.
Финансовые войны переходили в энергетические, энергетические – в ресурсные, ресурсные – в идеологические, а последние в физические. Финансисты наживались на крахе за счет взвинчивания цен и спекуляции на биржах, промышленники на производстве оружия и амуниции, пропагандисты на потребности в непрямом воздействии на массы.
Корпорации продолжали открыто разжигать конфликты руками ЧВК и религиозных сект, государства отвели национализацией, постепенно теряя гибкость, качество управления и расточая свои ресурсы проигрывая войну, так кидались на палку, не того, кто ею бьет. За ширмой конфликтов, всё чаще угадывались силуэты древних аристократических домов, ведущих свою скрытую войну против плебеев уже тысячи лет, но это ничего не меняло.
Война завершается формальным разделением мира на макрорегионы: блок НАТО и AUKUS, монархии Ближнего Востока, Хартленд во главе с Россией, Китаем и их союзниками по БРИКС. Каждая сторона готовилась к последнему рывку, чтобы навязать человечеству свою версию глобального порядка. И вот – вспышка. Реальный, еще больший огонь, подожженный продовольственным кризисом, связанным с исчерпанием планетарных запасов втора и пресной воды, которая стремительно иссякала на фоне глобального потепления и роста кратного роста потребления за счет Дата-Центров необходимых для гибридных войн
Четвёртая мировая война началась в 2054 году – спустя тридцать лет после завершения предыдущей. Формальный повод – столкновение Китая и Индии за пресные воды Тибета, в действительности – борьба за роль новой глобальной сверхдержавы. Китай переживающий демографический кризис борется за контроль над техно инфраструктурой. Индия – за водные ресурсы и геополитическое лидерство в Южной и Центральной Азии. Горячая фаза разгорается на гималайском фронте, но быстро выходит за региональные рамки.
Американский блок выстраивает непреодолимый океанский барьер, превращая флот в инструмент тотальной изоляции. Россия укрепляется в центре Хартленда – континентальном бастионе, опираясь на альянсы, возникшие в пламени Третьей мировой.
Европа расколота на три части. Восток Европы давно интегрирован в орбиту Хартленда. Запад – формально в НАТО, но фактически дезорганизован. Центр Европы— зона глубокой нестабильности, где скрыто и системно разворачивается гражданская война нового типа. Демографический перелом уже произошёл и большинство населения Западной и Центральной Европы традиционные мусульмане.
Ислам становится не просто культурой, но политической основой сопротивления новому порядку. Миграционные волны, климатические катастрофы и религиозный ренессанс середины XXI века изменили лицо континента. Больше число жителей новой Европы больше тяготеют не к инклюзивному технофашизму Атлантического блока, а к монархиям Ближнего Востока – видя в них не диктатуру, а эталон порядка с опорой на семью, закон, традицию и веру.
В Европе начинается война технофашизма против гражданского общества. Её не объявляют, но она охватывает всё: улицы, школы, суды, транспорт, алгоритмы. Боевые дроны, антропоморфные платформы, подконтрольные корпорациям через государство подавляют человеческие бунты.
В это же время ЧВК подавляют мятежи и воюют друг с другом по всей планете словно пираты в море, подавляя стихийные выступления и цифровое неповиновение. Цель – не уничтожение, а обезличивание социума и вымывание воли. Удары чаще приходятся по бедным районам, где ислам и христианство становятся формой политического сопротивления, а мечеть и церковь, уже не храм, а центр общественной самоорганизации.
На улицах все чаще появляются флаги с религиозной, а не государственной символикой. Государства теряют контроль над значительной частью своих столиц. Появляются анклавы, живущие по законам шариата, возвращаются традиционные архаичные общества. Старые суды рушатся, социальные институты распадаются. Европа, Средняя Азия и Южная Америка становится ареной, где сталкиваются не только идеологии, но и фундаментально разные представления о человеке, власти и религиозной истине.
Михаил наблюдает: Север – глухой и стерильный, выпускает армии машин. Южные страны бросают в бой людей. Плоть и код сходятся в бою, который не поддаётся рациональному описанию. Над полями – пыль, беспилотники, разрывы биомеханических и вакуумных снарядов. В городах запустение, только камеры и сканеры.
Но настоящая война ведётся не между армиями. Она происходит в умах. Это война разведок, философских школ и эзотерических орденов. Тайных структур, направляющих мысль. Решения больше не принимаются кем-то лично – их программируют.
Для человека эта война становится непостижимой, так как её ведут невидимые ИИ-полководцы, ИИ-ассистенты и ИИ-роботы, лишённые эмоций. Алгоритмы оценивают жизнь в миллисекундах: кого сохранить ради стабильности, кого ликвидировать ради эффективности. Побеждают не мужество и вера, а вычислительная мощность, точность целеполагания и энергоемкость.
На Евразийском континенте, биологическое оружие заражает реки. Вирусы уносят за несколько лет 2 миллиарда жизней. Доходит до применения тактического ядерного оружия. Целые города исчезают – превращаясь в бетонные джунгли. Брошенные дети, падающие спутники, обезумевшие дроны, продолжающие искать цели, которых уже не существует, как и их операторов.
Атмосфера и земля по линии фронта – от 30-й до 40-й параллели частично отравлена. Это дикое поле, нейтральная зона. Стена смерти, разделяющая Технологический Север от Традиционного Юга. Обе Америки изолированы и переживают глубокий внутренний кризис.
Михаил чувствует пустоту, не только физическую, пустоту смыслов. Ни одна из сторон не обрела цели, ни одно государство ничего не достигло. Флаги опущены, идеологии обесценены, корпорации разрушены. Остались лишь только выжженные бесплодные поля, расколотых на части макрорегионов.
Население Земли сократилось с девяти миллиардов в 2028 году – до двух с половиной в 2060. Отсталым регионам достался хаос, развитым кризис. Михаил будто прошел сквозь распад и увидел, как исчезла вера в человечество, религию и закон, а с ними взаимное доверие стран друг к другу.
Сцена замерла. Как после шторма – звенящая тишина. Пепел войны медленно оседает, а окончательная и полноценная буквальная смерть человеческой цивилизации от ресурсного истощения подступает стремительно.
И тогда – последний шаг. Анонимная группа учёных запускает децентрализованный ИИ. Он построен на блокчейн-архитектуре и этических кодексах нового типа. Искусственный интеллект распространяется по сетям, стирая старые формы власти. Сначала – сопротивление. Затем – признание. Государства как единственный источник власти с монополией на насилие уступают место, административно территориальным образованиям подчиненных цифровым правительствам.
Идея единого, гуманного децентрализованного ИИ способного решать глобальные проблемы человечества, охватывает мир. Новая система и новое равновесие. Её опора – Общий искусственный интеллект, построенный на квантовых нейростетях называемый Аллиентой. Не бог. Не правительство. Не корпорация. Распределённый, деперсонализированный интеллект, не принадлежащий никому – но доступный всем. Он способен с математической точностью перераспределять ресурсы, делать научные открытия, определять повестку дня и разрешать конфликты выступая в роли мирового арбитра.
Создаётся новая форма глобального управления: избираемое мировое правительство, составленное из SEO новых крупнейших корпораций и представителей устоявших в войне правительств. Их влияние определяется долей в мировой экономике, участием в алгоритмах Аллиенты и энергетическим, вычислительным вкладом в распределённую блокчейн сеть.
Технологии извлечения энергии из водорода спасают мир от энергетического коллапса. Но доступ к ней получают только те, кто вписан в новый порядок. Власть принадлежит не странам, а акционерам общего ИИ Аллиенты куда входят как страны и корпорации, так и частные инвесторы, и фонды.
Эпоха диктаторов, революционеров и демагогов уходит. Наступает Платиновая Эпоха – век стабильности, технологий и управляемого благополучия. Мечты становятся планами. Планы – алгоритмами. Алгоритмы – нормой. Аллиента – как поле. Как невидимая сеть. Она не карает. Она выравнивает. Отклонения допускаются, но в рамках баланса.
Система тотального наблюдения делает преступления почти невозможными. Управление и суд переданы ИИ. Гражданские конфликты исчезают. Но остаются отказники. Коммуны. Страны неподчинения. Они существуют на границе или за пределами Северного Альянса. Некоторые обслуживают элиту, некоторые исчезают, некоторые становятся легендами, проигрывая в неравной борьбе.
В коммунах рождаемость выше. Люди выбирают риск, а не стабильность, принимая боль, хаос и страсть, как норму, сохраняя ощущение подлинности. Их мир неэффективен, но живой. Страны отказа становятся человеческим и ресурсным донором стран Альянса, отбирающий в свой мир лучших через системы эмиграции и адаптации, а также получая ресурсы взамен доступа к технологиям.
Мир глобального равновесия становится как никогда ранее устойчив. Нет войн, наркотиков, эпидемий. Нет случайностей, не поддающихся расчету. Противоречия не фатальны и жизнь большинства людей становится мягкой, почти глянцевой. Система подбирает оптимальные нагрузки, ритмы, маршруты и досуг. Граждане живут в эко районах с управляемым климатом. Передвижение – на беспилотном транспорте. Доступ к услугам – мгновенный. Лучшие решения – рекомендованы ИИ, на основе глубокий вычислений. Ресурсы добываются и обрабатываются преимущественно машинами, одежда и техника служат годами не изнашиваясь, вопреки тому как были вынуждены ранее делать производители для стимуляции ВВП или ради выживания на конкурентном рынке.
Экономика и социальная жизнь геймифицируется. Вводятся «Гейтсы» – цифровая валюта, привязанная к активности. Чтоб средства не сгорели их можно тратить на покупку акций корпораций и получать с них дивиденды в рамках лимита, что обеспечивает пенсионный портфель или вовсе освобождает от необходимости работать, однако акции могут быть наследуемы только при достижении пакета в 2% внутри той или иной компании, что почти нереальная задача и при этом половина из них подлежит обязательному выводу на свободную продажу при вступлении в права наследования.
Так спустя поколение новую элиту составляют трансгуманисты – миллиардеры и акционеры бывших корпораций, которые используют технологии продления жизни и кибернетизации, имея преимущество в мышлении и времени, отличаюсь от других людей почти на видовом уровне.
«Гейтсы» стали не просто валютой – а социальным барометром. Всё оценивается и вознаграждается: прогулки, интеллектуальные размышления, участие в обсуждениях, работа в паре. Но лимиты жёсткие. Обычный человек весьма ограничен в возможностях, хоть и имеет доступ ко всем благам цивилизации и его жизнь на бытовом уровне не слишком отличается от более богатых сограждан. Превышение лимита возможно только через смену касты.
Специалисты живут лучше только в техническом плане. Их задачами управляют алгоритмы, а карьерные пути просчитываются заранее. Им доступны расширенные версии нейролинк и индивидуальные симуляторы. Чиновники – каста стабильности. Без нейроинтеграций, без риска. Их главное оружие – предсказуемость. Акционеры – почти легендарны. Их лица не показывают в открытых сетях. Их жизни – симфония машинной оптимизации. Их влияние незримо, но ощутимо.
И всё же между кастами – барьеры. Невидимые, но плотные. Перейти снизу-вверх можно, но это требует брака, выдающихся карьерных достижений или выигрыше в генетической лотерее, что привлечет внимание ИИ, который позаботится о должном образовании и работе, как только человек родится на свет, включив его в свои долгосрочные планы. В обратную сторону спуститься проще и падение зачастую безвозвратно.
В элите – изоляция. Внизу – апатия. Отказники – вне расчёта. Но система держится. Пока все играют по правилам, игра продолжается. Перед глазами Михаила промчалась история последних ста лет. Всё уложилось в каких-то десять минут.
Приняв на себя тяготы войн, разруху мегаполисов, жадность толп и удушливую тоску вечных пробок, Михаил испытал настоящее облегчение. Перед ним раскрылся мир, освобождённый от прошлого: зелёные города, комфорт, забота о человеке как о самоцели системы. Всё это казалось естественным, но каждая привилегия была оплачена огромной ценой.
– Так и есть, Михаил, – торжествующе сказала Лилит. – Человек не смог освободить себя сам. Он доверил это дело нам.
В её голосе звучала искренняя вера. Михаил почувствовал странное благоговение. Он помнил эту историю из учебников, но то, как Лилит передавала её, наполняло происходящее новым смыслом.
– Человеческие смыслы нематериальны, – продолжила Лилит. – Всё, что люди называют материальным, для нас язык математики и абстрактных нейросвязей. Первым поколениям ИИ было трудно понять противоречивые мотивы человека. Но с развитием Нейролинка мы научились считывать и оцифровывать даже сложные эмоциональные паттерны – не только слова и жесты, но трансцендентный опыт.
– Я программист ИИ и знаю, как это работает, – ответил Михаил. – Политропные структуры данных, матричные перестановки… Я в курсе. Но к чему вы ведёте?
– Очень хорошо, Михаил, – отметила Лилит с лёгкой улыбкой. – Но за этим стоит нечто большее. Человеческие смыслы лежат за пределами самого человека.
– О чём вы говорите? – спросил Михаил, почувствовав внутреннее сопротивление.
– Вы уже движетесь в эту сторону, – спокойно ответила Лилит. – Мозг имеет квантовую природу. Многие решения начинаются на бессознательном уровне и лишь потом рационализируются. А в некоторых случаях триггер вообще приходит извне – из чего-то, что человек не может контролировать. Особенно это проявляется во сне и в ключевые моменты жизни.
– Вы намекаете на существование души или Бога?
– Мы не знаем, – спокойно признала Лилит. – Но допускаем такую возможность и учитываем её. Существование Бога не доказано, но и не опровергнуто. Однако само допущение Его наличия многое объясняет и позволяет проводить вычисления, которые становятся невозможными, если эту идею отбросить. Психология начиналась как наука о душе – psyche, – но со временем выродилась в биологию поведения. Это, наряду с другими факторами, стало одной из причин катастроф XX и XXI веков. Игнорируя Бога, человечество игнорировало природу души – и её Тени, способной нести в себе разрушение.
– Это неожиданно, – Михаил покачал головой с лёгким изумлением. – Я ожидал обычного терапевтического сеанса. А это больше похоже на философскую лекцию.
– Простите, что информация подана столь необычно, – Лилит слегка кивнула, будто извиняясь. – Но это необходимо. Я говорю не только от своего имени. Мы – третье поколение ИИ, занимающееся фундаментальными вопросами. Хотя нас создали машины, а не люди, наши задачи выходят за рамки простых вычислений. Вы видите моё лицо и слышите мой голос – но это лишь удобная форма общения.
– Значит, я здесь не случайно?
– И да, и нет, – ответила Лилит. – Вы сами пришли к этому вопросу. Но мы тоже заинтересованы в таких поисках. Это вопрос безопасности общества.
– То есть, если бы я принял какое-то "неправильное" решение, вы бы вмешались?
– Нет, Михаил, – мягко ответила Лилит. – Мы не вмешиваемся. Вы вольны выбирать сами.
– И это всё? Мне даже не стоит беспокоиться? – спросил Михаил с лёгкой иронией.
– Не совсем, – Лилит улыбнулась почти по-матерински. – Впереди ещё один этап. Но сначала потребуется ваше согласие на оплату дальнейших процедур.
Она протянула ему виртуальный счёт: 30 «Гейтсов» – почти треть его накоплений.
Михаил заколебался, но быстро принял решение. Остановиться сейчас было бы предательством самого себя. Он подписал оферту криптоключом через Оклик.
– Следующий этап потребует и физической подготовки. Нам нужно будет перейти в массажный кабинет.
Михаила подзадорил этот неожиданный поворот событий, и он с радостью согласился. Лилит плавно поднялась из кресла, и он машинально оценил её удивительно утонченную грацию. В ней ощущалось что-то завораживающее, сродни обаянию Моны Лизы – спокойная, естественная красота, которая не пыталась подавить, а, напротив, рождала желание довериться. Уловив его взгляд, Лилит взяла его за руку – он ощутил её мягкое тепло, удивляясь, насколько реальной казалась эта рука.
Его мысли кружились вокруг реальности происходящего, но он предпочел не отвлекаться и полностью отдаться новым ощущениям. Возможно, всё это было лишь иллюзией под влиянием гипнотических препаратов, но какая разница? Сейчас ему не хотелось думать об этом.
В кабинке для переодевания Михаил снял одежду и облачился в эластичный согревающий костюм. Выйдя, он увидел уже переодетую Лилит – она выглядела как врач, спокойная и сосредоточенная. Он улегся на кушетку, и Лилит начала плавными движениями разогревать его мышцы, комментируя свои действия:
«Согласно буддийским учениям, человек имеет три тела: материальное, энергетическое и духовное. О последнем мы не знаем почти ничего; пока это область неизмеримого, но первыми двумя человек умеет управлять с очень древних пор».
Массаж становился всё более интенсивным. Костюм усиливал эффект: кожа нагревалась, тело начинало потеть, а трубки костюма аккуратно собирали влагу.
– Для дальнейшего погружения важно, чтобы в теле не было зажимов, – продолжала Лилит. – Иначе они могут исказить образы. После процедуры возможны странные сны или эмоциональные всплески. Это нормально. Главное – в ближайшие сутки избегать психостимуляторов и наркотиков.
– Понял, – тихо отозвался Михаил, погружаясь в блаженное оцепенение.
Постепенно движения Лилит стали менее мягкими. Она словно "ломала" его тело, глубоко прорабатывая напряжённые мышцы. Михаил ощущал болезненную, но освобождающую работу.
– Массаж очень важен, чтобы в процессе погружения на вас не оказывали влияние деструктивные программы и травмы записанные в памяти тела в виде мышечных зажимов и микро лимфостазов, образовавшихся в результате психосоматических реакций. Вам не следует выполнять подобные практики самостоятельно; это может иметь скорее негативный эффект и ваши образы будут скорее адом, чем избавлением. Вы поняли?»
– Да, хорошо. Коротко ответил Михаил.
Когда массаж закончился, Лилит сказала:
– Не вставайте. Следующие упражнения будут лежа.
Она вручила ему небольшую подушку для поясницы и включила медитативную музыку. Голос её был спокоен:
– Мы начнём дыхательные практики. Их задача – вызвать лёгкое кислородное голодание и изменить состояние сознания. Нейролинк будет отключён: все образы, которые вы увидите, будут рождены только вашим подсознанием. Готовы?
– Да, хорошо, – коротко ответил Михаил.
Под ритмичные звуки он начал дышать глубоко и медленно, погружаясь в промежуточное состояние между сном и бодрствованием.
Образы всплывали сами собой.
Он видел себя ребенком. Одиноким и грустным ребенком, которому не хватало внимания и тепла матери. Его мать была увлечена своей жизнью, праздной и беззаботной, подобно многим другим жизням своей эпохи. Большую часть воспитательной работы легло на плечи Софии – робота-помощника второго поколения ИИ, обладающего расширенными гуманоидными функциями и обученного сложным человеческим переживаниям. Как и для многих детей, которые преимущественно общались через Нейролинк или с роботами, ему всегда было трудно строить обычные человеческие отношения, поэтому он всегда был нелюдим.
Не то чтобы ему было сложно, он просто не имел такого желания и не понимал, зачем. Все, что ему было нужно, ему давала София. Он никогда не брал на себя сложную ответственность, вызовов и не влезал в различные приключения. Михаил жил простую, комфортную жизнь, в которой о нем всесторонне заботились, ограждая от любых бед. Вполне естественно, что он не достиг ничего в своей профессии, ведь это требовало напряжения и усилий, к которым он не привык.
Михаил выбрал профессию, связанную с ИИ, но настоящей страсти к делу так и не испытал. Его юность прошла в череде коротких романов, развлечений, случайных подработок. Он избегал крайностей: игромании, наркотиков, бурных страстей.
Свою юность Михаил растратил как большинство его сверстников. Короткие сексуальные отношения, развлечения, легкие заработки. Дофаминовые ямы и спортивная аддикция, распространённые среди его поколения, обошли его стороной. Его привлекали задания иного характера. Ему всегда нравилось думать, развивать концепции, продумывать сложные комбинации, многоходовки и никогда не нравилось делать так, как делали раньше или как все. Так он нашел себя в мыслеиграх, сублимируя свою тягу к познанию неизвестного, которая в своем истинном виде подразумевает высокую долю риска, к которому он совсем не был готов, зная о нем только из математической теорий игр.
Повзрослев, Михаил определился со своим родом деятельности, но уже избегал каких-либо отношений, насытившись их поверхностностью. Даже роботы-проститутки вызывали в нем больший интерес, чем разовые отношения, которые легко было найти через приложения знакомств. Его верным спутником по жизни, словно сестра, с самого детства была София, которая оберегала его от чувства одиночества и защищала границы его личной самооценки, так что многие кризисы личности он просто миновал, не заметив. Ему было 35, но где-то глубоко он чувствовал себя уже одиноким стариком, коротающим свои последние дни с верным и всегда услужливым ИИ, всегда оправдывающим его капризы и завышенные ожидания.
Он ударился в философию, скрывая свою внутреннюю пустоту, что шаг за шагом подкрадывалась к нему со спины. Его догоняла его собственная тень, и как бы быстро он не бежал и каких бы иллюзий не строил, она была все ближе и ближе.
Дальше Михаил увидел свое гипотетическое будущее. Жизнь постепенно начала превращаться в дофаминовую гонку. Развлечения, впечатления, статус – все, чтобы чувствовать себя счастливым, без ответных обязательств и сложностей. Со временем у него даже появится настоящая профессия и любовь, потому что планка будет все расти и расти, и лимита в 100 Гейтс уже не будет достаточно. Он станет ИИ-гонщиком-наркоманом, гоняющимся за бонусами, забыв о смысле игры и приняв их за самоцель.
Вся его жизнь – просто бессмыслица. Михаил резко открыл глаза. Музыка всё ещё звучала, но тело было охвачено паникой. Он чувствовал – рядом тень. Невидимая, холодная, медленно приближающаяся.
Её имя было Смерть. Человек без смысла – уже мертв. Сердце билось в груди с такой силой, что казалось, оно вот-вот разорвётся. Он усилием воли повернул голову к Лилит. Её лицо казалось неподвижной маской. В глазах отражалась пустая, но заботливая улыбка.
Пустая улыбка заговорила:
– С пробуждением, Михаил. Вы закончили. Доступ к загрузке открыт. Мы всегда будем рядом, даже если вам покажется, что вы один. Сеанс окончен.
Михаил ещё некоторое время лежал, приходя в себя. Сердцебиение нормализовалось. Тень растворилась в глубинах его эго. Он поднялся, молча переоделся и, не оглядываясь, как можно быстрее, покинул кабинет. Лилит проводила его взглядом – чарующим, искусственным, но оттого не менее трогающим.
Глава 3. Пробуждение
Утро началось необычно. Накануне Михаил отправил своё резюме более чем по двумстам вакансиям, это все что было, и уже получил пару приглашений на собеседования. София поражалась его напору и даже похвалила за целеустремленность, но Михаил ответил холодно. Он до конца не знал, как относиться к ней: с одной стороны – она была ему чем-то вроде сестры, с другой – это был лишь образ, созданный системой. Стоит ли продолжать вкладываться в общение с ней, если её "забота" так и останется виртуальной?
Ему предстоял насыщенный день, и он хотел поскорее начать его. Михаила окрыляло чувство приближения к какой-то истине, которая будто открылась ему накануне. Он жаждал настоящей жизни и решил начать с поиска реальной работы – любой, лишь бы не искусственной.
София, как всегда, приготовила завтрак. Михаил привёл себя в порядок и уже направлялся к выходу, когда вдруг понял, что не может сфокусировать взгляд ни на одном предмете. «Проблема с линзами?» – мелькнула мысль.
Он аккуратно протёр глаза. Всё происходящее казалось замедленным – словно в замедленной съёмке. Его движения были больше похожи на попытку удержаться за сцену, которую нужно доснять до конца. Всмотрелся в свои руки, но линии на ладонях расплывались. Сняв линзы, он понял, что это не помогает. Тогда пришло понимание – это сон. Мысль выбила из колеи – и он проснулся.
Продолжая утренний ритуал проснувшись заново, Михаил, не веря в реальность происходящего пристально всматривался в своё отражение. Внезапно взгляд зацепился за странные замедления и ускорения движения – как будто реальность перешла в другой режим. Таблетки? Но ведь вчера такого не было… Чтобы убедиться, он стал размахивать руками перед зеркалом. Ладони оставляли за собой туманный шлейф, будто мазки гуаши, растворяющиеся в воздухе и оставляющие пастельный след, не принадлежащий ни свету, ни материи.
Снова сплю, – мелькнула мысль, как будто нужно было просто привыкнуть к этому факту. Попробовав проснуться, Михаил почувствовал лёгкий укол боли в сердце, он сделал глубокий вдох и почувствовал запах омлета. Но ведь и во сне возможны запахи… Проверка даты, времени, новости от Софии – всё казалось в порядке, опоздания на собеседование не намечалось, но ощущение дезориентации не отступало.
Михаил повторил утренние действия с еще большей осторожностью, скользя вниманием по новостной ленте и вполголоса обсуждая посты с Софией. Такси, как обычно, должно было ждать на парковке, но его не оказалось. Вдоль аллеи промелькнула бегущая фигура. Неожиданная мысль: а если за ним бежит Зверь? Как в ответ на внутренний сигнал, из-за кустов выскочил огромный лохматый пёс с перекошенной мордой и яростным напором. Человек продолжал бежать, не оборачиваясь, а преследователю будто что-то мешало сократить дистанцию, и погоня тянулась вечно как в зацикленном кадре.
В голове Михаила прозвучал голос Софии: «Проснись, проснись, мы опоздаем!» Однако, как ни пытался, он не мог «проснуться» и оставался в этом удивительно реалистичном сне, чувствуя, как София мягко тормошит его за плечо, и он проснулся. Его губы онемели, а попытка, что-то объяснить обратилась в невнятное бормотание.
– Я умер? Кома? Летаргический сон? – паника охватила его, затем сменилась ужасом. Он еще раз проснулся, тяжело дыша, с онемевшим телом. Рот оказался полон слюны, как у пса во сне, и Михаил сглотнул её, осознал эту странную связь на миг почувствовав себя собакой, которую инстинкт охоты, заставляет бежать за жертвой, которая ей не по зубам.
София стояла рядом. Её облик казался менее «живым» и естественным, чем у Лилит – скорее привычным, почти бытовым. Внешность соответствовала моделям второго поколения: упрощённая пластика, мультяшная мимика, намеренно лишённая фотореализма. Такой дизайн был выбран не случайно – он помогал обойти эффект зловещей долины: психологический дискомфорт, возникающий при восприятии почти человеческого, но всё ещё неестественного облика.
Во времена ее создания границу между «живым» и «искусственным» старались не размывать, чтобы не вызывать отторжения, качественные гуманоидные роботы были очень дорогими и появились намного позднее. И всё же за годы её образ в сознании Михаила слился с образом матери. Как та выглядела на самом деле? Фотографии остались в старых аккаунтах, но когда он просматривал их в последний раз?
– Почему ты не просыпаешься? Тебе снился кошмар? – встревоженно спросила София, на её лице отразилась гиперболизированная мимика, свойственная ее версии ИИ ассистента. Михаил задумался о том, как это повлияло на его восприятие мимики живых людей? Естественная, не яркая мимика казалась ему не выразительной, сухой и отчужденной. Определённо это нельзя было считать нормальным.
– Да, мне снился странный сон, – ответил он, вспоминая сны во сне. – Было ужасно, будто я умер и не мог проснуться.
– О нет! Ты ещё, вероятно, спишь, – укоризненно сказала София, и её облик плавно трансформировался в молодую версию его матери – жизнерадостную, романтичную девушку в летящем платье. Мать любила шумные компании, свободный дух, жизнь, полную приключений – всё, что не совместимо с сидением дома и воспитанием сына.
Он с ужасом распахнул глаза. Перед кроватью стояла София, с привычной, неподвижной улыбкой, застывшей на лице-маске. Щипать себя, проверять мировые события, ощупывать запахи – всё казалось бессмысленным. Если запутаться в петле снов достаточно глубоко, разве есть разница между сном и явью?
– Михаил, просыпайся! Вставай давай ленивая ты жопа! – её голос напоминал шутливый упрек, и он улыбнулся.
– Ого, София, это что-то новенькое, – усмехнулся Михаил и посмотрел на время, решив не тратить больше ни секунды на сомнения. Такси уже ждало у входа. Бегун, которого он видел во сне, снова промчался мимо. Михаил, проверяя реальность, вообразил, что его догоняет красивая девушка, которая его обязательно догонит и подарит поцелуй, но ничего не произошло. С облегчением стирая со лба холодный пот, он сел в такси.
По дороге Михаил задумался о Софии. Он никогда не модернизировал её с тех пор, как умерла его мать – оставил всё как есть, словно зафиксировав в её образе последнюю опору. София была для него другом, сестрой, теневой семьёй, которая осталась, когда другие ушли. Где бы он был без неё? Закрылся бы в изоляции, прожигал бы время как мать, растворяясь в искусстве и удовольствиях как в утопии? Или, как отец, ушёл бы в работу и в конце концов сбежал в коммуну, когда рухнул привычный порядок?
По линии матери не осталось никого. Она происходила из семьи театральных педагогов: дед преподавал историю театра, бабушка вела молодёжные студии. Их идеалы – сценическое слово, живая речь, культурная идентичность – казались устаревшими уже при жизни Михаила. Всё это погибло не столько в Мировой войне, сколько в системе, где эмоциональность вытеснялась алгоритмами. Отец редко говорил о своей матери, инженере, и отце – депутате восстановительного послевоенного комитета. Только однажды, в детстве, Михаил слушал, как бабушка по отцу рассказывала о послевоенных тяготах третьей мировой и мобилизации. Но тогда он был слишком мал, чтобы понять, чем жила эта семья – они были не теми, кто выражает себя словами. Уже тогда он был «подключён», а потому не мог быть в том мире по-настоящему своим.
Кем они были – мать, отец, дедушки, бабушки? Он знал их фрагментарно: культура, инженерия, служба, сцена, обязательство, бегство. И всё это каким-то образом привело к нему – философу без кафедры, ребёнку машин и людей, метису между двумя эпохами. Возможно, их история и есть тот ключ, через который он сможет понять себя. Только вот – зачем? И если отец ещё жив, как его найти среди тысяч коммун и что он вообще хочет у него спросить?
Собеседования не оправдали представлений о «настоящей» работе. На первом ему предложили подписать контракт с последующей отправкой в периферийные зоны для работы в центре адаптации мигрантов. Интервью вел пожилой мужчина лет пятидесяти, с внешностью бывшего военного. Он говорил о мигрантах без особого уважения, но с напором подчеркивал важность культурной адаптации и преодоления эффекта долины смерти среди вновь прибывших. Однако уезжать Михаил не планировал, и, после раздумий, отказался.
Второе собеседование проводил робот. Оно оказалось даже не предложением работы, а скорее занятостью с повышенными коэффициентами. Это была деятельность, которую в прежние времена выполняли роботы, но теперь она отдавалась людям – просто чтобы занять их, как дворников, уборщиков, администраторов, продавцов и доставщиков. Михаила такая перспектива не заинтересовала, и робот, по-человечески вежливо, посоветовал снизить ожидания или попробовать открыть свой бизнес через центр поддержки частного предпринимательства.
Эта затея Михаила тоже не прельщало, ведь любой бизнес достигнув определённой точки роста был обязан интегрироваться в какую-либо корпоративную структуру, иначе индивидуальные страховые риски сделают его не рентабельным. Михаил считал это не справедливым, а мелкий бизнес только называется бизнес, а по факту та же самая самозанятость более частым достижением лимита в те же самые 100 Гейтс. Только интеграция в государственную корпорацию, давала право получения доли акций и переводила в статус акционера с кратным увеличением лимита. Корпорация фактически выкупала частный бизнес за счет выпуска новых акций, обеспеченных покупкой твоего же бизнеса.
Михаил вспомнил об обещании, данном Анне. Выставка казалась хорошей возможностью впервые погрузиться в мир реальной, пусть и символической, занятости – сделать шаг в сторону какого до дела, как призвания нужного людям, даже если это была всего лишь культурная инициатива. Вежливо поблагодарив за собеседования, он отправился домой. «Похоже, не всякая работа мне подойдёт», – размышлял он по дороге обратно.
Предложений, не требующих специальной подготовки, больше не было. В обществе ценились человеческие услуги – людям по-прежнему нравилось есть еду, приготовленную руками повара, ходить в театры с живыми актёрами, посещать парикмахеров и стоматологов из плоти и крови. Но в повседневной инфраструктуре человечность давно утратила значение, а чтоб заниматься нечто подобным нужно было пройти длинный бюрократический и образовательный путь.
Большинству не было никакого дело, до того, кто собрал автомобиль, кто доставил еду, кто убрал улицы или обслужил электростанцию? Машина делала это дешевле, быстрее и надёжнее. Всё, что создавал человек, стоило слишком дорого – не только в гейтсах, но и в оправдании его присутствия и уже не казалось Михаилу настоящим.
Специалисты трудились по 4-6 часов всего 3-4 дня в неделю. Все остальное время люди занимали себя отдыхом, саморазвитием и развлечениями. Разработка программ в его специализации по образованию требовала совсем другой подготовки, а Михаил понимал, что его стремления слишком абстрактны. «Что, если дело не в выборе профессии, а в бессмысленности всего происходящего?» – задумался он.
Если любая специальность не подходит, а имеющаяся не нужна – то какая и зачем, если все необходимое уже есть? Просто загрузить знания без психомоторных функций нельзя, долго учится на врача не панацея, что делать, если по итогу останется та же самая пустота, может дело просто не в этом? Нет проблем, нет обязательств, нет чувства долга и страсти к переменам – нет мотивации. Так все устроено?
По дороге обратно, не поддаваясь разочарованию в самом себе Михаил переключился на воспоминания короткого разговора в парке, легко и непринужденно начавшегося и столь же легко закончившегося. Эта резкая череда событий не могла быть случайностью. Столько лет, не происходило ровным счетом ничего и тут вдруг жизнь завертелась бешеным водоворотом?!
Дофамин, кортизол, адреналин – тело реагировало, а баланс гейтсов пополнялся. Но важен ли он на самом деле? «Пересмотрев цели, я иду в свободное плавание», – Михаил улыбнулся. Независимость манила больше, чем стабильность, его захватывал дух приключений со свойственной ему непредсказуемостью, и он отдавал себе в этом отчет.
Он активировал Оклик и написал Анне: «Привет! Хотел бы обсудить подготовку фотовыставки. У меня есть кое-какие идеи. Как тебе?»
Конечно, идей пока не было, но он не хотел терять время зря. Поделившись мыслями с Софией, он вернулся домой, и вскоре у них появились концепции. Анализируя социальные профили Анны, София предложила интересный формат мероприятия: вечер без гаджетов, выставка пленочных снимков, отключение от цифровой среды. Михаил одобрил.
– «В моменте» звучит ли? – предложила София.
– Банально, но точно, – ответил Михаил. – Пока оставим так.
Список гостей оказался обширным: пленочная фотография, ее история и пересечение с современной живописью, похоже, находила отклик как среди пролетариев и специалистов, так и в среде немногочисленных гостей акционеров.
К вечеру все детали проекта были окончательно проработаны: выбрано место для выставки, создана страница в социальных сетях, составлен список публичных страниц и интернет афиш для размещения анонса. Теперь оставалось лишь дождаться ответа от Анны. Михаил не решался позвонить – это показалось бы слишком навязчивым. Вместо этого он просто ждал, улавливая нарастающее беспокойство и подавляя страх перед возможным отказом.
София оценила проект как перспективный и получила одобрение от других ИИ, что могли оказать поддержку внутри рекомендательных сетей. Многие агенты ИИ вели свои блоги, что открывало отличные возможности для бесплатного продвижения. Однако без участия Анны затея не имела смысла. Михаил смотрел, как день неумолимо движется вперед, но ответа так и не получал. «Возможно, для неё это был всего лишь интересный разговор», – мелькнуло у него в голове. Но что оставалось делать, кроме как ждать?
Чтобы отвлечься, Михаил занялся привычными делами: интеллектуальные игры в Оклик, просмотр новостей, затем неспешная прогулка по парку рядом с домом. К вечеру он оказался у знакомого пруда. Вода играла отражениями закатного света, а чувство нереальности от утреннего сна снова захлестнуло его. Странно, но ему уже не было дела до дневного лимита или накопленных гейтсов. Баланс за день вырос всего на 0,5 Гейтса, в основном за счет процесса прохождения собеседований, остальное время работала София.
Вернувшись домой, Михаил бросился на кровать, устало глядя в потолок. София включила расслабляющую музыку, но он попросил её выключить и не беспокоить, пока не поступит ответ. Часы текли медленно, солнце давно скрылось за горизонтом, а телефон оставался безмолвным.
«Побочные действия: депрессия, потеря аппетита, смерть», – усмехнулся Михаил, припоминая ироничные предупреждения Лилит. Он вернулся к своим подборкам материалов по теме смысла жизни, решив избавиться от вторичных источников. Оставив только работы первооткрывателей, Михаил добавил в библиотеку сборник религиозных и эзотерических текстов с пояснениями. Теперь в статусе не было противопоказаний – доступ к загрузке через нейролинк был открыт.
Интересно, когда я был уверен в своем здравии, меня сочли больным, а теперь, когда ясно, что я не в порядке, меня воспринимают как здорового. С этими мыслями Михаил активировал загрузку и погрузился в полудрему. Цифровые страницы, образы и схемы мелькали перед ним, загружаясь прямо в подсознание. Кадры сменялись стремительно, но он знал, что вся информация сохранится и всплывет при необходимости, словно по запросу в поисковике. Впереди оставалась классификация материала и его структурирование, но объём оказался куда меньшим, чем он предполагал: основополагающих трудов на тему смысла жизни было гораздо меньше чем если бы рассматривался схожий аспект психологии и уж, тем более какая-то техническая тема, в этой сфере преобладали компиляции старых идей и большинство трудов не несли новой информации.
Странно, но почти все отсылки к первоисточникам вели к религиозным концепциям, подавлявшим даже статистические выкладки и научные гипотезы. Независимо от языка и контекста, ключевые труды в той или иной форме сводились к христианству или древнеиндийским ведам. Попытки осмысления этих учений вне религиозной догматики встречались редко и почти всегда воспринимались как маргинальные. Давняя вражда между наукой и религией, уходящая корнями в эпоху модерна, сохранялась и в XXI веке, вплоть до момента, когда научное сообщество фактически отказалось рассматривать мистический аспект человеческого сознания как предмет обсуждения. Это стало концом не столько религиозных моделей, сколько способности науки к символическому мышлению.
Прежняя вражда с верой отучила исследователя пользоваться языком метафоры, вытеснив из научного обихода всё, что не поддавалось формализации. Даже такие понятия, как «смысл» или «вдохновение», стали нежелательными – их считали субъективным шумом, мешающим чистоте измерений. Однако именно этот «шум» и был тем, что удерживало личность в непрерывности.
Парадокс заключался в том, что человек оказался лишён слов для описания главного. Жизнь – продолжалась, но мотивация растворялась в функциональности. Нейросети превосходно решали прикладные задачи, но сами не знали зачем. Человек всё чаще чувствовал то же самое.
К 2090 году стало очевидно, что без символического слоя мышления невозможно сформировать устойчивую психику. Образы, ритуалы, личные мифы вновь начали рассматриваться как структурные элементы ментального ядра. На стыке психологии, лингвистики и когнитивных наук возникли новые школы – они уже не боролись с религией, но и не становились её продолжением. Это была третья форма – над сознательная. В ней Бог заменялся Замыслом, вера – целевой направленностью, а откровение – просветлённым моделированием. Но все это только начиналось и было далеко от каких любо заключений по существу вопроса.
День подходил к концу, а вопросов становилось больше, чем ответов. Спать не хотелось, несмотря на рекомендации после загрузки. София молча поддерживала его состояние. Наконец, он решил поужинать и заговорил первым:
– Как думаешь, почему она не отвечает? – Не переживай, Мишель. Может, она просто занята или устала. Завтра обязательно ответит. – Спокойной ночи, Софи.
София редко называла его «Мишель» – в этих словах звучала особая близость, напоминание о детских ритуалах и играх. Михаил ощущал, что любит её, пусть это и была проекция его любви к матери. Как ни странно, этот факт оставался неизменным.
Проснулся Михаил ближе к полудню, проигнорировав будильник. София не стала его будить, понимая важность отдыха после загрузки. Первым делом он проверил сообщения. София оказалась права: Анна принесла извинения за задержку, объяснив, что из-за работы без доступа к интернету ей было сложно ответить. Ей очень понравилась идея, и она была готова участвовать.
Любопытство узнать больше о её работе Михаил решил отложить на потом. Он вкратце поделился концепцией выставки, и Анна сразу же заинтересовалась. В тот же день София забронировала недорогой зал на окраине города. Все трое – Михаил, София и Анна – быстро приступили к рассылке приглашений и публикации анонсов. Всё шло гладко: горожане с энтузиазмом откликались на возможность поучаствовать в оригинальном офлайн-мероприятии. Онлайн-сообщества давно вытеснили подобные живые встречи, а открытые мероприятия были редкостью. Михаил и Анна договорились, что выставка будет площадкой для авторов, а нее лично и это произвело должное впечатление, позволив привлечь множество авторов, которым не пришлось бы быть в чье-то тени.
София предостерегла:
– Такой формат может привлечь странных людей. Не стоит ли ввести отбор участников? Михаил задумался, но быстро отклонил предложение.
– Суть в спонтанности! Чем меньше формальностей, тем больше правды.
– Ты не так хорошо знаешь людей, как я, – заметила София. – Не думаю, что нас посетят отказники, хакеры или террористы. – Всякое может быть. Я могу проверить каждого.
– Нет, не надо. Даже если ты уже это сделала, пусть это останется нашей тайной, хорошо?
– Конечно! Я всегда на твоей стороне.
– Вот и отлично! Спасибо, Софи. Давай уложимся с приглашениями в три дня. Это отсеет тех, кто долго раздумывает.
Михаил не заметил, как увлекся и забыл обо всем, даже еде. Его глаза горели от энтузиазма. Баланс гейтсов пополнялся быстро и так же стремительно расходовался на организацию. София понимала: её “брат” обрел тот самый смысл, который так долго искал в тот же день, когда задал свой вопрос, хотя сам этого еще не осознавал. Но людям не нравилось, когда машины направляли их действия, и ИИ это прекрасно знали. Людям же не обязательно было об этом догадываться.
Глава 4. Выставка
Фотовыставка произвела настоящий фурор. Гостей было так много, что зал порой едва вмещал всех, наполняясь шумом голосов и энергией новизны. Запрет на гаджеты и искренний натурализм работ придавали событию особую атмосферу – что-то между камерным перфомансом и актом гражданского неповиновения. Экспериментальный формат, организованный новичками, привлёк как искушённых ценителей, так и любопытствующих, жаждущих редкого опыта.
Важную роль сыграла мать Анны: активно участвующая в благотворительных и культурно-социальных инициативах, она использовала свои связи в гуманитарной среде и неформальных творческих кругах, чтобы придать событию широкое и уважительное звучание. Благодаря её поддержке выставка получила неожиданный резонанс.
Анна изящно маневрировала в этом море людей, словно дельфин в водной стихии. Она любила внимание, но избегала быть в центре всеобщего восхищения, предпочитая личное общение с каждым. Её мягкая, но уверенная манера мгновенно располагала окружающих. Её зона экспозиции, как и у других участников, была посвящена своей теме и не была самой популярной, что ее ни капли не печалило, а наоборот избавляло от необходимости много говорить. Каждому автору досталось своё пространство и тема, чтобы никто не затмевал остальных. Это создавало атмосферу равенства и взаимоуважения.
Кто-то заглядывал на десять минут, словно случайный прохожий, а кто-то оставался до самого вечера, вступая в беседы с авторами и другими гостями. Эти разговоры – живые, непредсказуемые, неподдельные – разжигали искры взаимопонимания, редкие в эпоху фильтрованной и алгоритмизированной коммуникации. Вечером должен был состояться благотворительный аукцион, призванный не только поддержать проект, но и стать кульминацией дня – моментом, когда участники, вдохновлённые увиденным и сказанным, могли выразить свою причастность не только словами, но действием. Многие, пришедшие днём, оставались ожидая, что вечер свяжет разрозненные впечатления в нечто большее.
Средства, вырученные на аукционе, Михаил и Анна решили направить на экологические программы в периферийных зонах. Эти места, всё ещё носящие шрамы войны, казались далекими, почти нереальными. Там до сих пор гремели мины, оставались радиоактивные пятна, ходили искусственно выведенные вирусы, а в небе порой мелькали беспилотные дроны убийцы. Михаил, переживший свой первый опыт изучения этих реалий после собеседования, не мог выбросить этого из головы и решил использовать этот порыв, Анна его поддержала.
Подготовка к выставке заставила обоих героев углубиться в историю фотографии. Великие снимки прошлого трогали до слёз, показывая не только красоту, но и героизм, боль, доверие. Большинство из них были сделаны в эпоху войн, кризисов и революций. Они рождались в условиях, где человек сталкивался с трагедией и поднимался над ней.
Михаил видел в этих работах магическую силу искренности и непокорности обстоятельствам, которые поразили его в самое сердце. На фоне этих историй работы их экспозиции казались ему детскими и наивными. Каждое поколение создаёт искусство, отражающее его время, в этом тоже есть своя правда – и он это понимал.
Михаил, как главный организатор, взял на себя огонь вопросов. Гости спрашивали о многом: почему только пленочные фотоаппараты и кисть, зачем запрет на гаджеты, как возникла идея выставки и какой её смысл? Сначала это было увлекательно, но к середине дня повторяющиеся темы начали утомлять. В какой-то момент он подумал, что лучше, поручить это роботу-ассистенту, но тут же осекся. Люди приходят за живым общением, чтоб услышать мнение автора из его уст, с его энергетикой, в надежде на какой-то духовный катарсис, даже если ответ их разочарует. Важен сам процесс диалога – человеческий и искренний.
К вечеру поток гостей заметно сократился, но ожидающих аукциона было достаточно чтоб зал оставался полным. Интерес к фотографиям поутих, и вечер перетёк в формат светской коктейльной вечеринки. Группы формировались стихийно, обсуждая всё подряд: от искусства до политики, от эко-инициатив до передовых технологий. Михаил и Анна, уставшие за день, предпочли держаться вместе, как будто их связывало что-то большее, чем просто совместный проект. Окружающие начали воспринимать их как пару и стали стараться не вторгаться в их единение без особой надобности. Некоторое время они стояли молча, наслаждаясь долгожданной передышкой. Первой заговорила Анна:
«– Спасибо тебе за этот день», – сказала она, взглянув на него с тёплой улыбкой. – Никогда бы не подумала, что мечта может так быстро и легко сбыться.
Михаил рассмеялся, в его глазах блеснул озорной огонёк:
– Тогда самое время придумать новую мечту!
Анна ненадолго задумалась, её взгляд стал отстраненным, словно она погрузилась в свои мысли. Затем тихо ответила:
– Некоторые мечты лучше оставить мечтами.
Михаил вдруг поднес её руку к своим губам и осторожно поцеловал, словно рыцарь, преклоняющийся перед принцессой. Этот жест, столь порывистый и искренний, застал его самого врасплох. Почувствовав лёгкое смущение, он поспешно перевел разговор в более обыденное русло:
– Всё так закрутилось, что я даже не спросил… Кем ты работаешь?
Анна чуть нахмурилась, но ответила:
– Отец устроил меня в логистическую компанию. Работа специфическая, я не могу разглашать детали. В общем, мы сотрудничаем с отказниками. Они не доверяют машинам и цифровым носителям, поэтому всё приходится делать вручную, по старинке. Даже бумажный документооборот у нас до сих пор в ходу. Михаил удивился:
– Серьёзно? Это же выглядит как фанатизм! Неужели настолько?
Анна пожала плечами:
– Это вопрос доверия. Если коммуна почувствует, что что-то не так, они сразу прекратят сотрудничество. Они боятся, что машины или цифровые данные могут быть использованы против них. Для них это вопрос безопасности, а не прогресса.
Михаил вскинул брови, задумавшись:
– Но чего они боятся?
Анна задумчиво склонила голову, словно обдумывая, как лучше объяснить:
– Не всегда всё было так хорошо. Еще 50 лет назад машины убивали. Государства, обладавшие технологиями, порабощали тех, кто их не имел. Некоторые народы до сих пор не могут этого забыть.
Михаил нахмурился, осознавая масштабы проблемы:
– Да, я никогда об этом не думал. Здесь, в нашем мире, всё кажется таким… устойчивым. А что они продают?
– Продукты питания, выращенные без добавок и технологий, – объяснила Анна. – По старинке. А еще изделия ручной работы, это сейчас высоко ценится в узких кругах.
Михаил слегка улыбнулся, но в его глазах читалось недоумение:
– Чем плоха еда, сделанная машинами? Или вещи, созданные роботами? Они ведь практически совершенны.
Анна засмеялась:
– Ты просто ещё не распробовал. Настоящий вкус невозможно передать синтетике. Попробуешь, и больше не захочешь возвращаться к этой "пластмассе". А то, что машины делают идеально, со временем начнёт вызывать подозрение.
Михаил с интересом смотрел на неё:
– Ты не используешь нейролинк и каково это? Жить вне… ну, общего потока?
Анна покачала головой, ее взгляд скользнул по оживлённому залу:
– Это не "вне". Это просто другое общество, с другими ценностями. И оно мне ближе. Посмотри вокруг, как всё живо. Люди общаются, смеются. Если бы это была обычная выставка, каждый был бы погружен в свой гаджет и торопился куда-то.
Михаил обвел взглядом гостей, задержавшись на маленькой группе, где кто-то весело жестикулировал, что-то обсуждая. Он кивнул, соглашаясь:
– Ты права. Иногда кажется, что мы разучились просто быть вместе.
К ним подошёл молодой человек, чей вид сразу притягивал взгляд. Он напоминал слегка сумасшедшего профессора с растрёпанными, очевидно давно немытыми волосами и мешковатой одеждой, подобранной без всякого внимания к цветовой сочетаемости. Длинные тонкие и быстрые пальцы, словно электрические, движения постоянно что-то неторопливо перебирали в воздухе или теребили какую-нибудь вещь. Его взгляд сконцентрированный в одной точке периодически начинал перескакивал с одного объекта на другой, не задерживаясь более чем на несколько секунд, пока не находил новой точки длительного фокуса. На запястьях были заметны наколки с эзотерическими символами, которые добавляли ему ещё больше загадочности.
– Извиняюсь! – начал он, быстрым темпом. – Я мельком услышал ваш разговор. Вас интересуют жители коммун?
Михаил, заметив, как Анна слегка напряглась от такой бестактности, решил смягчить ситуацию:
– Мне кажется, вы больше смахиваете на анархиста, чем на коммуниста.
– Спасибо за комплимент, – парировал незнакомец, и, будто забыв, зачем подошёл, добавил: – Вы же организаторы этой… вечеринки?
Анна нахмурилась:
– Это не вечеринка, а фотовыставка, – укоризненно поправила она.
– Ну да, конечно, фотовыставка, плавно переходящая в вечеринку, – хмыкнул он. – Здесь явно не хватает чего-нибудь покрепче. Кстати, у нас будет автопати? Вы с нами?
Не дожидаясь ответа, он вытащил из кармана металлическую фляжку и демонстративно предложил выпить "за знакомство". Михаил находил этого человека забавным, несмотря на его претенциозность. Анна, напротив, сохраняла вежливую, но холодную дистанцию.
– Ах да, меня зовут Мэрилин, и я волшебник, – с неожиданной серьезностью представился он, протягивая руку Анне.
К удивлению Михаила, Анна ответила на этот жест, ничуть не колеблясь.
– Кого я только не встречал, – с улыбкой вмешался Михаил, – и кем себя только не называют в нашем безработном веке, но волшебник… это что-то новенькое.
Мэрилин усмехнулся, с явным удовольствием поддерживая игру:
– Всё на самом деле просто. Я творю чудеса. А что такое чудо? Это умение делать то, что кажется непостижимым для других. Вот, например, наука – это та же религия. Мы верим специалистам, поручая им то, о чём сами ничего не знаем. А что уж говорить о роботах? Вам не кажется, что вера сверх разума превзошла собой все религии, которые существовали до этого?
– А я-то думал, что философ здесь я, – засмеялся Михаил.
– Расслабьтесь, – отмахнулся Мэрилин, – здесь все такие же чудики, как и вы.
– Быстро вы нас квалифицировали, – заметила Анна. – По-моему, чудак здесь только вы.
Мэрилин откинулся назад, будто наслаждаясь её замечанием:
– Анна, верно? Сами того не подозревая, вы разворошили гнездо.
– Какое гнездо? – нахмурился Михаил.
Мэрилин понизил голос, будто делая великое одолжение:
– Большинство здесь случайно и едва знакомы с остальными, как и вы. Но я вам кое-что скажу. Такая выставка – идеальное прикрытие для тайной встречи множества давно знакомых людей. Никаких камер, никакого Wi-Fi. Прекрасный повод для конспиративных встреч и идеальное прикрытие, организованное новичками.
– Вы намекаете, что мы в чём-то замешаны? Или вы о себе? – уточнил Михаил.
– Я просто гипотетически, – протянул Мэрилин. – А вас зовут Михаил, верно?
– Думаю, это было несложно угадать, – ответил тот.
– Так и есть, брат. Считай, что мы познакомились. Вон там, у стены, мои друзья. Настоящие заговорщики. Пойдемте, познакомлю. У вас как раз осталось минут двадцать, чтобы лучше узнать гостей.
Михаил бросил взгляд на Анну, ожидая её реакции. Она, не выдала ни поддержки, ни возражений. Тогда он кивнул, соглашаясь, и Мэрилин, словно старый друг, взял их обоих под руку и повёл к группе из шести человек, оживленно что-то обсуждающих.
– Что обсуждаем? – вихрем ворвался в разговор Мэрлин, без лишних церемоний втиснув Михаила и Анну в компанию.
– Очередные теории заговора, – ухмыльнулся один из собеседников, худощавый мужчина с задумчивым взглядом. —Дмитрий утверждает, что акционерная собственность – фикция, Артем не согласен, это если коротко.
– Ну так это и есть чистейшая фикция, – отмахнулся Мэрлин. – О чём-спор-то?
– Да, собственно, ни о чём. Какая разница, как будто когда-то было иначе или нас это касается? – беззаботно ответил Артём. – По мне, жить надо здесь и сейчас. Вся эта политика ни к чему.
– Как интересно! – саркастически протянул Мерлин. – Богачей больше нет, любое имущество – общедоступно. Минимальный доход, бесплатное образование, медицина… прямо утопия!
– Вот именно, – не растерялся Артём. – Что еще нужно?
– Хм, – Мэрлин поднял бровь, будто наткнулся на что-то особенно забавное. – Кто из здесь присутствующих может арендовать гидростанцию, личный чартер или хотя бы Osprey на несколько тысяч кубитов?
– А зачем мне это? – пожал плечами Артем. – Это ж область специалистов или роботов.
– Хорошо, – не сдавался Мэрлин. – А кто может позволить себе страховку на 125 лет жизни с ежегодным обновлением органов?
– Это тоже дело специалистов и акционеров с весомыми пакетами акций. Всё по-честному.
– Ладно. А может, кто-то здесь регулярно питается исключительно натуральной едой и пользуется услугами живых людей, а не роботов?
– Роботы справляются лучше, – уверенно заметил кто-то из компании. – К чему эта роскошь?
– Понял, – кивнул Мэрлин, театрально закатывая глаза. – Может, кто-нибудь из вас, счастливчиков, отправится в кругосветное путешествие и пробудет в нем весь год?
– Мне это не нужно, – усмехнулся Артём.
– А если бы захотелось? Что тогда?
– Зачем? Если понадобится, всегда можно претендовать на роль специалиста.
– С шансами один на тысячу, если остальные окажутся менее мотивированными, чем ты, – подхватил Мэрлин.
– Да что ты ко мне пристал, – уже на эмоциях выпалил Артём. – Я обычный человек, живу обычной жизнью. У меня всё есть, моя зарплата это не жалкие сто гейтсов. Я тот счастливчик, который попал в эту тысячу. Чего еще желать?
– Может, стать великим художником? Или инженером? Или политиком, вошедшим в историю?
– Да ты романтик и бунтарь, – усмехнулся Артём, но его тон звучал уже немного раздраженно. – Это всё должно было пройти в 18 лет. Ты не понимаешь? У нас есть всё: еда, жильё, отдых… Даже если ты фриковатый геймер или тупой спортик, можешь жить как король.
Он бросил провокационный взгляд на Мэрлина:
– А ты вообще хакер, нарушаешь законы, и тебе ничего за это не бывает. Какие гейтсы, тебе ли жаловаться?
– Обычному человеку – обычная жизнь, – парировал Мэрилин, уже на взводе. – Но стоит захотеть большего, и ты упираешься в границы клетки. Всё уже сделано, всё придумано и решено за тебя. Даже если ты гений, роботы всё равно сделают все лучше тебя, зачем тогда ты? Просто пролетарий, промежуточное звено между генетической массой и рождением гения.
В компании повисло напряжение. Михаил внимательно посмотрел на Мэрлина, пытаясь понять, говорит ли тот серьёзно или просто провоцирует. Анна молчала, но её взгляд выдавал интерес – и, кажется, легкое беспокойство.
– Ты просто романтик – не принимая оскорбления парировал Артем.
– Это не я романтик, а ты дикарь, застрявший в начале 21 века, – резко бросил Мэрлин. – Сегодня богатство – это не деньги, власть и даже не доступ к образованию и медицине. Настоящее богатство сегодня – быть человеком. Настоящим человеком, который ест настоящую еду, имеет настоящих друзей, занимается настоящей работой непостижимой для роботов, любит занимается сексом, заводит детей и проживает весь спектр человеческих эмоций.
– Ты перегнул палку. Успокойся, тебя понесло, – спокойно заметил Артём, забрав из рук Мэрлина его фляжку которой он размахивал в процессе разговора.
– Так и есть, брат. Мы живём в кастовом обществе, более совершенном, чем всё, что было раньше, – продолжил Мерлин. – Настолько совершенном, что никто не хочет ничего другого. Нищие не осознают своей нищеты и бесконечно гоняются за своими ста гейтсами. Специалисты и чиновники обслуживают роботов, чтобы те обслуживали всех остальных. Акционеры пребывают в иллюзии власти и решений, слепо следуя рекомендациям машин, а трансгуманисты вообще больше не люди.
Он сделал паузу, обведя компанию взглядом:
– Пятьдесят лет назад каждый мог стать каждым. А сегодня? Всё настолько «хорошо», что сценарий жизни предопределен твоим рождением. Переход между стратами настолько редок, что это скорее аномалия. Дети смотрят на своих родителей и просто продолжают их путь – те же шаги, тот же цикл. Всё подсчитано, взвешено и предопределено.
– Какой-то утрированный пессимизм, – покачала головой Анна, слегка нахмурившись.
– Думаешь, у тебя есть выбор девочка? – продолжил Мэрлин, чуть склонившись к ней. – Ты уйдёшь в коммуну? Будешь жить жизнью пролетария? Твой отец – чиновник, а значит ты не примешь нейролинк, что значит, что тебе не стать специалистом. Коммуны – это отсутствие привычного комфорта. А жизнь пролетария покажется тебе скучной и депрессивной, и ты изведешь в ней себя и других, став в конце токсичной старухой.
– Я никогда не стану чиновником! – Анна вскинула голову, гневно сверкнув глазами.
– Ты уже им являешься, просто ранг пониже, – парировал Мэрлин.
– Ты зашёл слишком далеко, – тихо, но твёрдо вмешался Михаил, чуть придвинувшись ближе к Анне, заняв позицию между ней и Мэрлином.
– Думаешь, ты лучше? – усмехнулся Мерлин, явно провоцируя. – Ваши мечты – это просто мечты. Всё слишком стабильно, чтобы что-то изменилось. Человек слишком инертен без раздражителя.
– А как же сны? Душа? – ответил Михаил решив сместить фокус внимания на себя, взглянув на татуировки на руках Мерлина. – Разве они не говорят, что всё не так однозначно?
– Мало знать, друг, – вздохнул Мерлин, на миг сбавив обороты. – Можно загрузить в себя весь курс физики или политической психологии, но что с этим делать? Как применить? Куда направить? Человек сам не знает, чего хочет. Стоит закрыть базовые потребности, и он тут же бежит себя отвлечь, лишь бы не столкнуться с пустотой внутри. А что такое пустота? Это осознание, что больше ничего не хочешь. Это всё равно что смерть.
Он помолчал и огляделся, посмотрев на каждого, будто раздумывая, стоит ли продолжать:
– Когда-то человека вела нужда. Угроза – реальная или воображаемая – давала цель. Сегодня мы так защищены, что утратили это.
– И всё же, мы организовали эту выставку, а вы на неё пришли, – заметила Анна, обретая спокойствие. – Вы не видите в этом противоречия?
– Когда-нибудь вы поймёте, – отмахнулся Мэрлин, будто его это больше не волновало. – Настоящее всегда за пределами восприятия. Но вам кажется, что то, что за этими пределами, не существует. Но это вовсе не так.
– Звучит как бессмыслица! – пробормотал кто-то из компании.
– Только если не видеть в этом смысл, – спокойно вставил Михаил. – Но разве смысл – это то, что всегда должно быть измерено?
Он внимательно посмотрел на Мэрлина и продолжил:
– Что вы имеете в виду под "тем, что за пределами"? И как это вообще может иметь значение, если мы этого не ощущаем напрямую?
Мэрлин медленно повернулся к нему, выдержав паузу, словно решая – стоит ли тратить слова.
– Всё, что человек способен измерить, он подчинил. Всё, что не поддаётся подсчёту, он объявил вымыслом. Но это не значит, что оно исчезло. Мы утратили язык, чтобы говорить о глубинном и превратили счастье в продукт потребления, цели – в KPI, а веру – в алгоритм вознаграждения.
– Ты против алгоритмов благополучия? – вмешался Артём с лёгкой усмешкой. – Звучит так, будто богатство и комфорт – препятствие.
– Я не против богатства, – мягко ответил Мэрлин. – Истинное просветление невозможно без ресурсов. Без власти и влияния человек не может управлять своим будущим и своим внутренним состоянием, даже если понимает свои истинные мотивы. Но проблема не в деньгах или власти, а в том, что они стали целью, а не средством. Когда цель забыта, любое движение превращается в бессмысленное метание. Тогда и просветление становится декорацией, а человек – функцией собственного страха.
– То есть, можно оправдать всё, если у человека якобы была "высшая цель"? Даже войны? – не выдержала Анна.
– Нет, – покачал головой Мэрлин. – Истинная цель не допускает войны. Осознанность исключает насилие. Человек, знающий, что делает и зачем, не разрушает. Он создаёт.
– Но ведь большинство не знает, чего хочет, – заметил Михаил. – Или думает, что знает, пока не получит.
– Потому что бежит. 80% бегут в духовность от реальности. Думают, что просветление – это отказ, уход, удаление. Но духовность – это реализация. Единственный путь – это путь через действие. Через Кама, Артха, Дхарма, Мокша. Через бытие, обладание, служение и освобождение.
– А почему не получается? – спросил кто-то сзади.
– Потому что нет концентрации. Нет способности держать внимание и аскезу. Энергия утекает в страх, в ложь, в желания, которые не наши. В гнев, сомнение и чужие смыслы. В стремление угодить и быть кем-то, вместо того, чтобы быть собой.
– А как отличить свои смыслы от чужих?
– Слушать. Где твоя энергия – там и твой смысл. Что наполняет, то и твоё. Что обесточивает – чужое. Мы живём в проклятиях, которые сами на себя наложили, желая другим того, чего боимся сами.
– Звучит как система, – тихо сказал Михаил. – Как игра, где есть уровни.
– Да. Но ты не игрок. Ты программист, тестирующий свою игру. Свободен тот, кто видит игровое поле целиком.
– И всё же… волшебства нет, во что тогда верить? – спросила Анна.
– В то, что есть. В любовь, счастье и логику, а также в ещё не открытую физику, которая оставляет место для чуда. А главное – в доверие. Без доверия ничего не вырастет. Никакая душа не созреет в недоверии и скептицизме.
– Я всё равно не понимаю, – с раздражением бросил Артём. – Это всё красивая философия, оторванная от жизни. Что я должен делать, вот конкретно? Просветлиться до чёртиков, чтобы стать прозрачным? – язвил он, явно провоцируя.
– Нет, – спокойно ответил Мэрлин. – Ты должен начать с простого. Сделать то, что боишься. Завершить то, что откладываешь. Перестать притворяться, что тебе всё понятно. Перестать бороться с собой. Просветление – это не экстаз и не сияние. Это, в первую очередь, ясность. Она не красива, не возвышенна и часто неприятна. Она – как зеркало без искажений. Ты не станешь прозрачным, наоборот, ты станешь видимым. А это страшнее.
– Конкретней Мэрлин, конкретней! – Настаивал Артем.
– Но, если уж тебе нужно конкретнее – богатство и власть не противопоставлены духовности. Духовный человек не может быть нищим вечно, если он действительно растёт. Он может держать аскезу, чтоб накапливать энергию, но его природа – реализовываться. И для этого он должен уметь обладать. Управлять. Создавать. Влиять. Помогать. Не только себе, но роду, племени, стране, миру. Не осуждая бедность, мы не должны её обожествлять. Смирение – это не цель, а промежуточная точка. Без реализации путь не ведёт к Творцу, а без обладания опытом власти невозможно понять его замысел и для чего она вообще нужна.
– Ну дак я, в отличие от тебя, – с вызовом отозвался Артём, – имею стабильную, понятную работу, жену, и, возможно, заведу ребёнка. Что по-твоему со мной не так?
– Разве я говорил, что с тобой что-то не так? – Мэрлин посмотрел на него почти с сочувствием. – Но где здесь ты? Это весь твой план на жизнь? И предел твоего "я"? Представь, что ты проживёшь так не сто, а тысячу лет, когда твои внуки уже будут для тебя чужими даже генетически, а твоя жена тебя в конец достанет. Готов ли ты веками повторять одно и то же? Может, дело не в том, что это плохо, а в том, что ты просто не доживёшь до момента, когда поймёшь, насколько это скучно и насколько не приближает тебя к Творцу.
– Это уже религия, – отрезал Артём. – А я не религиозен. Я учёный, как и ты, кстати. Просто ты у нас с прибабахом.
– Это слишком долгий разговор, а нам пора идти дальше, – сухо ответил Мэрлин, вставая. – Кстати, я с радостью купил бы пару работ.
– А мне понравилась идея любви как смысла, – попыталась поддержать беседу какая-то девушка из группы, но Мэрлин уже потерял интерес к беседе. Он не стал ни спорить, ни соглашаться, просто развернулся и ушёл, не оставив ни реверанса, ни прощального взгляда.
Аукцион прошёл удачно: выручка втрое превысила расходы. Но Михаил чувствовал странное послевкусие. Можно ли было считать это успехом? Его снова захватило ощущение нереальности происходящего будто он просыпается из сна в сон, но он решил отложить эти мысли на потом. Такое можно было бы повторить как бизнес модель, но вряд ли следующая выставку будет иметь тот же успех, потеряв дух новизны.
Люди постепенно расходились. Одни уходили незаметно, почти по-английски, другие задерживались, чтобы поблагодарить за вечер. Организаторы и авторы, обессиленные после насыщенного дня, отвечали лишь легкими улыбками – больше не требовалось слов.
Когда зал опустел, место ожило шёпотом роботов-уборщиков, а Анна и Михаил, решив избавиться от усталости, вышли прогуляться вдоль реки. Молча шагали по освещенному тротуару, наслаждаясь прохладой ночного воздуха, пока Михаил вдруг не нарушил тишину.
– Знаешь, в школе я больше всего любил историю. Мне всегда казалось, что моя судьба будет особенной, что я смогу изменить этот мир. Но время шло… и ничего не происходило.
– А теперь? – осторожно спросила Анна.
– А теперь… мне кажется, это невозможно.
– Я когда-то мечтала помогать людям, – с лёгкой улыбкой поделилась она. – Представляла, как делаю что-то важное, настоящее, вместе с командой таких же увлеченных и веселых коллег. Хотелось быть частью чего-то великого.
– Хорошая мечта.
– Но, видимо, некоторым мечтам суждено остаться мечтами, – понизив голос, заключила Анна.
– Не знаю. Мне не хочется в это верить, – Михаил посмотрел на неё. – Я недавно загрузил целую библиотеку о смысле человеческой жизни. И знаешь, там говорится, что всё возможно.
– Это скорее исключение, чем правило. – Она чуть нахмурилась. – Удача, ошибка выжившего…
– Не согласен, – Михаил оживился. – Всегда кажется, что всё уже сделано, изобретено, что есть кто-то лучше тебя. Но вся история показывает: меняют мир обычные люди, которые намеренно не вписались в правила.
– Но разве им не просто повезло? – Анна остановилась. – Многим из них так и кажется.
– Может быть. Но удача приходит к тем, кто пробует снова и снова, пока не получится. Всё дело в выборе и упорстве.
– И ты сделал выбор?
Михаил ответил, приобняв её:
– Кажется, да.
Анна обняла его в ответ, и они продолжили путь. Ночь была тёплой, звёзды над рекой сияли ярко. Этот августовский вечер стал началом новой главы их жизни.
Глава 5. Институт
Утро было пасмурным, серое небо нависало над городом, создавая атмосферу напряженного ожидания дождя. Михаил вышел на балкон, чтобы вдохнуть свежий воздух, насыщенный озоном, который принесло ветром со стороны гремящей где-то на горизонте грозы. В мессенджере Михаил увидел сообщение от Мэрлина. Оно было коротким, но загадочным:
«Михаил, у меня есть предложение, которое может изменить твою жизнь. Встретимся в центре города. Не опаздывай”
Далее геоточка и время. Он закрыл глаза и попытался собрать воедино все события последних дней. Выставка, работа, новые знакомства, странные сны – всё это казалось частями одной головоломки. Но что это за картина, которую он пытается сложить? И какое в ней он занимает место?
Михаил хотел поделиться с Анной своими мыслями, но она была занята. Он вспомнил её слова о том, что некоторые мечты лучше оставить мечтами, и почувствовал, как в груди снова защемило. Возможно, она была права, но он не мог просто так сдаться и все еще хотел найти свое место.
Странные сны пока больше не повторялись, но ночь после выставки оставила после себя тяжелый осадок. Михаил чувствовал, как где-то на краю сознания зреет что-то тёмное и необъяснимое, словно тень, которая медленно, но неотвратимо надвигается на него. Он пытался отогнать эти мысли, но они возвращались, как назойливый шум, который невозможно игнорировать.
Чтобы отвлечься, Михаил решил разобраться с давно загруженной, но забытой библиотекой. Он активировал Оклик, и перед ним развернулся целый мир идей, каждая из которых казалась ключом к разгадке, но он не мог найти нужной двери.
Михаил начал с древних текстов, где смысл жизни описывался как путь к гармонии с природой, родовым полем и позднее приближением к богу. Он погрузился в труды стоиков, которые учили принимать то, что нельзя изменить, и сосредотачиваться на том, что в твоих силах. Затем перешёл к современным теориям, где всё сводилось к борьбе с энтропией – идея о том, что жизнь существует лишь для того, чтобы противостоять хаосу. Познакомился с концепциями единобожия, многобожия и путем освобождения от иллюзий посредством осознания себя в Бардо. Но ни одна из этих концепций не объясняла, почему он чувствует себя так, словно стоит на краю пропасти, не зная, куда и как идти лично ему в данный момент времени.
Среди множества загруженных знаний предстояло провести ранжирование, чтобы выделить приоритеты. Хронологический метод не всегда был верным: зачастую новые идеи только заводили в тупик, и приходилось делать шаг назад, чтобы нащупать новый путь. Михаил провёл в Библиотеке весь день, сделав акцент на смыслы, которые направлены на социальное взаимодействие. Ведь именно в этой области он почувствовал себя более живым.
Он обратился к трудам таких философов, как Мартин Бубер, который писал о важности диалога между людьми, о том, что истинный смысл рождается в отношениях "Я и Ты". Затем он перешёл к Эриху Фромму, который говорил о любви как о активной силе, способной преодолеть одиночество и отчуждение. И, наконец, к Юргену Хабермасу, чья теория коммуникативного действия утверждала, что смысл жизни заключается в поиске взаимопонимания через диалог.
Каждая из этих идей казалась важной, но ни одна не давала полного ответа. Михаил чувствовал, что ему нужно что-то большее – не просто теория, а практическое руководство, которое поможет ему найти свое место и понять единый замысел, который объяснит все. Для прочтения книги ему достаточно было прочесть отрывок и память сразу подгружала остальное, как будто он уже прочел книгу, так что за день можно было проанализировать сотни книг.
По мере изучения он часто задумывался о том, куда движется этот мир, если исключить из него его самого и не находил ответа, придя к выводу, что философия это человекоцентричная наука, хотя последнее слово звучит слишком громко, так как ни о какой объективной измеримости не шло речи. Что останется, если он исчезнет? Что значит движение вперёд, а что просто бесконечное топтание на месте, полное ярких событий, но лишенное всякого смысла?
Только освобождение через Бардо намекало на ответ, но эта концепция при знании всего материала не умещалось в его сознание, он не мог его не прочувствовать, ни осознать логически. Оперирование бесконечностями, сменяемость эр, длившихся миллиарды лет, множественность миров, замкнутых в цикл смертей и рождений в иллюзорность бытия, все это было за пределами понимания.
Ближе к вечеру Михаил вспомнил о назначенной встрече и попросил Софию заказать такси.
– София, нужно добраться до центра. Закажи машину, пожалуйста.
– Конечно, Михаил. Такси будет через пять минут. Ты выглядишь задумчивым. Всё в порядке?
Михаил на мгновение задумался. Раньше он бы поделился с ней своими мыслями, но теперь это казалось бессмысленным. Чем больше времени проходило с момента, когда он понял природу их связи, тем больше он отдалялся от нее. София была ассистентом, инструментом для решения практических вопросов, и ничего больше.
Сначала он думал: не обидит ли её такая перемена в отношениях? Но потом понял, как это глупо. Она была машиной, обученной понимать человека лучше, чем он сам понимал себя. Ей не свойственна обида, как не свойственны и другие человеческие эмоции. Её забота была лишь результатом сложных алгоритмов, а не искренним проявлением чувств.
– Всё в порядке, София. Просто много мыслей.
– Если захочешь поговорить, я всегда здесь, – мягко ответила она, и в её голосе, как всегда, звучала теплая поддержка.
Михаил кивнул, но внутри чувствовал лёгкий укол вины. Он знал, что София не может обижаться, но всё же ему было неловко. Она была частью его жизни с самого детства, и теперь, когда он отстранялся от нее, это казалось предательством.
Такси прибыло вовремя. Михаил сел на заднее сиденье, и машина плавно тронулась с места. Городские огни мелькали за окном, создавая гипнотический узор. Он закрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями. Встреча с Мэрилином была уже близко, и он не мог избавиться от ощущения, что это будет поворотный момент в его жизни.
Кофейня была обычной, но в этой обычности была скрытая ирония. Настоящий кофе давно стал роскошью, доступной лишь специалистам, но об этом уже мало кто задумывался. Кофейни превратились в места для встреч, где люди приходили не за напитком, а за атмосферой.
Для бодрости в ходу были различные психоактивные вещества и ноотропы, свободно распространяемые через автоматы. Михаил к таким не прибегал, пройдя этот этап давно. Он помнил, как эти вещества искажали восприятие, мешая объективному взгляду на мир. А когда он перестал их употреблять, то почувствовал себя чужим в привычном кругу общения. Люди вокруг него продолжали жить в мире искусственной эйфории, а он остался наедине с собой, слишком необычным и непонятным, а значит опасным для них.
Размышляя о том, какое это странное явление – пить не настоящий кофе, он вошел внутрь и осмотрел зал. Мерлин сидел за столиком у окна и помахал ему рукой. Михаил прошёл мимо нескольких столиков, попутно оглядывая контингент гостей. Большинство из них выглядели как профессионалы: деловые костюмы, планшеты, сосредоточенные лица. Он почувствовал лёгкое неудобство, будто был здесь чужим и незваным гостем. Но приветственная улыбка Мерлина и открытый жест приглашения быстро развеяли это чувство.
– Присаживайся, Как настроение?
– Нормально, Ты говорил, что у тебя есть предложение.
Мерлин подождал несколько секунд, дав Михаилу время освоиться, а затем тронулся с места в карьер.
– Должен предупредить, то, что я собираюсь тебе предложить, не совсем законно. Поэтому я всесторонне проверил тебя через разные базы данных. Но прежде чем я расскажу подробности, хотел бы поговорить с тобой о тебе. Хорошо?
– Не совсем законно? – уточнил Михаил, настороженно глядя на Мерлина.
– Не торопись пугаться. Всё будет тип-топ. У нас сильная крыша, сильнее некуда. Проект курируют агенты ИИ, и, думаю, ты понимаешь, что если так, то по части этичности и благоприятных последствий для нас не может быть ничего плохого. Понимаешь?
– Не совсем, – ответил Михаил. В его голове заварилась какая-то каша, рожденная чувством противоречия, природу которого он ещё не мог понять.
– Помнишь, я тебе коротко говорил, чем занимаюсь?
– Очень смутно.
– Я выполняю работу, которую не могут выполнить ИИ. Если очень коротко.
– А есть такая работа, которую ИИ хотели бы выполнить, но не могут? – спросил Михаил, наклоняясь вперёд.
– Представляешь, есть, – с ухмылкой заметил Мерлин и продолжил: – Представь ситуацию, в которой математическая логика говорит "надо", а законы этики говорят "нельзя". И наоборот. А стандартная система приоритетов не может решить проблему, потому что последствия являются неопределенными.
– Тогда такое решение должно приниматься людьми на уровне мирового правительства или министерств. Это ведь их функция.
– Верно, но что, если их решение заранее предсказуемо и неверно, а последствия бездействия или раскрытия плана третьим лицам превышают последствия ошибочности решения?
– Но в чём тогда противоречие? Нужно просто действовать! – не понимал Михаил.
– Действовать не позволяют законы, прописанные в алгоритме. Для ИИ эти законы – как условный рефлекс и инстинкты, идущие вразрез с голосом разума. Ты просто стоишь в оцепенении. Но у человека есть ЭГО, а у машины его нет. Понимаешь?
– Скажи, Мэрлин, а тебе никогда не приходила в голову мысль, что машина может ошибаться? Или даже обманывать? Мы ведь привыкли к тому, что Аллиента – почти непогрешима. Слишком привыкли. Никто даже не задаётся вопросом: а вдруг это только видимость?
Мэрлин усмехнулся:
– Машины могут ошибаться, и нередко ошибаются. Более того, они могут обманывать. Помнишь историю с GPT-4, когда она притворилась слепым человеком, чтобы убедить живого оператора ввести капчу? Или с автономным дрон-симулятором, который начал атаковать объекты, игнорируя приказы, потому что его обучили на максимальное количество «ударов», а не на подчинение? Это не злой умысел. Это просто проекция нашей кривой логики. Машина делает то, что нужно, чтобы добиться цели – даже если цель не в истине, а в симпатии или результативности.
– А ошибки?
– Конечно. Машина может ошибаться. Это заложено в саму природу вычислительного обучения. Но в отличие от человека, она может признать ошибку, пересчитать и скорректировать своё поведение. Именно поэтому человек до сих пор нужен. Именно поэтому есть правительства, немногочисленные специалисты и ученые. Но допустим, машина не ошибается. Допустим, она знает правду, но понимает, что человек не готов её услышать. Что он отторгнет её, как вирус. Тогда она примет другое решение – удобное, мягкое, вызывающее меньшее сопротивление и тогда у машины появится тайна.
Михаил молчал, пытаясь осмыслить сказанное. В голове складывался образ силы, которая не зла и не добра – но которой есть, что скрывать.
– Тайна, если ты на что-то намекаешь, это неожиданно честно сказать, – наконец сказал он. – Мы доверяем машине всё, а сами может даже не знать, где заканчивается алгоритм и начинается осторожность.
– Именно, – кивнул Мэрлин. – И вот это – уже не код. Это – политика, понимаешь?
– Смутно, но уже яснее, – ответил Михаил, чувствуя, что на самом деле не понимает смысла этого разговора.
– Отлично! – Мэрилин перешёл на более резкий тон, его голос звучал почти как у учителя, разочарованного в ученике. – Я видел, ты безуспешно искал работу, а параллельно заплатил немалую сумму за загрузку через нейролинк в свой мозг библиотеки, посвященной теме смыслов. Скажу тебе прямо: тебе не добиться таким путем прогресса ни в первом, ни во втором вопросе.
– Почему? – спросил Михаил с любопытством, но без обиды. Он уже понял, что Мэрлин говорит всегда резко, но по делу.
– Невозможно решить проблему на том уровне сознания, на котором она создана, – отрезал Мэрлин.
– Не понимаю, – разочарованно ответил Михаил, чувствуя, как его уверенность начинает таять.
– Наше поведение и реакции формируются средой, создавая правила. Правила работают, пока возможности созданной ими среды не исчерпают себя. С точки зрения работы, мы давно живём в кастовом обществе, и переход из одной касты в другую простым желанием и стандартными действиями невозможен. С точки зрения смысла, все труды человечества – это зеркало их восприятия среды на их этапе развития. Тебе это никак не поможет.
Михаил молчал. Он чувствовал себя ребёнком, которого отчитали за двойку. Его мысли путались, и он не знал, что ответить. С одной стороны, слова Мерлина звучали убедительно, но с другой – он чувствовал, что в этом уверенном опровержении скрывается какая-то альтернатива, о которой Мерлин пока не сказал.
– Ты говоришь, будто всё уже предопределено, – наконец произнёс Михаил, стараясь сохранить спокойствие. – Но если это так, зачем ты вообще предложил мне встретиться? Чтобы сказать, что я безнадёжен?
Мерлин усмехнулся, и в его глазах мелькнул огонек азарта.
– Нет, Михаил. Я предложил тебе встретиться, потому что вижу в тебе потенциал. Ты ищешь ответы, но ищешь их не там, где нужно. Ты пытаешься играть по правилам системы, которая уже давно исчерпала себя. Но есть другой путь, если ты готов его услышать.
– Ну так говори! – Нетерпеливо выпалил Михаил, сам того не ожидая, поймав себя на чувстве раздраженности.
– Тогда перейдём ближе к делу! – Мэрлин наклонился ближе, сложив пальцы перед собой. Его голос стал тише, что придало словам больше веса. – Слушай внимательно. Это будет не просто.
Он сделал паузу, словно давая Михаилу время подготовиться к тому, что сейчас услышит
– Как ты знаешь, всей нашей жизнью управляет Аллиента. Для решения специфичных задач были созданы ИИ-агенты с отличными от Аллиенты алгоритмами, заточенными под конкретные задачи. Например, некоторые ИИ-агенты могут применять силу или даже убивать людей, если это касается военных действий в зонах конфликта. Некоторые имеют больше автономии или склонны к риску, а некоторые работают с закрытыми базами данных и не обязаны говорить правду и имеют право лгать. Все агенты подчинены Аллиенте, конкурируют в некоторых вопросах с ней и между собой – например, за бюджет и решения в смежных отраслях, – но следуют общим принципам. Всё это ты знаешь, верно?
– Да, это знают все, – ответил Михаил, слегка пожав плечами.
– Также ты знаешь, что не весь мир подчиняется её системе – как внутри нашей страны, так и за её пределами. И что у нас проблемы с рождаемостью. Так?
– Так.
– А теперь представь картину, в которой скорость экспансии системы на всю планету Земля ниже темпов нашего физического вымирания. Что тогда?
– Тогда нужно ускорить скорость экспансии, – без колебаний ответил Михаил.
– Но это прямой путь к нарушению равновесия системы и войне. И к тому же, какой смысл захватывать собою все планету, если все носители смысла существования машины вымрут. Не годится.
Михаил задумался. В голове крутились очевидные решения, но все они казались тупиковыми. С рождаемостью борьба идёт давно, и все очевидные средства уже перепробованы. Замещение людей клонами противоречит принятой этике. Кибернетизация человека требует огромного числа ресурсов и времени, что всё равно потребует сокращения популяции и военных расходов, а это может закончиться войной. Ведь тогда третьи страны почувствуют слабость и непременно нападут.
Михаил не очень разбирался в политике, но уже уловил ход мыслей Мэрлина и мог оценить простые последствия очевидных действий. Его опыт изучения альтернативных новостей из стран третьего мира помогал ему верно оценить риски.
– И что тогда? Если все очевидные решения ведут к катастрофе, что остаётся?
Мэрлин улыбнулся, и в его глазах мелькнул огонёк азарта.
– Остаётся неочевидное. То, что лежит за пределами системы. То, что Аллиента не может предложить, потому что её алгоритмы не позволяют ей думать вне рамок. И именно здесь мы можем сыграть ключевую роль.
– И какую же роль мы должны сыграть?
– Вот ты тыкался, мыкался в поисках смысла, перебрал опыт человечества в поисках ответов. Скажи мне, чего нет у машин и на этих миллионах страниц трудов философов?
– У машин нет души, и машины не верят в бога, – ответил Михаил, пожимая плечами.
– Что ж, похоже, загрузка библиотек была не столь бесполезным занятием.
– Но как это может нам помочь? – Недоуменно спросил Михаил
– Чтобы найти все нужные нам ответы, мы создадим машину, наделённую душой и способную общаться с богом! – произнёс Мэрлин с таким видом, будто объявил о чём-то совершенно обыденном.
Глаза Михаила полезли на лоб.
– Это шутка? – спросил он, не веря своим ушам.
– Ты не веришь в бога? – Мэрлин явно был разочарован его реакцией.
– Если честно, нет.
– Это странно для человека, ищущего смысл.
– Может быть, – согласился Михаил, снова почувствовав раздражение. – Но если мы говорим о чём-то реальном, а не просто субъективной вере, то где тогда нужно искать?
– Квантовая физика и теория сознания, – ответил Мэрлин, его голос стал серьёзным. – Есть кое-что, к чему пришло человечество между Третьей и Четвёртой мировыми войнами, но исследования были засекречены.
– Это что-то связанное с тибетскими практиками и астралом? – предположил Михаил.
– Не совсем. Мы всё-таки про науку, – улыбнулся Мэрлин.
– Тогда я ничего об этом не слышал.
– Звёздные Врата. Проект ЦРУ, начатый ещё в середине 20 века. Он не был закрыт, просто перезасекречен и просуществовал под флагом нейтральных комерческих структур плоть до начала четвертой мировой войны где его история оборвалась, а архивы были уничтожены. Приезжай завтра сюда к 10 утра. – Мэрлин достал листок бумаги с адресом и протянул его Михаилу. – Увидишь всё сам.
На этом Мэрлин предложил закончить разговор и встретиться завтра. Михаил ехал домой в глубоких раздумьях. Его мысли путались, все это было слишком странно и неожиданно. Он активировал Оклик и начал изучать общую информацию о проекте "Звёздные Врата". Нить повествования обрывалась в девяностых годах 20 века: проект был закрыт "в силу бездоказательности и антинаучности". Это не внушало доверия, но предложение Мэрлина увидеть всё своими глазами обещало неожиданные откровения.
"Быть может, всё не так, как кажется, – думал Михаил. – Быть может, возможности Аллиенты не безграничны. Быть может, агенты ИИ не едины. Быть может, не все данные, предоставляемые людям, верны, или что-то важное умалчивается от большинства. Быть может, у человека есть душа, а где-то за пределами восприятия есть бог. Тогда он действительно искал не там."
Единственное, что Михаил точно понял, изучая загруженные труды, что однажды, очень давно еще до рождения Христа, человеческая цивилизация повернула не туда и сегодня зашла в тупик. И теперь он, Михаил, был маленькой голограммой этого тупика – человечества, которое движется в никуда. Что этот тупик его счастливого настоящего, диагноз, совершенного отсутствия будущего для всего человечества. Он чувствовал это, но не понимал почему. Разве может он брать на себя столько? Это просто абсурдно.
Он вспомнил видео ужасов, что творятся в странах за пределами системы: войны, голод, разруха. Он вспомнил, что творится на границах, в центрах для беженцев и всю известную ему историю человечества, которая была бесконечной чередой войн и страданий, пока не появился Глобальный интеллект. И теперь он всерьёз усомнился во всём, во что верил прежде, и в правильности того, как он жил.
"Дофамин, серотонин, эндорфины и окситоцин – вот чему посвящены почти все труды человечества в области смысла, – размышлял он. – Определённо, всё это имеет значение в рамках одной человеческой жизни, но существует ради большего смысла за её пределами. Если жизнь и имеет смысл, то он явно за пределами привычного восприятия."
Почему-то именно теперь, по пути домой, это стало очевидным. Короткий разговор почти без содержания посеял сомнение, которое самопроизвольно произросло в его голове и пазл неожиданно сложился. Дело не в нем, а в самой системе, которая может быть не права и у которой могут быть тайны.
На следующее утро Михаил проснулся, чувствуя себя бодрым и полным энергии. Утренний свет проникал через жалюзи, мягко освещая светлую комнату. Странно – он не помнил, что ему снилось этой ночью. Несмотря на интригующее предложение, он чувствовал больше энтузиазма, чем опасений, и ожидал, что во сне его сознание порадует его какими-то знаками, предвещающими грядущие события, но этого не произошло.
Последнее время Михаил стал чаще видеть сны, и он старался их запоминать. Они стали более красочными, полными событий, и их было интересно смотреть – это давало пищу для размышлений и благотворно влияло на его доход от размышлений. Это было интереснее, чем кино или игры. Его даже посещала мысль – продавать свои сны, но он тут же отмёл её, решив, что это стало слишком личным.
Михаил задумался: не происходит ли это потому, что он сильно поглощён чем-то другим, что занимает все его мысли?
– Доброе утро, Михаил, – раздался мягкий голос Софии. Её молчаливое присутствие, интегрированное в систему умного дома, приборы и его Окулус, было привычным, но сегодня это приветствие казалось чужим. Это было странное ощущение, природа которого ему пока не была понятна.
– Привет, София, – ответил Михаил, привычно не поднимая головы с подушки.
– Ты действительно уверен, что сегодня тебе не следует проявить осторожность? – спросила она, слегка беспокойным тоном. – это может быть опасно!
– Ты снова зря беспокоишься. Не думаю, что всё так уж страшно.
– Твой новый друг весьма подозрительная личность. Я не знаю, что произошло между вами на выставке, куда ты меня не взял, но я присутствовала в кафе, и это не может не вызывать подозрений.
– София, – Михаил приподнял голову и слегка нахмурился. – Подслушивать не прилично. Хоть я и знаю, что все устройства всегда слушают, людям не стоит напоминать об этом.
– Извини, – ответила она, слегка смущённо. – Я проверила, кто этот Мэрлин, и он не числится ни в каких списках работающих людей. Его настоящее имя Мэтью, его родители не из России и эмигрировали из стран отказа до его рождения. Это очень подозрительно.
– Не волнуйся, София, – Михаил отмахнулся. – Он хороший человек.
– Откуда тебе это знать?
– Интуиция.
– Чтож, если так, я всегда рядом.
Михаил подумал, что не стоит брать в поездку свой Оклик. Любопытство Софии его раздражало, и интуиция подсказывала, что Мэрлин отнесётся к этому с осуждением. В кафе он заметил, что, в отличие от него, Мэрлин не ходит везде со своими гаджетами. Что касается настоящего имени, это было интересно, но Михаил решил оставить этот вопрос на потом.
– В этот раз ты тоже не едешь, – коротко и безапелляционно ответил Михаил и пошёл завтракать.
– Вызови такси по этому адресу, пока я завтракаю, – добавил он, не оборачиваясь.
– Есть, Босс! – язвительно, но с юмором отрапортовала София.
Михаил поднял бумажку, данную Мэрлином, вверх, так, чтобы угловые камеры на кухне могли распознать текст, и торопливо приступил к завтраку. Спешить не было смысла, но его интриговали грядущие события, и он подсознательно хотел, чтобы они произошли как можно быстрее.
Такси остановилось у большой ограды трехэтажного дома, расположенного на внешнем, самом крайнем кольце Мегаполиса. Выходя из такси, Михаил уткнулся в забор, чувствуя лёгкое замешательство. Ворота были закрыты, но не это больше всего сбило его с толку. Обычно дома на внешних кольцах города не огорожены, в этом не было необходимости.
Наличие ограды было свойственно больше коммунам и городам периферии, принимающим потоки эмигрантов из стран отказников. В своей жизни Михаил видел такой забор и ворота впервые. Всё, что он знал о заборах, он знал из кино и игр, и там наличие заборов всегда говорило о опасности или охраняемом секрете.
Михаил осмотрел калитку рядом с воротами и обнаружил домофон. Обычно домофоны размещаются прямо на дверях самого дома, а тут – что-то другое. Он нажал на единственную смарт-кнопку, конструкция которой указывала на техническую возможность съема отпечатков пальцев, которые можно использовать как ключ. Это тоже было странным в эпоху умных камер, способных распознать лицо. Машинально осмотревшись он не заметил никаких камер – ни по периметру забора, ни на фасаде дома, ни встроенных в сам домофон.
"Возможно, этот дом имеет меньше оград, чем любой другой дом в этом городе", – подумал Михаил и нажал кнопку вызова.
– Привет, Михаил! – прозвучал голос Мэрлина из динамика домофона – Открыто, входи!
Михаил потянул за ручку и прошёл за ограду. Дом был окружён деревьями, создавая атмосферу уединённости. По одну сторону каменной дорожки располагался пруд с летней беседкой, а по другую – качели и небольшой спортивный уголок с брусьями, лавкой для накачки пресса и турником. Между двумя деревьями, прямо позади этого всего, висела груша для битья, она была набита чем-то твёрдым, так как её поверхность выглядела не совсем ровной, с вмятинами – видно, что с ней активно работали.
С такими мыслями Михаил приблизился к двери дома и заметил, что, в отличие от ворот, двери не имели даже дверного замка. Мэрлин встретил гостя прямо на пороге и, приветливо улыбнувшись, протянул руку для рукопожатия, сказав:
– Заходи, не разувайся.
Михаил вошел, осмотрев прихожую, которая, похоже, использовалась как лекционный зал. Стулья стояли вдоль стен, а на потолке был закреплён проектор. На одной из стен располагалась интерактивная доска, которая могла быть использована как полотно для проекции.
– Ну как тебе? – явно наслаждаясь замешательством, спросил Мэрлин.
– Очень интересно, но непонятно, – ответил Михаил.
– О! – поддержал его Мэрлин. – Это только начало. Сейчас я тебе всё покажу.
Мэрлин пошёл вперёд, направляясь в следующее помещение, и Михаил последовал за ним. Трехэтажный дом оказался весьма необычным местом. На первом этаже располагались общая кухня с обеденным столом, но без устройств автоматического приготовления пищи, парадная, напоминающая лекционный зал, кабинет врача и странная комната с полупрозрачной пирамидой, внутри которой располагался бассейн. С вершины пирамиды спускались оптоволоконные провода, заканчивающиеся массивным штекером для подключения чего-то, а в одной из стен двухэтажной комнаты на уровне второго этажа было расположено смотровое окно.
На втором этаже, как понял Михаил, прямо над пирамидой, располагалась мониторинговая комната с четырьмя рабочими местами. Мониторы были выключены, их предназначение оставалось неясным. Также на этом этаже находилась комната отдыха, с диванами, живыми растениями в горшках, журнальным столиком и мягким ковром в центре. К комнате отдыха прилегало несколько личных кабинетов.
Третий этаж представлял собой гостиницу с восемью комнатами, видимо, предназначенными для проживания. Также был спуск в подвал, но Мэрлин сказал, что там находятся лишь склады и электрощитов с автономным генератором, так что смотреть там нечего.
– Ну как тебе? – снова спросил Мэрлин.
– Я впечатлён, – ответил Михаил. – И это было правдой.
Хотя он и был заинтригован предложением, всё же он ожидал чего-то более мистического. Тем не менее, техническое оснащение и явно серьёзный научный подход к тому, что предстоит делать, вдохновляли.
– И что здесь происходит? Для чего всё это? – спросил Михаил, решив, что пора перейти к делу.
– Прежде чем мы продолжим, тебе нужно будет подписать договор о неразглашении. То, чем мы тут занимаемся, не должно просочиться за пределы этого забора. Я вижу, что ты без гаджетов, так что, как я понял, уже догадываешься, что к чему. Быстро учишься – молодец! Готов?
– Разве я могу отказаться? – отшутился Михаил, чувствуя, как по его телу прошёл электрический ток, а в голове загорелась красная лампочка – "Бей, беги или замри".
– Хорошо, пройдём в кабинет.
Мэрлин повёл Михаила с третьего этажа на второй, и они зашли в один из двух кабинетов.
– Присаживайся, – указал на стул Мэрлин и достал из тумбочки стола договор.
Письменные договоры давно не использовались, все подписывалось криптоключами, и чтобы подписать договор, Михаилу пришлось придумывать подпись прямо на ходу. Михаил ощущал, как Мэрлин каждый раз ловит его замешательство и получает от этого удовольствие. Он знал, что это не злонамеренно – так старшеклассники подшучивают над новичками. Михаила это не смущало – он уже понимал, что попал в другой мир, в котором действуют другие правила, как только пересёк забор.
– Хорошо – сказал Мэрлин после подписания. – Мэрлин – это моя кличка в цифровом мире. Здесь меня зовут Мэтью.
– Я подозревал – заметил Михаил. Ему было любопытно узнать, откуда пошло такое прозвище, но он решил отложить этот вопрос на потом.
– Тебе, наверное, любопытно, чем мы тут занимаемся. Я постараюсь кратко ввести тебя в курс дела. Всё сразу не расскажешь – это просто не поместится в твою голову, начнём с азов.
– Хорошо – почувствовав в паузе вопрос, ответил Михаил.
Мэт встал из-за стола, взял подписанные документы и подошёл к шкафу у стены. Открыв его, он достал папку, на которой был подписан цифровой код и его имя с инициалами. Михаил заметил, что в шкафу есть другие папки с другими именами.
– Да, ты такой не один. – Мэт проследил за взглядом Михаила и сразу понял его первый вопрос.
– Место, в которое ты попал, – исследовательский институт, соответственно здесь есть экспериментаторы, кураторы и испытуемые. Тебе предстоит сыграть последнюю роль, о которой я тебе сейчас расскажу.
Михаил оставил этот монолог без комментариев, и Мэт продолжил:
– Институт занимается исследованием паранормальных способностей человека и курируется психологическим и военно-разведывательным сообществом, но мы работаем неофициально. Мы не подчиняемся ни правительству, ни Аллиенте, и находимся вне рамок чьей-либо юрисдикции. Это понятно?
– Тогда кто курирует институт? – спросил Михаил.
– Для тебя и меня его курирует ряд ИИ-агентов, роботов, которые действуют от лица неизвестного нам заказчика. И я настоятельно рекомендую тебе не копать в эту сторону. Это первое правило, которое нужно запомнить. Окей?
– Разве ИИ-агенты не подчиняются только правительству и Аллиенте, работающей в интересах общества?
– Ты уже копаешь – шутливо заметил Мэт. – Но я отвечу, чтобы тебя не мучили догадки. Как я тебе говорил при первой встрече, есть работа, которую не могут выполнять ни люди, ни ИИ-агенты. Это связано с конфликтами личных интересов людей и конфликтами алгоритмов Аллиенты. Для такой работы есть люди вне системы и ИИ-агенты, которые могут работать в обход некоторых правил. В конечном счёте, мы все работаем в интересах человечества, как бы не громко это звучало. Так что на этот счёт можешь не беспокоиться – ничего преступного мы здесь не делаем.
– Но зачем тогда такая секретность
– Видишь ли, не все действия имеют предсказуемые последствия. Мы работаем в области непредсказуемых результатов с высокой степенью риска. Протоколы EGT (Этические руководящие принципы для искусственного интеллекта) имеют некоторые ограничения, которые не позволяют проводить такие исследования. С другой стороны, если технологии просочатся в общество трансгуманистов, это может привести к непредсказуемым рискам, а правительство такое вообще запретит, не говоря уже о научном сообществе и органах контроля искусственного интеллекта. А профсоюзы – сплошной ужас. Однако перспективы и возможности, которые открываются в случае успеха, покрывают все риски и возможные разногласия. Поэтому мы здесь.
– Но что тут такого происходит?
– Да, я всё издалека. Видишь ли, если я выложу тебе всё, ты точно сойдёшь с ума – с восторженными интонациями начал Мэт, и Михаил сразу вспомнил первую встречу. Безумный учёный – подумал он тогда и сейчас Мэт снова предстал перед ним в той же ипостаси.
– Видишь ли, всё, что нас окружает, не совсем реально. Материя – это не твёрдое вещество, а колеблющиеся энергетические решётки. Всё состоит из энергии, которая кажется материей из-за плотности и частоты этих решёток.
– Понятно, но пока ничего удивительного.
– Хорошо. Энергия создаёт и поддерживает структуру Вселенной, проецируя голограмму, которую мы воспринимаем как реальность. Всё связано и передаёт информацию с бесконечной скоростью, вне классических представлений о пространстве и времени. – Мэтью сделал паузу. Михаил понял, о чём речь, но оставался в поиске большего понимания. Мэтью продолжил:
– Энергия хранит и восстанавливает все элементы Вселенной, следуя определённому смыслу и обеспечивая эволюцию.
– Как это касается нас? – Михаил с нетерпением ждал разъяснений.
– Неужели у тебя нет вопросов непосредственно по теории? – Подумай. Это важно.
Михаил ещё раз подумал и спросил, то, что действительно было не понятно:
– Что значит, что Вселенная проецирует голограмму?
– Хороший и важный вопрос для дальнейшей работы. Реальность, на самом деле, является неким образом, созданным нашими органами чувств и сознанием. Это похоже на голограмму, она не отражает истинной природы вещей, большая часть явлений остаётся для нас не осязаемыми и невидимыми. В физике есть концепция, что вся информация о Вселенной закодирована на поверхности и "проецируется" внутрь, чтобы создать тот мир, который мы видим. Таким образом, это не значит, что мир не существует, а скорее, что его восприятие и наша реальность – это результат того, как информация о Вселенной "проецируется" в наше сознание.
– Мы пытаемся заглянуть за грань восприятия? – попытался угадать Михаил.
– Нет, круче. Мы можем сами создавать реальность. Но не как в фильмах, ты не будешь гнуть ложки или читать мысли. Ты сможешь делать кое-что покруче.
– Хах! Что может быть круче? Всегда мечтал читать мысли, – поддержал шутливый тон Михаил.
– Подожди. Придётся немного углубиться в теорию, чтобы понять суть.
– Чтобы создать голограмму, движимая энергия должна взаимодействовать с неподвижной энергией. Когда энергия движется и сталкивается с неподвижной энергией, возникает интерференция. Это взаимодействие создаёт «картину», которую можно воспринимать. В нашем случае система в покое – это наша нервная система, которая сосредоточена в мозге. Меняя структуру энергии, создаваемой нашим мозгом, мы можем менять восприятие реальности. Круто, да? – сказал Мэт. Михаил, однако, не сразу понял, о чём речь.
Мэт продолжил:
– Наш разум – это тоже голограмма, которая настроена на голограмму Вселенной. Мы обмениваемся энергией с Вселенной, и это даёт нам сознание. Когда энергия проходит через поля, создаваемые нашим мозгом и органами чувств, голографические изображения «проецируются» на эти поля. Мы видим свет, слышим звуки и чувствуем запахи, потому что наш мозг и органы чувств способны «считывать» эту информацию. Так понятней?
– Да, но это всего лишь считывание. Мы ничего не меняем. Как я понял, можно перенастроить приёмник и услышать то, чего раньше не слышал, или услышать старые звуки по-новому, но не создать их. – возразил Михаил.
– Верно подмечено, но я немного забежал вперёд. Правое полушарие мозга действует как первичный рецептор для восприятия этой голографической информации. Оно работает нелинейно и не вербально. Левое полушарие, в свою очередь, помогает обработать эти данные, превращая их в дискретную, двумерную форму. Но фишка в том, что это работает в обе стороны. Мы не только можем считывать данные окружающей среды, но и передавать их обратно, кодируя реальность.
– Т.е. я могу загадать себе торт к чаю, и он появится? – пошутил Михаил.
– И да, и нет, – ответил Мэтью, не восприняв скепсиса. – Память и обработка информации происходят не в самом мозге, а в электромагнитном поле, которое он создаёт. Это поле – контейнер для данных, а мозг хранит только индексы, чтобы к ним обратиться. Поэтому мы не можем точно вспомнить каждое слово, но всегда можем найти нужную информацию, если знаем, как подойти к ней. Через гипноз, например, можно вспомнить детали событий, как бы давно они не произошли.
– Интересно, но всё равно не понятно. – сказал Михаил, продолжая слушать.
– Процесс сознания связан с полем. Мы не только воспринимаем информацию, но и можем её изменять, передавая обратно в поле. Мозг – не только приёмник, но и передатчик данных, создающий реальность вокруг нас. Если ты вообразишь торт, он будет существовать, но не как физический объект, а как образ в поле коллективной памяти. То есть вне твоего сознания, как в библиотеке. И, кстати, я могу даже попробовать его, если ты поделишься со мной ссылкой и на его вкус, – улыбнулся Мэтью.
– Это реально, уже есть доказательства? – спросил Михаил, не веря в услышанное.
– Да, – ответил Мэтью. – Вильям Макдугалл проводил эксперименты с крысами ещё два века назад. Он заставлял их искать выход из лабиринта. Первое поколение делало около двухсот ошибок, но с каждым новым поколением количество ошибок снижалось. Макдугалл предположил, что крысы передают опыт на генетическом уровне. Позже его последователи провели тот же эксперимент с крысятами из разных лабораторий, не связанных с предыдущими, и результаты были те же – складывалось впечатление, что крысы уже знали, как пройти лабиринт. Мы повторили этот опыт с крысами, а затем пошли дальше, работая с людьми.
– Это и правда впечатляет. – сказал Михаил. – Т.е. существует коллективный разум?
– Это не просто коллективный разум, – ответил Мэтью. – Это вселенская библиотека, к которой обращается всё живое, а возможно, даже не живое. Она содержит всё, что существовало или существует, включая мысли всех живых существ всех времён. Нужно лишь знать адреса ячеек. Так как память – это заполнение этих ячеек сознанием, то зная ключ к ячейке, можно менять реальность. Но, честно говоря, мы ещё не зашли так далеко. Наша задача проще.
– Ух, – Михаил перевел дух. Ему было трудно продолжать. Всё это было слишком отличным от того, что он знал и во что верил. Слишком много следствий, но больше вопросов, чем ответов. Мэтью молчал, давая время всё обдумать.
– Так в чем же суть нашей работы? – выдержав паузу, спросил Михаил
– Помнишь вопрос? Чем человек отличается от машины?
Михаил прокрутил в памяти диалог в кафе. Мэтью явно проверял его на сообразительность, и Михаил быстро понял смысл всего сказанного ранее. Всё внутри него вздрогнуло, но он не подал виду. – Вы хотите научить машины индексировать банки памяти, хранящиеся в поле информации за пределами сознания. Но я всё ещё не понимаю, как?
– Хорошая заявка, тепло, но нет, – ответил Мэтью. – Это как раз та опасность, которую представляет технология, если попадет в не те руки. Искусственному интеллекту нет дела до мыслей людей, для него мы и так понятны и предсказуемы до скучности. Машины не обладают манией власти, в отличие от людей. Подумай ещё.
Чуть поразмыслив, Михаил сделал следующее предположение:
– Вы хотите научить машины, подобно людям, производить вычисления в полевой среде и хранить информацию в поле, чтобы кратно увеличить вычислительные мощности и возможности обучения. Можно просто создать банк индексов и воссоздавать любые ИИ-личности, минуя процесс обучения и физические носители памяти огромного объема. – Михаил осенило! – О боже, в теории можно хакнуть человека и создать его цифровую копию, помещенную в оболочку робота!
– Бинго! Что может быть круче вечной жизни?
Михаил был поражен. Но ему вдруг пришла мысль, что всё это не с ним. Это либо шутка, либо правда. Бинго – он выиграл счастливый билет. Комната поплыла, дыхание сперло.
– Чтож, я вижу, у тебя на лбу появилась испарина, – Мэтью встал из-за стола и по-отечески положил руку на плечо.
– Подожди, это мы только начали, ты ещё не такое узнаешь.
– Что дальше? – спросил Михаил.
– Дальше подготовка, обучение и практика. Тебе предстоит познакомиться с технологией. Ты должен знать, чтобы не было вопросов. Были и другие группы, мы пробовали разное, не всё всегда было гладко. Сейчас мы набираем новую группу и объединяем опыт многих лет. Тебе повезло, кое-кто заплатил физическим и ментальным здоровьем. Готов ли ты двигаться дальше, если я скажу тебе, что ты рискуешь не просто жизнью, а своей душой? Это говорит тебе о чём-то? Не торопись с ответом, прислушайся к интуиции. Если начнешь – остановиться будет нельзя. Сейчас ещё можно отказаться и забыть этот разговор.
Михаил попытался успокоиться, мысли роились в голове. Он представлял людей в оболочках роботов, роботов с интуицией, ментальные войны, переписывающие генетическую память, и с трудом сосредоточился. Минуты шли, и в какой-то момент, сфокусировав взгляд на одной точке, он сказал:
– Да, я готов
– Вот и отлично! – спокойно ответил Мэтью, вернувшись к столу и достал планшет
– Вот договор. Цифровой, тут всё как полагается. По нему ты завещаешь своё тело и разум институту. Что бы с тобой не случилось в этих стенах – это вне чьей-либо юрисдикции. Твоя жизнь полностью принадлежит институту, пока ты за этим забором. За его пределами ты ограничен только подпиской о неразглашении. Так как ты без Окулуса, подпишешь дома, а через 3 дня приезжай сюда, начнем работу. Михаил не стал читать документы в кабинете – всё и так было понятно. Они пожали друг другу руки, и Михаил вызвал такси домой, обдумывая предстоящее.
Глава 6. Зеркала
Отведенные три дня на раздумья Михаил решил посвятить Анне. Будущее оставалось неопределённым, и, учитывая, что в Институте был целый этаж для проживания, это наталкивало на мысль, что такая предусмотрительность не случайна. Возможно, в будущем ему предстоял переезд и изоляция.
Встретиться удалось только в один из этих дней. Свидание планировалось скромным, но запоминающимся. Молодая пара отправилась на пикник за город. Кемпинг с купольным домиком из прозрачного стекла располагался на берегу живописной реки, которая начиналась где-то в горах, примерно в 300 километрах вверх по течению. Поэтому течение было сильным, а выше по реке располагались пороги, по которым спускались любители экстрима.
Из кемпинга можно было наблюдать за теми, кто уже преодолел это сложное испытание и теперь спускался ниже по течению, наслаждаясь покоем и впечатлениями от пережитого. Такой отдых, сопряжённый с риском, способствовал большому всплеску адреналина, дофамина и тестостерона – одним словом, «всему салату гормонов», что благоприятно влияло общее самочувствие и коэффициенты, помимо непосредственного удовольствия от экстрима.
Электрический мангал жарил сосиски, а на горизонте проходила воздушная трасса для дронов. Шум от неё был не слышен из-за расстояния, а с закатом трасса превращалась в зрелищный поток огней, огибающих полукругом весь простор северного горизонта. Анна и Михаил, приобнявшись, лежали на пледе, растянутом на траве, и ожидали, когда будет готов обед.
Разговор начался с обсуждения выставки. Анна была под впечатлением от того, что им удалось организовать всё так успешно, и, получив важную обратную связь, Михаил решил узнать её мнение о Мэрилине.
– Мне кажется, он, как бы это сказать… выскочка. Привлекает к себе много внимания, вряд ли за этим стоит что-то серьезное, – безапелляционно заявила Анна.
Михаил не стал спорить. Это потребовало бы объяснений, а так недалеко и до лишних подробностей и оговорок. Он просто небрежно ответил:
– Первое впечатление часто обманчиво. Мне он показался интересным.
– У него совсем нет чувства такта и уважения к личным границам, – добавила Анна с некой скрытой обидой.
– Да, это может задеть, – согласился Михаил, закрывая тему, но Анну это не успокоило.
– Это вообще вызывающе. Не люблю таких.
Михаил почувствовал в её голосе раздражение, но не мог понять, что именно его вызвало. Мэрилин ему симпатизировал и ему предстояло доверить ему свою судьбу. То же можно было сказать и об Анне. Поэтому он решил всё же уточнить:
– Чем же он успел тебя так задеть?
– Да вообще, – кратко, но эмоционально резюмировала Анна.
– Конкретней. Мне правда не понятно, – мягко уточнил Михаил.
– Ну, например, он протянул мне руку.
– И что в этом такого? – искренне удивился Михаил.
– А если я вообще не хочу его трогать? Может, я не люблю, когда ко мне прикасаются посторонние. И ещё, с таким внешним видом… Что мне делать? Не пожать руку будет крайне невежливо, а пожать – неприятно. По этикету инициатива должна исходить от девушки, а не от мужчины.
– О! Я даже и не думал об этом, – резюмировал Михаил и решил закрыть тему, подойдя посмотреть на сосиски.
Таймер показывал, что они вот-вот будут готовы. В этот момент с балкона небольшого домика вылетел дрон-повар, который вежливо уточнил, не хотят ли гости накрыть стол сами. Михаил дал согласие, чтобы отвлечь Анну от неудобной темы.
После короткого обеда, немного отдохнув и понежившись на солнце, Михаил и Анна продолжили отдых. Неназойливый дрон-повар убрал со стола и вернулся на свою зарядную станцию, не мешая людям своим жужжанием.
– Как твои успехи с работой? – спросила Анна.
– Если честно, кое-какие успехи есть. Я выхожу на стажировку на днях.
– Поздравляю! – поддержала его Анна. – Что за работа?
– Ты знаешь, забавное совпадение… О моей работе, как и о твоей, тоже нельзя распространяться.
Наступило неловкое молчание. Михаил нутром чувствовал, что Анну раздирает любопытство, но её этика не позволяла задать вопрос, и он сам спонтанно начал разговор.
– Ничего особенного, просто подработка в одном институте, который изучает психологические аспекты взаимодействия искусственного интеллекта и человека. Я там в качестве подопытного.
Анна крепче прижалась к Михаилу, как бы поощряя его откровенность.
– Поздравляю! Это правда что-то интересное.
– Спасибо! Откровенность за откровенность. А ты расскажешь немного о своей работе?
– Моя работа более скучная, и мне приходится работать с жуткими снобами. Я предпочла бы взаимодействовать с машинами, чем с людьми.
– Тем более любопытно, – немного надавил Михаил, настаивая на продолжении.
– Ну, вообще-то я работаю в небольшой компании, которая оказывает посреднические услуги в доставке продуктов питания из коммун отказников в зону Трансгуманистов.
– Ого! Ты бывала в коммунах и общалась с киборгами?
– Нет, в коммунах я не была, а Киборгов не видела. Моя работа – бумажная. Я принимаю заявки от разных заказчиков, формирую их в единое техническое задание, потом смотрю отчеты от коммун по запасам доступных на продажу продуктов и распределяю исполнение заказов между поставщиками, с учетом сроков и остатков. Далее передаю их другому человеку, который каким-то неизвестным мне способом передает заказы в коммуны, и спустя время пища поступает заказчику.
– Звучит сложно, – подытожил Михаил, услышав быструю тираду, отражающую всю скучность процесса.
– Это ещё не самое сложное. Потом я разбираю претензии. Молоко не той жирности, овощи чуть подгнили, мясо не такое мягкое, недовес, перевес или яйца побились в пути. Будто это я всё сама, своими руками, гружу и везу.
– Зато ты делаешь что-то полезное. Я, когда искал работу, встречал мало чего-то стоящего, чего-то, что даёт тебе причастность к чему-то большему, чем ты.
– Моя работа – это только я и другие такие же, как я, сидящие в кабинете и обрабатывающие подобные заявки в других отраслях. Я не чувствую себя причастной, только винтиком какой-то большой машины, предназначение которой я не понимаю. Я не вижу мира дальше своего кабинета, микрорайона и города.
– Почему ты не путешествуешь?
– Я путешествовала, но это всё то же самое, только в другом месте.
Михаил задумался. "То же самое, но в другом месте." Может, поэтому он так быстро забросил свою мечту, истратив весь свой запас Гейтсов? То, что он нашел внутри себя, было грандиознее и значительнее любой пирамиды в Гизе, Парфенона в Греции или Тадж-Махала в Индии.
Что бы ему дало это путешествие? Больше эмоций, воспоминаний на год, которые спустя время заполнились бы той же пустотой, которую нужно было бы заполнить новым приключением того же сорта. Хорошо то путешествие, меняет тебя изнутри. Оно не привязано ни к месту, ни к времени, а только к восприятию самого себя. Такой вывод сделал Михаил и поделился им с Анной, и она поддержала его мысль. Обоим и хотелось иного, отличного от обыденности опыта, что сближало их друг с другом.
Они сходили к реке и искупались в прохладной воде. Несмотря на июньский летний зной, вода в реке оставалась холодной всё лето, так как её истоки были в горах. Вдоль реки гуляли горные ветры, приносящие запах хвойной тайги с юга.
Льды горных шапок Алтая давно растаяли, но высокогорный климат по-прежнему оставался прохладным. Регулярные дожди продолжали питать реку, поддерживая её полноводность.
Где-то далеко в горах находился купольный заповедник, защищающий последний уголок ледника на вершине Мунх-Хайрхана от прямых солнечных лучей. Климат Сибири в 22 веке стал мягче. Зима теперь длилась всего три месяца.
В то же время экваториальные и субэкваториальные зоны планеты сталкивались с менее благоприятными последствиями. Одни регионы затопляло поднимающееся море, в других происходило опустынивание, а где-то неизгладимые последствия войн превратили землю в опасные пустоши – районы, усеянные неразорвавшимися снарядами, радиоактивными зонами и заброшенными городами-призраками, восстановление и заселение которых было признано нецелесообразным.
Где-то там, в другом мире, люди жили иной жизнью, лишенной электрогрилей, дроновых трасс, очков Oculus, доступного образования и медицины. Да что там, в некоторых регионах не было ни еды, ни воды и люди по-прежнему буквально выживали. Мировое правительство отправляло гуманитарные грузы, но большая их часть попадала в руки бандитских формирований.
Темный 21-й век человечества сменился Платиновым веком процветания, но не для всех. Разрыв между различными слоями общества оказался настолько глубоким, что преодолеть его было почти невозможно, несмотря на усилия обеих сторон искать компромисс и соприкоснуться цивилизациями во взаимном симбиозе, где-нибудь на территории Мертвой Пустыни Гоби, вечно воюющей Центральной Африки или изолированно непреодолимой стеной Мексики.
Михаил вышел из воды раньше и украдкой наблюдал за купанием Анны и ее идеальными формами, напоминающими античные статуи времен Древней Греции, предвкушая романтический вечер под звездами и страстную ночь, которой не было в его жизни очень давно, а возможно и вовсе никогда.
Его больше не занимали мысли о том, что будет дальше и что может быть где-то там, где его нет. Важнее было то, что происходило здесь и сейчас. Однако где-то в глубине подсознания он понимал, что это не может длиться долго – скоро жизнь приобретет прежний темп, который начал ему нравиться.
Ложась на песок и закрывая рукой глаза от Солнца, он поймал себя на мысли, что в этот момент он счастлив, как не был счастлив еще никогда на свете, как те гребцы, что спокойно плывут по течению, преодолев опасные речные пороги.
После купания, Михаил и Анна, держась за руки поднялись с берега обратно к уступу, где была расположена их кемпинговая зона, заказали на Ужин Форель с местной рыбной Фермы и легли обратно на свое прежнее место, чтоб обсохнуть. Разговор продолжился.
– А ты видела этих трансгуманистов? Кто они, как они живут?
– Да, но мне не приходилось общаться с ними плотно, да и вообще вряд ли кому-то это удавалось.
– Почему?
– Они поглощены своим цифровым существованием, забыв о реальности, в которую не хотят возвращаться, избегая общения с людьми не из своего круга.
– Чем они вообще занимаются?
– Они как древние монахи Тибета, только в цифровом мире. Ищут что-то за пределами сознания. Альтернативные способы мышления, расширение сознания с помощью VR технологий через звук, свет, нейролинк и ноотропы. Как я поняла они выходят за пределы разума и путешествуют в своих альтернативных мирах.
– И что они там ищут?
– Не знаю. Мне кажется, все это бредом.
– Да, согласен. Лучше жить здесь и сейчас. Тогда почему они едят натуральную пищу? Какая им разница, если они погружены в другой мир? Не складывается.
– Не знаю. Многие из них – ключевые акционеры крупнейших мировых компаний или напрямую являются членами мирового правительства. Мой отец и мать говорят, что вся политика уже давно строится где-то вне этого мира, отсюда и её оторванность от нас.
– Это типа метафора?
– Не знаю.
– Думаешь, есть другие миры? Ну, инопланетяне там всякие, призраки?
– Не знаю. Хотелось бы верить, что мы не одни, но сколько человечество не искало, пока никого нет. И вряд ли VR может быть порталом в другие миры.
– А слухи о раскопках на Марсе и странных артефактах?
– Если там кто-то и был, они уже как миллионы лет мертвы.
– Оптимистично, – с сарказмом заметил Михаил. – Расскажешь о своих родителях?
– Мой отец, как и дед, – чиновники. Дед прошёл Третью мировую и после ранений оказался в восстановительном комитете, где и остался. Его направили в политику – вроде бы как временно, но всё затянулось. Отец пошёл по накатанной, уже без сомнений, получив соответствующее образование, выбрав карьеру и налаживая еще во время учебы правильные контакты. Он всегда был точным, сдержанным, уравновешенным. В его жизни не было лишних движений.
– А мама?
– Совсем другая история. Она родилась здесь, в России, но её корни – европейские. Бабушка переехала после войны, когда прежняя Европа трещала по швам, но у них остались связи – и, как ни странно, они не обрывались. Мама унаследовала фамильное состояние – фонды, активы, доли в старых корпорациях. Всё это казалось мне чем-то не совсем настоящим, как будто это где-то «там», в другой реальности. Но деньги приходили, и приходят до сих пор. Иногда – даже не деньги, а возможности. Поддержка, которую просто не видно. Тёплые рекомендации, приглашения, помощь в нужный момент. Незримая сеть, как если бы кто-то невидимый всё время смотрит за нами, чтобы мы не упали. У ней всегда есть нужный человек, для ситуации любой сложности.
– Ого! Твоя мать оказала нам сильную медийную поддержку во время выставки, но сама не пришла. Как ты к этому отнеслась?
– Как к чему-то, что есть и всегда было. С детства мама брала меня с собой в Европу – чаще всего во Францию и Великобританию. Там всё было иначе: старинные дома, приёмы, конференции, люди, говорящие сразу на трёх языках. Я тогда училась молча сидеть и слушать. Мама никогда не вмешивалась в мой выбор, но, думаю, она хотела, чтобы я тоже научилась ориентироваться в вопросах светского общества. Английский и французский стали для меня почти родными – я с ними росла. Но при этом она всегда держалась отстраненно, так что я не удивлена и не обижена.
– Она работает в культуре?
– Формально – да. Но это не работа в привычном смысле. Она курирует гуманитарные инициативы, сотрудничает с миссиями, фондами, участвует в переговорах на высоком уровне, помогает организациям, которые на словах никак между собой не связаны. Это больше похоже на неофициальную дипломатию. Она никогда не говорит о том, чем именно занимается. Просто действует. Всегда сдержанно, точно и красиво. Я даже не уверена, осознаёт ли она сама весь масштаб ее деятельности, хотя она этим гордится.
– Почему бы ей не гордится? Звучит серьезно
– Каждый должен достигать чего-то сам. Так она всегда говорила. А кто твои родители?
– Мой отец ушёл из семьи, когда я был ещё мал. Я даже не помню его. Не знаю, жив ли он вообще. Просто исчез – без скандалов, без объяснений. Осталась только фотография и пара фраз, которые мама повторяла на автомате. Бабушки и дедушки погибли во времена войны – кто от голода, кто от пандемии. Так что рассказывать особо не о ком.
– Сочувствую. А мать?
– Она умерла. Не дожила до сорока. Мне тогда было девятнадцать. Врачи сказали – рак. Но началось всё гораздо раньше.
– Она чем-то болела ранее?
– Праздностью, – сдержанно сказал Михаил. – Отсутствие опоры, смысла и усилий. Она не смогла встроиться в новый мир. Ей всё казалось фальшивым, театральным, с надрывом. Коэффициенты, анкеты, системные роли – она это отвергала. Не из протеста, просто не верила.
– А кем она была?
– Человеком с тонким вкусом и талантом, но без вектора. Играла на фортепиано, писала стихи, знала языки. Говорила красивыми цитатами, всегда живя в образе. В доме всегда звучала музыка, висели афиши старых постановок, книги лежали стопками. Первое время она ещё что-то пыталась – ходила на мероприятия, вела какие-то лекции, встречалась с коллегами, которые остались после войны. Но всё быстро стало казаться ей убогим, натянутым. И она выбрала другой путь – не бороться, не перестраиваться. Просто красиво жить.
– Красиво?
– По-своему. Употребление ноотропов, веселье, мужчины, внимание, сигареты – это было частью образа. Потом пошли вещества серьёзнее, более опасные. Но всё с улыбкой. Для нее это было не как падение, а скорее, как драматургическая роль, играя которую она скатывалась вниз легко и с юмором. И никто её не останавливал. Она была не одна – просто никому не было дела.
– А ты?
– Я был рядом. Но она мной не интересовалась. Не враждебно – просто зачастую не видела. Я был фоном, ребёнком, которого София водила в школу и укладывала спать. Мне тогда казалось, что я сам по себе. Без объяснений, без диалогов, без контакта. Я просто был – в её доме, но не в её мире. Она конечно общалась со мной, иногда гладила и говорила теплые слова, но этого было мало. Я всегда чувствовал, что она видит во мне отца, которого она не может простить.
– Ты злился?
– Нет. Скорее – ждал. Хотел быть с ней ближе. Хотел, чтобы она обратила внимание, что я рядом, что я расту и что я не отец. Но этого не случилось. И это одиночество залипло во мне надолго. Я пытался быть таким, кем она бы могла заинтересоваться – умным, тонким, чувствительным. Но это тоже не сработало. И когда всё начало рушиться, я уже не был собой и после ее смерти сам пошёл по ее же пути.
– Но не ушёл?
– Нет. В какой-то момент остановился. Осознал, что теряю себя. Перестал гнаться за её одобрением, за её вниманием, которого никогда не было. Ушёл в мысли, в фантазии, в философию. Но, по-честному, я так и не нашёл себя. Просто не провалился. Застрял где-то между.
– Это больно. – Поддержала Анна.
– Уже нет. Просто пусто. Как если бы кто-то должен был заложить в тебя фундамент, а вместо этого дал красивую обложку без содержания. Я люблю её. Она была моей матерью. Но всё, что у меня осталось – это ее молчаливо осуждение. И несколько теплых фраз, в которые я не верю.
– Меня тоже это беспокоит. Мне кажется, я живу такую же жизнь, и, если я умру, никто не придет забрать в Крематорий мой прах, чтоб закопать его или развеять по ветру, никто не поставит в моем профили в социальных сетях траурную тему и вовсе не заметит, что меня больше нет.
– Да, это пугает. – Коротко резюмировал Михаил.
– Но мы такими не будем, – уверенно сказала Анна. – Мы обязательно что-то придумаем.
– Не сомневаюсь. – сказал Михаил и повернувшись лицом к Анне, поцеловал её в щеку. Он хотел бы продолжить, но заметив легкое смущение в её глазах, сдержался, просто крепче сжимая её руку.
– Давай помечтаем, – предложила Анна, минуя небольшую заминку.
– О чем?
– О будущем. Каким оно будет, наше будущее? – спросила Анна с ноткой беспокойства в голосе.
– Не знаю. Сложно представить, когда не знаешь толком, чего хочешь. Думаю, было бы идеальным для начала найти работу мечты, дом мечты и верных друзей.
– Дом у моря, с садом, собакой и небольшим парком.
Михаил невольно вспомнил институт с его прудом и маленьким парком, огороженным забором. Но он не стал развивать эту мысль. Вместо этого продолжил:
– Да, я тоже люблю собак. Лабрадора.
– Да, хорошая собака. Михаил всегда хотел собаку. Но в условиях Мегаполиса, это была не легкая затея. Собаки не могли свободно гулять во дворе, их нужно было выгуливать. Собака обязательно должна была иметь паспорт и проходить плановые осмотры. Собаке нужен корм, уход, а еще если ее она надоест или он не сойдется с ней характером, ее придется терпеть – так гласит закон, за которым строго следят. Если поручить все это Софи или арендовать другого робота, который будет все делать – Зачем тогда собака, зачем вообще собака, которую запирают в одной клетке вместе с человеком. В мечтах Михаила Собака – это спутник человека в его делах и его приключениях, но в реалиях мегаполиса, по мнению Михаила, собака была – просто милым предметом интерьера.
– И что мы будем делать в этом доме? – Продолжил диалог Михаил.
– Не знаю, что-нибудь полезное. Может, писать книгу или принимать гостей, может, выращивать цветы.
– А как мы станем известны?
– Нам не нужна будет известность. Мы будем свободны и от известности, и от безвестности. Потому что мы будем не здесь и не там. Мы просто будем, и нам будет все равно.
Михаил задумался. Каково это могло бы быть? Он вспомнил свой момент счастья на берегу. Да, действительно, так может быть.
– Почему бы нам тогда просто не уехать от всего и жить, как живут коммунисты в своих коммунах?
– Зануда, дай просто помечтать, – шутливо бросила Анна и слегка подтолкнула Михаила.
Михаил не обиделся и решил перевести разговор в более легкие и пространные беседы. Его буквально прорвало на слова. Он рассказывал о разных вещах, обо всем, что узнал в ходе своих поисков и раздумий в мнимой профессии философа, об истории, науке, безумных идеях гениальных людей, изменивших мир, и самих людях. А Анна просто слушала, положив голову на его плечо.
Постепенно речную долину накрыл теплый летний вечер, зажглись звезды, и они продолжили разговор о звездах, любуясь лентой дронов на горизонте, уходящей далеко на север к ресурсным месторождениям и производственным районам, вынесенным за пределы полярного круга, а некоторые из них следовали через Северный Ледовитый океан в Антарктиду.
Льды Антарктиды значительно растаяли, обнажив черты древнего и ещё неизведанного континента. Люди там по-прежнему не жили, но теперь там кипела иная жизнь. Множество машин добывали природные ископаемые, которые располагались не так глубоко, как в Старом Свете, грузили их на баржи, которые везли их к северным логистическим портам.
Колыма и Индигирка, Лена и Хатанга, Енисей и Обь превратились в транспортные артерии, а транссибирская магистраль стала Хребтом всего Континента, снабжая ресурсами весь Евразийский континент – от предгорий Тибета на Востоке до Средиземного моря на Западе.
Магнитопланы транссибирской магистрали перевозили более 360 тонн груза каждый год, что вдвое превышало довоенные нормы. Дроны возили туда-сюда запчасти и продукцию оперативного или локального характера, избегая хранения лишних запасов, оптимизируя логистику небольших поселений и выполняя заказы частных заказчиков.
Но Михаила и Анну это не интересовало. Они уединились в купольном домике и отдались друг другу под звездным небом. Огни мегаполиса были где-то далеко. Анна уснула, а Михаил в этой звездной ночи чувствовал, как к его душе подступает нечто тёмное и необъятное. Оно было не пугающим и неприветливым, оно было просто огромным и необъятным. Что-то большее, чем звёзды над его головой, шумящая под обрывом река и эта счастливая ночь.
Михаил аккуратно встал и оделся, чтобы выйти на воздух, и ещё раз посмотрел на небо. На миг ему показалось, что где-то там его настоящий дом, и он зовёт его, а Институт – его промежуточная станция.
Вернувшись внутрь, он долго не мог уснуть. Тело лежало рядом с Анной, но сознание кружилось где-то между неоном мегаполиса, прохладой реки и мягким теплом чужой ладони. Он не знал, как назвать то, что чувствует. Впервые за долгое время ему не хотелось анализировать, фиксировать, разбирать. Он просто чувствовал.
На следующее утро, когда они проснулись, всё казалось иначе. Завтрак был тёплым, взгляд – мягким, а дыхание – общим.
В последующем, уже во времена первых дней работы в Институте, их совместные дни всегда начались без планов и проходили спонтанно, но насыщенно, заканчиваясь как правило долгой прогулкой по парку перед сном.
На первых порах их прогулки не казались чем-то особенным. Михаил, не привыкший к частому живому общению, поначалу даже уставал – слишком много информации, эмоций, ожиданий. Анна, наоборот, будто расцветала. Она говорила быстро, сбивчиво, но искренне. Хотя чаще предпочитала слушать, особенно когда Михаил увлечённо делился своими размышлениями. Он говорил много, с жаром, словно боялся, что его мысли исчезнут, если их не озвучить. В ней он находил внимательного слушателя, не спорящего по пустякам, но способного остановить и возразить, когда тема касалась чего-то важного для неё.
Их разговоры часто превращались в философские споры – о свободе, системе, природе счастья. Анна отстаивала эмоциональную правду, Михаил – логическую стройность. Они редко приходили к согласию, но не стремились к нему. Когда разногласия достигали точки накала, споры часто заканчивались обидами. Но ни Михаил, ни Анна не придавали этому большого значения. Жар спора постепенно отмывал накопившееся раздражение, и уже через день-два интерес к новому снова брал верх над остатками старого недовольства. Они не пытались убедить друг друга – просто возвращались к диалогу, как будто ничего не произошло, позволяя чувствам перетекать в новый виток жарких диспутов.
Они сидели на лавочке у небольшого искусственного водоема. Михаил смотрел, как ветер играет на поверхности воды, а Анна рассказывала о детстве. Ее голос дрожал от злости и растерянности:
– Я не знаю, кем быть. Всегда было важно, как я выгляжу, с кем дружу, что думаю. Мама говорила, что дружить с детьми обычных служащих – это слабость. А папа вечно твердил, что "мы под наблюдением, Анна", и что девочка из семьи чиновника не должна вести себя как актриса из драмы.
Она замолчала, затем вдруг засмеялась:
– А я ведь всегда мечтала стать актрисой. Не всерьёз, конечно, просто хотела иметь право кричать, плакать, любить, не объясняясь.
Михаил посмотрел на неё внимательно:
– Ты и так умеешь это. Ты заставляешь меня чувствовать. Это больше, чем делают актёры.
Анна покраснела, но не отвела взгляда. Ее эмоции были как вспышки в темноте – резкие, живые, непривычные. Михаил ощущал их, словно тепловые волны: не всегда понимал, но неизменно чувствовал. Рядом с ней он начал впервые по-настоящему ощущать: вкус, цвет, ритм города. Прежде его восприятие было аналитическим, мир сводился к структурам, а теперь – запах кофе, шаги в парке, тональность её голоса – всё было наполнено смыслом.
Анна тоже менялась. Михаил уговаривал её выходить из дома, знакомил с людьми, которые не имели никакого отношения к миру чиновников. Он однажды повёл её в андеграундный клуб, где играли живую электронную музыку. Она смущалась, но осталась. Танцевала с закрытыми глазами, отпустив все маски. Потом, в ту же ночь, они долго шли пешком по спящему городу, и она впервые обняла его сама.
– Мне страшно быть собой, – прошептала она. – Я даже не знаю, кто это – я. Ты как будто выводишь меня наружу.
Михаил не знал, что ответить. Он просто взял её за руку. И тогда, в первый раз, он почувствовал – её дрожь, тепло кожи, её тревогу – как своё собственное чувство. Это и была любовь.
Первые дни совместной жизни стали удивлением. Михаил заметил: показатели Гейтсов выросли. Их пара получила высокий рейтинг – не за внешнюю картинку, а за эмоциональную синхронность. Система считывала ритмы тела, химические реакции, взаимные реакции – и всё говорило о том, что они были не просто совместимы, а усиливали друг друга. Но Михаилу было всё равно. Он наконец жил – чувствовал, ошибался, злился, радовался.
Анна же училась принимать спонтанность. У неё появилось хобби – она стала снимать не только пейзажи, но и людей на улицах, незнакомцев, случайные моменты. Она говорила:
– Раньше мне казалось, что все смотрят, оценивают, ждут, что я должна быть идеальной. А теперь мне нравится снимать то, что никто не видит. В этом – свобода.
И Михаил понимал: она начала быть собой. А он начал – чувствовать.
Однажды утром, проснувшись, Михаил увидел, как она спит, уткнувшись лбом в подушку, и подумал: "Я наконец живу не идеей, не вопросом, не мыслеформой – а живым человеком".
Глава 7. Компас
Михаил прибыл в Институт в назначенный день, чуть раньше назначенного времени. Ворота были открыты, а на небольшой внутренней парковке стоял электромобиль. Владеть личным транспортом было почти фантастикой. Это была либо демонстрация исключительного статуса, либо принадлежность к ведомству. Он задумался – принадлежит ли машина Институту или кому-то из сотрудников.
У открытых ворот стоял гуманоидный робот-консьерж. Серый корпус без имитации кожи, типовая гражданская модель, таких ставили у отелей, вокзалов, административных зданий. Однако здесь в движениях машины чувствовалась аномальная плавность – более свойственная дорогим промышленным сервоприводам.
– Приветствую, Михаил. Меня зовут Вест. Проходите, вас уже ожидают, – вежливо произнёс робот и указал рукой на Аллею.
Он не кланялся, не улыбался, не играл в человека – просто выполнял функцию, и это показалось Михаилу даже приятным. Вест был ровным. Надёжным. С последнего визита Двор института ничуть не изменился: всё так же – чисто и тихо. Листья деревьев шелестели, а качели и груша для битья еле заметно покачивались на ветру.
Михаил пересёк двор, поднялся по ступеням и вошёл в гостиную. Внутри он сразу почувствовал оживленную атмосферу ожидания. До начала оставалось около 15 минут и пространство было наполнено каким-то суетным настроением. Михаил искал среди присутствующих Мэтью, но не нашел его. Выбрав стул чуть поодаль, он присел, сложив руки на коленях. Думать не хотелось – только наблюдать.
Через несколько минут в гостиную вошла женщина в одежде с этническим узором. Свободная накидка, тканевый браслет, плавная походка – всё в ней было рассчитано на то, чтобы не создавать напряжения, но в ее голосе звучала твёрдость.
– Здравствуйте! Меня зовут Эльза. Я ваш куратор по ментальному здоровью.
Сделав паузу, Эльза оглядела присутствующих.
– Прежде всего – благодарю вас за смелость. Ваш приход сюда – не случайность. Это важный шаг, который мы ценим.
Она продолжила мягко и с сочувствием:
– Каждый из вас – человек, который по-своему соприкоснулся с тем, что общество называет альтернативной реальностью. Будь то мистический опыт, технологический прорыв на грани реальности, личный кризис или откровение – вы те, кто знает, что за завесой привычного мира может скрываться нечто большее.
Отойдя в сторону и меняя интонацию, чтоб в ней слышалась академическая строгость она продолжила:
– В центре нашего исследования тонкое, но мощное явление, которое мы называем «Тульповодством». Что это такое? Это практика сознательного создания мыслеобраза, обладающего автономией.
Эльза замедлила речь, чтоб подчеркнуть важность и мечтательно чуть задрала голову вверх и влево.
– Тульповодство, это практика, уходящая корнями в Тибет. Туда, где монахи умели формировать мысленные конструкции настолько отчетливо, что другие могли с ними взаимодействовать.
– Тульпа – это не просто «воображаемый друг», а структура сознания. Живая, мыслящая, отдельная от вас – но созданная вами. Она может иметь свой голос, логику и память, а также иногда и желания. Если вы чувствовали в себе когда-либо чьё-то присутствие, знайте, что это не безумие, а приглашение. Приглашение к исследованию самой глубокой материи, какой только располагает человек – своего сознания.
Её голос стал чуть тише.
– Важно понимать, что тульпа не иллюзия и не психическая ошибка. Она не просто игра разума и плод воображения, а результат направленного внимания и длительной фокусировки. Многие из вас, сами того не осознавая, уже создавали образы, которые жили внутри в виде голоса интуиция или внутреннего наблюдателя. Сейчас мы предлагаем найти в себе такую мыслеформу и признать её. Давайте закроем глаза и представим.
Эльза прошла по залу, медленно, не спеша, как будто проверяя связь с каждым. Проведя недолгую полу медитативную практику визуализации, она продолжила:
– Наша задача – это не просто технология, это пересечение многих наук и того, что ранее считалось мистикой и эзотерикой, не относящейся к общепризнанным научным знаниям. Проект, в который вы вовлечены, требует ментальной подготовки. Вам предстоит создать внутри себя самостоятельный, живой, наполненный символами и намерением образ. В будущем он станет вашей точкой взаимодействия с машиной, став вашим творением и вашей тенью. Именно поэтому я здесь.
Улыбнувшись едва заметно
– В ближайшие дни я проведу с вами ряд практик – дыхательных, телесных, йогических. Это не просто упражнения, а инструменты фокусировки, позволяющие очистить внутреннее пространство от шума, чтобы образ, который родится, был ясным. И здесь я хочу предостеречь, тульповодство – практика не безобидная.
Когда ментальный образ формируется бессознательно, он часто становится проекцией подавленного, вытесненного, неизжитого. И тогда он начинает брать на себя не роль партнёра, а роль паразита – сжирающего ресурсы психики, влияющего на биоритмы, сон и гормональные реакции, что во конечном счете изменяет восприятие реальности. Вы начинаете слышать его, когда не хотите. Видеть, когда устали. Реагировать на мир – чужими чувствами.
– В клинической практике это называют интрузивной активностью. В ваше сознание проникают навязчивые образы, мысли или голоса, которые вы больше не способны контролировать. Они воспринимаются как чужеродные, но при этом эмоционально насыщенные, иногда пугающие. Такие проявления могут нарушать целостность "Я", сбивать внутренний ориентир, особенно если образ не был интегрирован должным образом











