Читать онлайн Смотритель
- Автор: Энтони Троллоп
- Жанр: Литература 19 века, Зарубежная классика
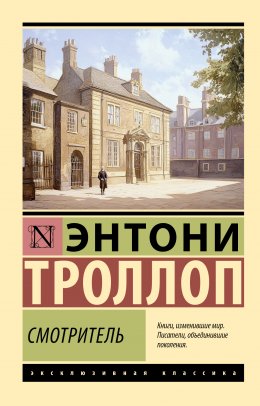
Anthony Trollope
THE WARDEN
THE TWO HEROINES OF PLUMPINGTON
THE RELICS OF GENERAL CHASSE
© Перевод. Е. Доброхотова-Майкова, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Смотритель
Глава I
Хайремская богадельня
Преподобный Септимий Хардинг еще не очень много лет назад был штатным священником в кафедральном городе *** – назовем его Барчестер. Скажи мы «Уэлс», «Солсбери», «Эксетер», «Херефорд» или «Глостер», в нашей истории могли бы усмотреть намеки на конкретных лиц, а поскольку речь у нас пойдет о соборном духовенстве упомянутого города, мы желали бы отвести любые подобные подозрения. Давайте считать, что Барчестер – тихий городок на западе Англии, примечательный более красотою собора и древностью зданий, нежели коммерческим процветанием, что западную его часть занимает собор с примыкающими строениями и что высший барчестерский свет составляют епископ, настоятель и каноники с женами и дочерьми.
Мистер Хардинг жил в Барчестере с юности. Красивый голос и любовь к церковной музыке определили его призвание, так что долгие годы он состоял в необременительной, но малодоходной должности младшего каноника. В сорок лет он получил маленький приход неподалеку от города, что прибавило ему и денег, и обязанностей, а в пятьдесят сделался соборным регентом.
Женился мистер Хардинг рано; его старшая дочь, Сьюзен, родилась вскоре после свадьбы, младшая, Элинор, – лишь десятью годами позже. В то время, когда мы представляем мистера Хардинга нашим читателям, он жил с младшей дочерью, в ту пору двадцати четырех лет; жена его скончалась давным-давно, а старшая дочка вышла за епископского сына незадолго до того, как мистер Хардинг получил место регента.
Злая барчестерская молва утверждала, что когда бы не красота старшей дочери, ходить мистеру Хардингу в младших канониках до конца дней, однако молва, вероятно, лгала, как с нею частенько случается, ибо еще в бытность младшим каноником мистер Хардинг снискал всеобщую любовь, и та же молва, прежде чем принялась корить его за получение регентской должности от друга-епископа, громко упрекала епископа, что тот все никак не позаботится о своем друге мистере Хардинге. Так или иначе, двенадцать лет назад Сьюзен Хардинг вышла замуж за преподобного доктора Теофила Грантли, архидьякона Барчестерской епархии и настоятеля Пламстедской церкви, а через несколько месяцев ее отец стал регентом Барчестерского собора (должностью этой, как нередко бывает, епископ мог распоряжаться по собственному усмотрению).
Здесь надо разъяснить некие примечательные обстоятельства, связанные с барчестерским регентством. В лето 1434-е преставился ко Господу некий Джон Хайрем, барчестерец, сделавший состояние на торговле шерстью. Он отказал свой дом, а также земли за городом, до сих пор носящие имя «Хайремовы холмы» и «Хайремов выгон», на содержание двенадцати престарелых шерсточесов (непременно уроженцев Барчестера, проживших в городе весь свой век). Хайрем завещал построить для них богадельню с домом для смотрителя, каковому смотрителю устанавливалось жалованье из дохода от упомянутых выгонов и холмов. Кроме того, будучи ценителем музыкальной гармонии, Джон Хайрем оговорил, что место смотрителя (с одобрения своего епископа) будет занимать кафедральный регент.
От тех дней и до сегодняшнего приют жил и процветал – вернее, приют жил, а его земельное имущество процветало. Шерсть в Барчестере давно не чесали, так что епископ, настоятель собора и смотритель, как правило, определяли в богадельню стариков из своего ближайшего окружения: немощных садовников, дряхлых могильщиков, доживавших век пономарей, которые с благодарностью принимали уютное жилье и шиллинг четыре пенса в день – выплату, положенную им по завещанию Джона Хайрема. Прежде – лет за пятьдесят до описываемых событий – они получали только шесть пенсов, а столовались дважды в день вместе со смотрителем, буквально как прописал в своей духовной старый Хайрем. Однако это было равно неудобно и смотрителю, и подопечным, так что к взаимному удовольствию всех сторон, включая епископа и барчестерское общество, завтраки и обеды заменили денежным содержанием.
Такова была жизнь двенадцати Хайремских стариков, когда мистер Хардинг заступил на свою должность; но если про насельников приюта можно было сказать, что им повезло, куда в большей степени это относилось к смотрителю. На выгонах и холмах, где во времена Джона Хайрема пасли коров и косили сено, теперь стояли ряды домов, земля росла в цене от года к году и от столетия к столетию, так что, по мнению тех, кто смыслит в подобных делах, должна была приносить очень неплохой доход; тем же, кто в подобных делах не смыслит, доход этот рисовался баснословным.
Арендную плату за земли Хайрема взимал барчестерский джентльмен, занимавший при епископе должность управителя, – сын и внук людей, управлявших делами епископа и взимавших плату за земли Джона Хайрема. Чедуиков в Барчестере уважали; при жизни они пользовались доверием епископов, настоятелей, каноников и регентов, после смерти их хоронили в соборе. Никто из них не давал оснований упрекнуть себя в алчности или чрезмерной суровости, однако все они жили на достаточно широкую ногу и занимали высокое положение в барчестерском обществе. Нынешний мистер Чедуик был достойным отпрыском достойного семейства, и арендаторы на выгонах и холмах, а также на епископских землях епархии радовались, что у них такой почтенный и либеральный управляющий.
Много-много лет – трудно выяснить, с каких пор, быть может, с первых дней существования богадельни – управляющий передавал доходы от земли смотрителю, а тот делил их между подопечными; остаток причитался ему в качестве жалования. В иные времена у бедного смотрителя не было ничего, кроме дома, ибо выгоны заливало, а земли барчестерских холмов не давали урожая; в те скудные годы смотрители еле-еле наскребали ежедневное пособие двенадцати старикам. Однако постепенно все изменилось: выгоны осушили, холмы застроили, и смотрители по справедливости смогли вознаградить себя за былые тяготы. В плохие времена бедняки-подопечные получали сколько положено, в хорошие им не с чего было ждать большего. Таким образом доход смотрителя вырос; живописный домик рядом с богадельней стал вместительнее и краше, а должность сделалась самой желанной из многочисленных церковных синекур. Теперь епископ жаловал ее по своему единоличному усмотрению; хотя некогда настоятель и собрание каноников имели в этом вопросе свой голос, они рассудили, что приличнее иметь богатого регента, назначенного епископом, чем бедного, назначенного коллегиально. Жалование барчестерского регента составляло восемьдесят фунтов в год, смотритель богадельни получал восемьсот, и это еще не считая стоимости дома.
В Барчестере раздавались шепотки – правда, очень тихие и редкие, – что доходы от земель Хайрема распределяются несправедливо. Не то чтобы кого-то всерьез упрекали, но все же шепотки такие звучали, и мистер Хардинг их слышал. Уважение и любовь, которыми он пользовался в Барчестере, были настолько всеобщими, что самый факт его назначения заглушил бы и более громкое недовольство, днако мистер Хардинг, человек добрый и честный, чувствовал, что упреки, быть может, не вполне безосновательны. Поэтому при вступлении в должность он объявил, что добавит по два пенса в день каждому подопечному и будет выплачивать необходимые для этого шестьдесят два фунта одиннадцать шиллингов и четыре пенса из собственного кармана. Впрочем, он несколько раз четко разъяснил старикам, что дает обещание от своего имени, но не от имени преемников и два пенса следует считать его личным подарком, а не прибавкой от благотворительного фонда. Старики, будучи по большей части старше мистера Хардинга, нимало этим не огорчились. Они пребывали в спокойной уверенности, что им-то дополнительные два пенса обеспечены по гроб жизни.
Необыкновенная щедрость мистера Хардинга встретила определенное противодействие. Мистер Чедуик мягко, но настойчиво отговаривал его от этого шага, а зять-архидьякон, человек решительный и волевой, единственный, перед кем мистер Хардинг по-настоящему робел, горячо – нет, даже яро – воспротивился столь неразумной уступке. Однако смотритель сообщил о своем решении старикам до того, как архидьякон успел вмешаться, так что дело было сделано.
Хайремская богадельня, как называется приют, здание довольно живописное, несущее на себе отпечаток хорошего вкуса, которым пронизана церковная архитектура той эпохи. Она стоит у речки, огибающей территорию собора, на дальнем от города берегу. Лондонская дорога пересекает речку по очаровательному горбатому мостику, с которого путник видит окна стариковских комнат; каждая пара окон разделена контрфорсом. От реки к зданию ведет гравийная дорожка, всегда идеально убранная и выровненная; в дальнем ее конце, под парапетом моста, стоит длинная, лоснящаяся от частого употребления скамья, на которой в хорошую погоду непременно будут сидеть три-четыре насельника Хайремской богадельни. За рядом контрфорсов, дальше от моста и от реки, которая здесь круто поворачивает, виден прелестный эркер смотрительского дома и аккуратно подстриженный газон перед ним. Попасть внутрь можно с Лондонской дороги, пройдя под массивной каменной аркой; кто-то может заметить, что она излишня для защиты двенадцати стариков, но нельзя отрицать, что с нею богоугодное заведение обретает благообразную солидность. За воротами, которые открыты для всех и каждого с шести утра до десяти вечера, а в остальное время распахиваются лишь перед тем, кто разыщет шнурок хитроумно подвешенного средневекового колокола (задача для чужака неразрешимая), – так вот, за воротами открывается вид на шесть дверей в комнатки стариков и на узорчатую железную калитку, через которую счастливейшая часть барчестерской элиты попадает в райскую обитель мистера Хардинга.
Мистер Хардинг мал ростом, и хотя стоит на пороге шестидесятилетия, годы мало сказались на его внешности: волосы лишь слегка тронуты сединой, кроткие глаза смотрят живо и ясно (впрочем, пенсне, которое болтается на руке, когда не сидит на носу, доказывает, что время все же не вполне их пощадило), руки изящно белые, ладони и ступни маленькие; он всегда носит черный сюртук, черные панталоны, черные гетры и – к возмущению некоторых чрезмерно клерикальных собратьев – черный шейный платок[1].
Даже самые ярые поклонники не назовут мистера Хардинга деятельным – обстоятельства жизни никогда от него такого не требовали, – и все же язык не повернется упрекнуть его в праздности. За время регентства в соборе он опубликовал, со всеми возможными добавлениями телячьей кожи, типографской краски и позолоты, собрание нашей старинной церковной музыки, дополненное обстоятельными заметками о Перселле, Кроче и Нейрсе. Он заметно улучшил барчестерский хор, который под его управлением не уступает лучшим кафедральным хорам Англии. Он совершает службы в соборе несколько чаще, чем требовало бы справедливое распределение обязанностей, и ежедневно играет на виолончели перед теми слушателями, каких ему удается сыскать, или, faute de mieux [2]без слушателей.
Следует рассказать о еще одной особенности мистера Хардинга. Как мы уже упоминали, он получает восемьсот фунтов в год и не должен печься ни о ком, кроме дочери, однако он постоянно немного стеснен в средствах. Телячья кожа и позолота «Церковной музыки Хардинга» обошлись дороже, чем ведает кто-либо, за исключением самого автора, издателя и преподобного Теофила Грантли, который внимательно следит за расточительными причудами тестя. К тому же мистер Хардинг щедр к дочери, для которой держит коляску и двух лошадок. По правде сказать, он щедр ко всем, но особенно к двенадцати старикам, по капризу судьбы оказавшимся на его попечении. Казалось бы, при таком доходе мистер Хардинг волен, как говорится, смотреть на мир свысока, но, во всяком случае, он не может смотреть свысока на архидьякона Теофила Грантли, поскольку вечно более или менее в долгу у зятя, который до определенной степени взял на себя управление его денежными делами.
Глава II
Барчестерский реформатор
Мистер Хардинг регентствует в Барчестерском соборе уже десять лет, и, как ни прискорбно, толки о несправедливом распределении Хайремовых денег возобновились. Не то чтобы мистеру Хардингу ставили в вину его доход и уютный дом, просто подобные вопросы начали обсуждать в других частях Англии. Ретивые политики обличали в палате общин алчных служителей англиканской церкви, которые подгребают под себя средства, оставленные покойными благотворителями для призрения старости или для образования юношества. Знаменитое дело Больницы Святого Креста даже дошло до суда[3], а усилия мистера Уистона в Рочестере встретили общее понимание и поддержку.
Мистер Хардинг, чья совесть совершенно чиста, ибо ему и мысли не приходило, что он берет из Хайремовых денег хоть фунт сверх положенного, в обсуждении этих историй со своим другом-епископом и зятем-архидьяконом, естественно, принимает сторону церкви. Архидьякон, доктор Грантли, негодует довольно громко. Среди рочестерского духовенства немало его друзей; он писал в газеты по поводу неуемного доктора Уистона, и эти письма, по мнению сторонников доктора Грантли, должны были бы полностью уладить дело. Весь Оксфорд знает, что именно доктор Грантли – автор памфлета за подписью «Sacerdos»[4], где речь шла о графе Гилдфорде и Больнице Святого Креста. В памфлете ясно обосновывалось, что в наше время невозможно точно следовать букве древнего завещания, и лучший способ соблюсти интересы церкви, о которых пекся покойный основатель, – позволить епископам вознаграждать тех ярких светочей, которые более всех потрудились в христианском служении. На это ему возразили, что Генрих Блуаский, основатель Больницы Святого Креста, не пекся о благе реформированной английской церкви и что последних смотрителей больницы не назовешь яркими светочами христианства. Впрочем, друзья архидьякона считают, что его логика убедительна и никто не сумел ее опровергнуть.
Легко представить, что с такой мощной опорой и своих доводов, и своей совести мистер Хардинг не испытывает ни малейших угрызений по поводу двухсот фунтов, вручаемых ему четырежды в год. По правде сказать, вопрос никогда не представал ему с такой стороны. Последние год-два мистер Хардинг довольно часто говорил, а еще чаще слышал о завещаниях старинных благотворителей и доходах с их земель; его даже однажды посетило сомнение (впоследствии развеянное логикой зятя), действительно ли лорд Гилдфорд должен был получать такие большие суммы из доходов Больницы Святого Креста, но что ему самому скромные восемьсот фунтов выплачивают нечестно – ему, добровольно отдающему шестьдесят два фунта одиннадцать шиллингов и четыре пенса в год бедным старикам, исполняющему за эти деньги обязанности регента, как не исполнял их никто за всю историю Барчестерского собора, – такая мысль не смущала его покой и не тревожила его совесть.
И все же мистера Хардинга огорчают слухи, гуляющие по Барчестеру. Ему передали, что по меньшей мере двое из его стариков жалуются: мол, по справедливости каждый в приюте должен получать сто фунтов в год и жить словно джентльмен, а не перебиваться нищенскими шиллингом четырьмя пенсами в день, пока мистер Хардинг и мистер Чедуик ворочают тыщами, которые добрый старый Хайрем оставил вовсе не им. Больше всего мистера Хардинга ранит неблагодарность. Одного из двух недовольных, Эйбла Хенди, он сам взял в богадельню; тот был барчестерским каменщиком и сломал бедро, упав с лесов при работе в соборе. Мистер Хардинг определил его на первое же освободившееся место, хотя доктор Грантли очень хотел устроить туда несносного чтеца из Пламстедской церкви, старого и совершенно беззубого, от которого архидьякон никак иначе не мог избавиться. Доктор Грантли не упустил случая напомнить мистеру Хардингу, как радовался бы шиллингу и четырем пенсам старый Джо Муттерс и как неосмотрительно со стороны мистера Хардинга допускать в приют городского радикала. Вероятно, в эту минуту доктор Грантли позабыл, что учреждение создано для обедневших барчестерских мастеровых.
Есть в Барчестере молодой врач по имени Джон Болд. И мистеру Хардингу, и доктору Грантли известно, что мятежные настроения в приюте посеяны им, да и последние неприятные разговоры о наследстве Хайрема исходят тоже от него. Тем не менее мистер Хардинг и мистер Болд знакомы, можно сказать, даже дружны, насколько позволяет значительная разница в годах. Доктор Грантли видит в нечестивом смутьяне (как однажды назвал Болда в разговоре с тестем) угрозу общественному спокойствию; более осмотрительный и дальновидный, чем мистер Хардинг, он уверен, что Джон Болд еще посеет в Барчестере большой раздор. Доктор Грантли убежден, что врага (а он числит Болда врагом) не следует по-приятельски впускать в свой стан. Поскольку нам много предстоит говорить об этом молодом человеке, необходимо рассказать, кто он и почему встал на защиту Хайремских стариков.
Джон Болд провел в Барчестере значительную часть детства. Его отец имел в Лондоне врачебную практику и, скопив некую сумму денег, вложил ее в барчестерскую недвижимость. Ему принадлежали гостиница «Уонтлейский дракон»[5], почтовая станция, четыре лавки на Хай-стрит и несколько новых очаровательных вилл (как они именовались в объявлениях о сдаче) в пригороде сразу за Хайремской богадельней. В одну из них доктор Болд удалился на склоне лет; сюда Джон Болд приезжал школьником на каникулы, а позже, студентом-медиком – на Рождество. Как раз когда Джон Болд получил право писать рядом со своим именем «врач и аптекарь», старый доктор Болд скончался, оставив сыну барчестерскую собственность, а дочери Мэри, которая была старше брата лет на пять, – сбережения в трехпроцентных государственных облигациях.
Джон Болд решил переехать в Барчестер и заняться попечением о своей собственности, а также костях и телах тех соседей, которые решат обратиться к нему за помощью. Он повесил на дверь большую медную табличку с надписью «Джон Болд, врач» (к великому неудовольствию девяти барчестерских эскулапов, чью скудную практику составлял местный клир) и начал с помощью сестры вести хозяйство. Тогда ему было не больше двадцати четырех лет, и хотя к настоящему времени он прожил в Барчестере уже года три, мы не слышали, чтобы он нанес хоть какой-нибудь ущерб девяти достойным коллегам. По правде сказать, их опасения вполне развеялись: за три года он не принял и трех платных пациентов.
Тем не менее Джон Болд – толковый молодой человек и со временем, набравшись опыта, стал бы толковым врачом, однако он избрал для себя иной путь. Отцовское наследство избавило его от необходимости зарабатывать на хлеб; он отказался тянуть профессиональную лямку, под которой понимает будни практикующего врача, и отдался иному занятию. Он частенько перевязывает ссадины и вправляет кости тем представителям беднейшего сословия, которые исповедуют одинаковые с ним взгляды, но делает это безвозмездно. Не буду утверждать, что архидьякон прав в строгом смысле слова, называя Джона Болда опасным смутьяном, ибо не знаю, какая радикальность взглядов оправдывала бы такое клеймо, однако он безусловно сторонник решительных реформ. Джон Болд хочет искоренить любые злоупотребления – государственные, церковные, муниципальные (он добился избрания в городской совет Барчестера и так измучил трех предыдущих мэров, что четвертого оказалось трудно сыскать), злоупотребления в медицинской практике и вообще в мире. Болд совершенно искренен в патриотическом желании исправить человеческий род, энергия, с которой он воюет против несправедливости, отчасти даже восхищает, однако, боюсь, он чересчур убедил себя в своей миссии. Человеку столь молодому не помешала бы толика неуверенности в себе и чуть бо́льшая вера в честность чужих намерений; ему стоило бы понять, что старые порядки не всегда дурны, а перемены порой могут быть опасны. Но нет, Джон Болд наделен пылом и самонадеянностью Дантона; он бросает проклятия вековым устоям с яростью французского якобинца.
Неудивительно, что в глазах доктора Грантли Джон Болд – головня, упавшая посреди тихого кафедрального городка. Доктор Грантли избегал бы его, как чумы, однако мистер Хардинг приятельствовал со старым доктором. Маленький Джонни Болд играл на лужайке перед домом мистера Хардинга. Он пленил сердце регента, завороженно внимая его священным мелодиям и, скажем уж сразу начистоту, почти пленил еще одно сердце в тех же самых стенах.
Элинор Хардинг не помолвлена с Джоном Болдом и, возможно, еще не призналась себе, как дорог ей молодой реформатор, однако ей очень не по душе, если о нем дурно отзываются. Она не смеет возражать, когда муж сестры громко его ругает, поскольку, как и отец, немного побаивается доктора Грантли, но у нее растет неприязнь к архидьякону. Элинор убеждает отца, что несправедливо отказывать молодому другу от дома из-за политических взглядов, ей не хочется ходить туда, где его не будет. По правде сказать, она влюблена.
Нет ни одной убедительной причины, почему бы Элинор Хардинг не полюбить Джона Болда. У него есть все качества, способные тронуть девичье сердце: он смел, пылок, занятен в общении, хорош собой, молод и предприимчив, у него есть средства содержать жену, он безусловно порядочен, друг отца, и главное, любит ее. Так что препятствует Элинор Хардинг питать нежные чувства к Джону Болду?
Доктор Грантли, стоглазый, как Аргус, давно понял, куда дует ветер, и мог бы привести множество веских доводов против такого поворота событий. Он не счел разумным говорить об этом с тестем, зная, что тот склонен во всем потакать младшей дочери. Однако он обсудил свои тревоги с самой доверенной душой в священном алькове под клерикальным надкроватным балдахином в Пламстеде.
О, сколько утешения, сколько ценных советов получает наш архидьякон за этой священной завесой! Только здесь он сходит с церковного пьедестала и становится простым смертным. В миру доктор Грантли и на миг не оставляет ту величавую манеру, которая так ему к лицу. Он сочетает достоинство древнего святого с лоском современного епископа; он всегда одинаков, всегда архидьякон, и его, в отличие от Гомера, никогда не смаривает дремота[6]. Даже с тестем, даже с епископом и настоятелем он все так же громогласен и сохраняет ту же надменную осанку, от которой робеют юные барчестерцы и трепещет Пламстедский приход. Лишь меняя широкополую шляпу на ночной колпак с кисточкой, а строгий клерикальный наряд – на привычную robe de nuit[7], доктор Грантли начинает говорить и думать как обычный человек.
Многие из нас частенько думают, какому испытанию подвергается вера жен нашего духовенства. Для нас эти люди – воплощение апостола Павла; самая их походка – проповедь, их опрятное и строгое платье – призыв к смирению и набожности, а широкополые шляпы словно окружены нимбом нравственных добродетелей. На архипастыря в облачении его сана все смотрят уважительно, а хорошо одетый епископ приводит нас в священный трепет. Но как такие чувства сохраняются в груди тех, кто видит епископов без сутаны и архидьяконов – в еще более небрежном дезабилье?
Кто из нас не вспомнит священнослужителя, рядом с которым мы невольно приглушаем голос и стараемся ступать неслышно? Однако случись нам увидеть, как он вытягивается под одеялом, широко зевает и зарывается лицом в подушку, мы болтали бы в его присутствии, словно в обществе какого-нибудь врача или адвоката. По сходным причинам, вероятно, наш архидьякон выслушивал советы жены, хотя со всеми прочими представителями человечества предпочитал брать роль советчика на себя.
– Дорогая, – сказал он, расправив многочисленные оборки ночного колпака, – сегодня у твоего отца снова был Джон Болд. Я должен сказать, твой отец очень беспечен.
– Он всегда был беспечным, – отвечала миссис Грантли из-под теплого одеяла. – Это нисколько не новость.
– Да, знаю, не новость, но при нынешнем состоянии дел такая беспечность – это… это… Я скажу тебе, дорогая: если он не побеспокоится, Джон Болд окрутит Элинор.
– Думаю, окрутит независимо от того, побеспокоится папа или нет. А что тут дурного?
– Что тут дурного?! – почти возопил архидьякон и так дернул ночной колпак, что едва не натянул его до самого носа. – Что дурного?! Наглый выскочка! Самый вульгарный юнец, какого мне случалось знать! Известно ли тебе, что он лезет в дела твоего отца самым… самым… – Не подобрав достаточно оскорбительного эпитета, он довершил фразу восклицанием: «Боже великий!», которое на собраниях епархиального духовенства всегда производило должное впечатление. Вероятно, он на время позабыл, где находится.
– Что до вульгарности, архидьякон, – миссис Грантли никогда не обращалась к супругу более по-домашнему, – я с тобой не согласна. Не то чтобы мне нравился мистер Болд – на мой вкус он чересчур самонадеян, но он нравится Элинор, и для папы будет лучше, если они поженятся. Болд не стал бы вмешиваться в дела богадельни, будь он папиным зятем.
И она привычно повернулась под одеялом, что не хуже слов дало доктору понять, что, по ее мнению, вопрос на сегодня закрыт.
– Боже великий! – прошептал доктор еще раз; он очевидно был вне себя.
Доктор Грантли – вовсе не дурной человек. Он в точности таков, каким с наибольшей вероятностью должно было сделать его образование. Ему хватает ума для своего места в жизни, но не хватает, чтобы взглянуть шире. Он добросовестно и методично исполняет те приходские обязанности, которые не считает возможным перепоручить младшим священникам, однако по-настоящему он сияет в роли архидьякона.
Мы привыкли, что обычно либо архидьяконское, либо епископское место бывает синекурой: если епископ трудится, архидьякону дел не остается, и наоборот. В Барчестерской епархии трудится архидьякон. В этом качестве он упорен, властен и, как с особой гордостью отмечают его друзья, справедлив. Главная его беда – чрезмерная вера в достоинства и права своего сословия, а главная слабость – столь же сильная убежденность в величии своих манер и собственном красноречии. Он порядочный человек, верит в учение, которое проповедует, и верит также, что живет по этому учению, хотя вряд ли отдаст верхнюю одежду тому, кто отнимет у него рубашку, или готов прощать брата хотя бы семь раз[8]. Он довольно суров во взимании причитающихся денег, так как полагает, что любые послабления в этом вопросе угрожают благополучию церкви; будь его воля, он бы изверг во тьму и погибель не только каждого отдельного реформатора, но и всякий комитет или комиссию, дерзнувшую задавать вопросы о распределении церковных доходов.
«Это церковные доходы, что миряне и сами признают. Безусловно, церковь справится с распределением своих доходов», – такой довод он обычно приводил, когда в Барчестере или Оксфорде обсуждали кощунственные деяния лорда Джона Рассела и других[9].
Разумеется, доктор Грантли не любил Джона Болда, и мысль жены, что они могут близко породниться, привела его в ужас. Надо отдать архидьякону должное: смелости ему было не занимать. Он охотно сразился бы с противником где угодно и каким угодно оружием. Доктор Грантли был уверен в неопровержимости своих доводов и нимало не сомневался, что одержит победу в честном бою. Он и на миг не допускал, что Джон Болд уличит епархию в несправедливом распределении доходов богадельни, а коли так, зачем искать мира на столь низких условиях? Что? Откупиться от неверующего врага церкви свояченицей одного ее служителя и дочерью другого – молодой дамой, которая по праву родства достойна стать женой епархиального клирика, и не из последних! Говоря о неверующих врагах церкви, доктор Грантли подразумевал не отрицание ее догматов, а равно опасные сомнения в безупречности ее финансовой политики.
Миссис Грантли редко расходится с мужем в том, что касается защиты церкви и прав духовенства; тем обиднее была ее неожиданная готовность идти на уступки. Архидьякон, укладываясь рядом с нею, снова прошептал: «Боже великий!», но так тихо, чтобы она не услышала, и повторял эти слова до тех пор, пока сон не избавил его от тягостных мыслей.
Сам мистер Хардинг не видит препятствий для любви своей дочери к Джону Болду. Ее чувства не ускользнули от его внимания. Возможные шаги Болда в отношении богадельни огорчают регента именно тем, что могут разлучить его с дочерью или дочь – с любимым человеком. Он не говорил с Элинор о ее любви, поскольку менее кого бы то ни было склонен заводить подобные разговоры без приглашения, даже с собственной дочкой. Считай мистер Хардинг, что Болд поступает предосудительно, он бы отослал Элинор или отказал Болду от дома. Однако он не видит для этого оснований. Наверное, он предпочел бы второго зятя-священника, поскольку тоже питает слабость к своему сословию, и уж точно предпочел бы видеть столь близким родственником человека единомысленного. Однако он не станет отвергать избранника дочери из-за расхождения во взглядах.
Покуда Болд никак не задел регента лично. Несколько месяцев назад, после трудных боев, он ценою немалых денежных издержек для себя одержал победу над некой старухой – сборщицей дорожной пошлины, на которую пожаловалась ему другая местная старуха. Он добыл парламентский акт об учреждении дорожного фонда[10], убедился, что с его протеже деньги взяли незаконно, проехал через те же ворота, заплатил пошлину, затем вчинил сборщице иск и доказал, что лица, следующие туда таким-то, а назад сяким-то проселком, освобождаются от уплаты. Весть о его победе облетела округу, и Болд снискал славу защитника барчестерских бедняков. Вскоре после того несколько людей сказали ему, что Хайремские пансионеры живут в нищете, хотя собственность, завещанная по сути им, весьма велика. Стряпчий, которого Болд нанял вести дело о пошлине, посоветовал ему не медлить и затребовать у мистера Чедуика отчет о финансовых делах богадельни.
Болд в присутствии друга-регента частенько негодовал по поводу распределения церковных средств, но эти разговоры никогда не касались Барчестера, и когда Финни, стряпчий, посоветовал ему вмешаться в дела Хайремского приюта, Болд поначалу думал, что будет воевать с мистером Чедуиком. Однако вскоре ему стало понятно, что, затронув управляющего Чедуика, он затронет и смотрителя Хардинга. Такой поворот событий огорчил Болда, но он был не из тех, кто откажется от борьбы по личным мотивам.
Решив взять дело в свои руки, он начал действовать со всегдашней энергией: добыл копию завещания Хайрема, тщательно изучил формулировки, затем оценил размеры собственности, а также, насколько возможно, ее стоимость и расписал нынешнее распределение денег со слов собеседников. Вооружившись всеми этими сведениями и заранее известив управляющего о своем визите, он явился к мистеру Чедуику и попросил у того записи о доходах и тратах богадельни за последние двадцать пять лет.
Мистер Чедуик в просьбе, естественно, отказал, сославшись на то, что не вправе разглашать сведения о собственности, которой управляет в качестве нанятого лица.
– А кто может дать вам такое право, мистер Чедуик? – спросил Болд.
– Только мои наниматели, мистер Болд, – ответил управляющий.
– А кто они, мистер Чедуик? – настаивал Болд.
Чедуик позволил себе заметить, что если вопросы продиктованы праздным любопытством, он предпочел бы на них не отвечать, а если мистер Болд преследует какие-либо далеко идущие цели, то сведения желательно запрашивать профессиональным порядком у профессионалов: поверенные мистера Чедуика – господа Кокс и Камминс из Линкольнс-Инн. Мистер Болд записал адрес Кокса и Камминса, заметил, что погода для этого времени года стоит холодная, и пожелал мистеру Чедуику доброго утра. Мистер Чедуик согласился, что для июня прохладно, и отпустил посетителя поклоном.
Болд отправился прямиком к своему стряпчему, Финни. Не сказать, что стряпчий ему нравился, но, как объяснял сам Болд, он нуждался в человеке, знающем законы и готовом делать за деньги, что велят. Он и не помышлял вверить себя адвокату, просто покупал юридические услуги у юриста, как покупал сюртук у портного, потому что не мог так же хорошо сшить его сам. И он рассудил, что самый подходящий для этого человек в Барчестере – Финни. В одном отношении, впрочем, он не ошибся: Финни был само смирение.
Финни, памятуя про свои шесть шиллингов восемь пенсов[11], посоветовал тут же написать Коксу и Камминсу:
– Прихлопните их сразу, мистер Болд. Затребуйте в самой категорической форме полный отчет о делах богадельни.
– Я думал прежде поговорить с мистером Хардингом, – сказал Болд.
– Да-да, всенепременно, – ответил покладистый Финни, – хотя, поскольку мистер Хардинг человек не деловой, это может повлечь… повлечь за собой мелкие осложнения… но, возможно, вы правы. Мистер Болд, я уверен, что визит к мистеру Хардингу не причинит никакого вреда.
По лицу клиента Финни видел, что того не переубедишь.
Глава III
Барчестерский епископ
Болд тут же отправился в богадельню. Час был уже довольно поздний, но он знал, что летом мистер Хардинг обедает в четыре[12], а Элинор вечером обычно уезжает кататься, а значит, он вполне может застать мистера Хардинга одного.
Итак, примерно между семью и восьмью часами он добрался до узорной железной калитки, ведущей в смотрительский садик. Хотя, как заметил мистер Чедуик, для июня было довольно прохладно, вечер выдался ясный и погожий. Калитка стояла незапертой. Поворачивая щеколду, Болд услышал из дальнего конца звуки виолончели. Он прошел через лужайку и увидел регента со слушателями. Музыкант расположился на садовом стуле в беседке, у самого входа, так что виолончель, которую он держал между коленями, упиралась в сухие каменные плиты. Перед ним на простом деревянном пюпитре лежала раскрытая книга с нотами – то самое любимое, выпестованное долгими трудами собрание церковной музыки, которое обошлось ему во столько гиней, – а рядом сидели, лежали и стояли десять из двенадцати стариков, обитавших вместе с ним под кровом старого Джона Хайрема. Двое реформаторов отсутствовали. Я не говорю, что в душе они считали себя виноватыми перед добрым смотрителем, но последнее время они его сторонились, а его музыка утратила для них привлекательность.
Как занятно было наблюдать позы и внимательные лица этих сытых довольных стариков! Не скажу, что они понимали музыку, которую слышали, однако всем видом показывали, что она им нравится. Радуясь своей нынешней жизни, они старались, насколько в их силах, платить добром за добро, и неплохо в этом преуспели. Регенту отрадно было думать, что любимых старичков восхищают звуки, наполнявшие его почти экстатическим ликованием; он нередко говорил, что самый воздух богадельни делает ее особо пригодной для служения святой Цецилии[13].
Прямо перед ним, на самом конце скамьи, опоясывающей беседку, сидел, аккуратно разложив на коленях шейный платок, пансионер, который и впрямь наслаждался этими мгновениями или очень правдоподобно изображал, что наслаждается. Годы – а ему было за восемьдесят – не согнули его мощную фигуру; он по-прежнему был рослый, статный, красивый, с умным высоким лбом, обрамленным очень редкими седыми прядкам. Черное приютское платье из грубой материи, панталоны и башмаки с пряжками чрезвычайно ему шли; он сидел, опершись руками на палку и положив на них подбородок, – слушатель, о котором может мечтать каждый музыкант.
Он безусловно был гордостью богадельни. По обычаю, одного из призреваемых назначали кем-то вроде старосты, и хотя мистер Банс – ибо таково было его имя и так к нему всегда обращались другие пансионеры – получал не больше денег, чем они, он прекрасно понимал свое положение и держался с соответствующим достоинством. Регент называл его помощником смотрителя и не считал зазорным изредка в отсутствие других гостей пригласить к жарко натопленному камину и попотчевать стаканом портвейна. И хотя Банс никогда не уходил без второго стакана, его никакими уговорами нельзя было соблазнить на третий.
– Вы слишком добры, мистер Хардинг, слишком добры, – неизменно говорил он, когда ему наливали второй стакан, но через полчаса, допив, вставал и со словами благословения, которые его покровитель очень ценил, удалялся в собственную обитель. Он хорошо знал жизнь и, дорожа этими безоблачными мгновениями, не хотел затягивать их до того, что они станут утомительны для хозяина.
Мистер Банс, как легко можно вообразить, был горячим противником нововведений. Даже доктор Грантли не питал такого праведного отвращения к тем, кто вмешивается в дела богадельни. Мистер Банс был человеком церкви до мозга костей и хотя не особо жаловал доктора Грантли лично, чувство это проистекало скорее из того, что в богадельне не было места двум людям столь сходного склада, а вовсе не из различия чувств. Банс был склонен полагать, что они со смотрителем вполне управятся без посторонней помощи. Разумеется, епископ регулярно инспектировал богадельню и в таком качестве заслуживал всяческого почтения со стороны всех, связанных с завещанием Джона Хайрема, однако Банс был уверен, что Джон Хайрем не предусматривал вмешательство в свои дела со стороны каких-либо архидьяконов.
Сейчас, впрочем, его мысли были далеки от подобных забот, и он глядел на своего смотрителя так, будто почитал музыку райским даром, а музыкантов – почти небожителями.
Когда Болд тихонько вышел на лужайку, мистер Хардинг поначалу его не заметил и продолжал водить смычком по струнам, но потом по лицам слушателей понял, что кто-то пришел. Он поднял глаза и с теплым радушием приветствовал молодого друга.
– Продолжайте, мистер Хардинг, прошу, не прерывайтесь из-за меня, – сказал Болд. – Вы знаете, как я люблю церковную музыку.
– Да что вы, пустяки! – воскликнул регент, закрывая книгу, но тут же вновь открыл ее, поймав восхитительно молящий взгляд старого друга Банса. – Ах, Банс, Банс, Банс, боюсь я, вы всего лишь льстец! Ладно, тогда я закончу. Это любимейший фрагмент из Бишопа[14]. А потом, мистер Болд, мы прогуляемся и побеседуем, пока не вернется Элинор и не нальет нам чаю.
Так что Болд сел на мягкую траву послушать музыку, а вернее, подумать, как после такой идиллической сцены завести тягостный разговор, смутить покой человека, столь тепло его встретившего.
Болду показалось, что музыка закончилась слишком быстро; он почти жалел, когда медлительные старички закончили свои долгие прощания.
Ком встал у него в горле от простых, но ласковых слов регента.
– Один вечерний визит, – сказал тот, – стоит десяти утренних. Утренние визиты – сплошная формальность; настоящие разговоры начинаются только после обеда. Вот почему я обедаю рано – чтобы успеть вдоволь наговориться.
– Вы совершенно правы, мистер Хардинг, – ответил его собеседник, – но боюсь, что я нарушил заведенный порядок и должен просить всяческих извинений, что в такой час беспокою вас по делу.
Мистер Хардинг глянул непонимающе и с легкой досадой; что-то в тоне молодого человека обещало неприятный разговор, и регент огорчился, что от его любезных приветствий так небрежно отмахиваются.
– Конечно, буду счастлив помочь, чем смогу…
– Дело касается счетов.
– В таком случае, мой дорогой, ничем не смогу помочь, ибо в этих вопросах я сущий младенец. Знаю только, что мне платят восемьсот фунтов в год. Идите к Чедуику, он знает про счета все, а пока скажите, заживет ли рука у бедной Мэри Джонс?
– Заживет, если она будет ее беречь, но, мистер Хардинг, я надеюсь, вы не возражаете обсудить со мной то, что я имею сказать про богадельню.
Мистер Хардинг испустил долгий протяжный вздох. Он возражал, очень сильно возражал против обсуждения этих вопросов с Джоном Болдом, однако, не обладая деловым тактом мистера Чедуика, не умел защитить себя от надвигающейся беды. Он печально вздохнул, но не ответил.
– Я питаю к вам самое глубокое уважение, мистер Хардинг, – продолжал Болд. – Самое искреннее, самое…
– Благодарю вас, мистер Болд, благодарю, – нетерпеливо перебил регент. – Очень признателен, но не будем об этом. Я могу ошибаться ровно так же, как любой другой. Ровно так же.
– Однако, мистер Хардинг, я должен выразить свои чувства, чтобы вы не заподозрили в моих действиях личную неприязнь.
– Личную неприязнь! В ваших действиях! Вы же не собираетесь перерезать мне горло или предать меня церковному суду…
Болд попытался выдавить смешок и не сумел. Он всерьез вознамерился исправить несправедливость и не мог шутить над своим решением. Некоторое время он шел молча, затем возобновил натиск. Мистер Хардинг, слушая его, быстро водил смычком (который по-прежнему был у него в руке) по струнам воображаемой виолончели.
– Я боюсь, есть основания полагать, что завещание Джона Хайрема исполняется не вполне точно, – сказал молодой человек, – и меня попросили в этом разобраться.
– Очень хорошо, я нисколько не возражаю, так что не будем больше об этом говорить.
– Лишь еще одно слово, мистер Хардинг. Чедуик направил меня к Коксу и Камминсу, и я полагаю, что мой долг – запросить у них сведения о богадельне. При этом может сложиться впечатление, будто я действую против вас, и я надеюсь, что вы меня простите.
– Мистер Болд, – начал его собеседник, остановился и с торжественной серьезностью продолжил: – Если вы будете действовать по совести, говорить только правду и не пользоваться в достижении своей цели бесчестными средствами, мне не за что будет вас прощать. Полагаю, вы считаете, что доход, который я получаю от богадельни, должен распределяться иначе. Что бы ни думали другие, я не припишу вам низких мотивов из-за мнений, отличных от моих и противных моим интересам. Исполняйте свой долг, как вы его понимаете; помочь я вам не могу, но и препятствовать не стану. Позвольте, впрочем, заметить, что вы никоим образом не убедите меня в вашей правоте, как и я вас – в своей, так что разговаривать об этом бессмысленно. Вот Элинор с ее лошадками. Идемте пить чай.
Однако Болд чувствовал, что не может после такого разговора спокойно сидеть за столом с мистером Хардингом и его дочерью. Он пробормотал какие-то неловкие слова и направился прочь, а проходя мимо подъехавшей коляски, лишь приподнял шляпу и поклонился, оставив Элинор разочарованно недоумевать о причинах его ухода.
У Болда сложилось впечатление, что регент совершенно уверен в своей правоте, и даже закралась мысль, что он собирается необоснованно влезть в дела честного и достойного человека, однако сам мистер Хардинг отнюдь не был убежден в правильности своей позиции.
Прежде всего, ради Элинор смотритель хотел думать хорошо о Болде и ему подобных, однако невольно возмущался его дерзостью. Какое право тот имел говорить, будто завещание Хайрема исполняется не должным образом? И немедленно возникал вопрос: а должным ли образом оно исполняется? Хотел ли Джон Хайрем, чтобы смотритель богадельни получал из его наследства значительно больше, чем все двенадцать призреваемых стариков вместе взятые? Не может ли быть так, что Джон Болд прав и почтенный регент уже больше десяти лет получает доход, по закону принадлежащий другим? Что его, ведущего такую счастливую и тихую жизнь, уличат в присвоении восьмисот фунтов годового дохода, которые ему до конца жизни не возместить? Я не говорю, что мистер Хардинг и впрямь опасался такого поворота событий, но тень сомнения уже упала на его душу, и с того вечера много, много дней наш милейший, добрейший смотритель не ведал ни радости, ни покоя.
Именно такие мысли, первые предвестники грядущих тягостных раздумий, мучили мистера Хардинга, когда он рассеянно прихлебывал чай. Бедняжка Элинор видела, что отец расстроен, но ее догадки не шли дальше внезапного и невежливого ухода мистера Болда. Она думала, что он поссорился с ее отцом, и немного досадовала на обоих, хотя и не пыталась объяснить себе свои чувства.
Мистер Хардинг обдумывал это все очень тщательно и перед тем, как лечь, и уже в постели. Он спрашивал себя, вправе ли получать свой доход. Одно вроде бы было ясно: несмотря на всю неловкость нынешнего положения, никто не мог сказать, что ему следовало отказаться от должности, когда она была предложена, или от жалованья позже. Все (подразумевалось – все в англиканской церкви) знали, что место смотрителя барчестерской богадельни – синекура, но никого никогда не осуждали за согласие его принять. Зато как бы его осудили, если бы он отказался! Каким безумцем его бы сочли, скажи он тогда, что совестится брать восемьсот фунтов в год из Хайремовых денег и пусть лучше вакансию предложат кому-нибудь другому! Как бы доктор Грантли качал мудрой головой и советовался с друзьями в епархии, куда поместить скорбного умом младшего каноника! А если он был прав, принимая должность, то очевидно, неверно было бы отвергать хоть какую-нибудь часть дохода. Патронат – важный атрибут епископской власти, и не дело мистера Хардинга уменьшать стоимость места, которым его облагодетельствовали; уж конечно, он должен стоять за свое сословие.
Однако доводы эти при всей своей логичности не утешали. Верно ли исполняется завещание Джона Хайрема? – в этом состоял истинный вопрос. И если оно исполняется неверно, то не долг ли мистера Хардинга восстановить справедливость – вне зависимости от ущерба барчестерскому духовенству или мнения благодетеля и друзей? От друзей вообще мысли его неприятным образом перешли к доктору Грантли. Регент знал, каким могучим защитником будет архидьякон, если предоставить поле битвы ему, но знал и другое – что не найдет ни сочувствия своим сомнениям, ни дружеских чувств, ни внутреннего утешения. Доктор Грантли, как истый боец Церкви Воинствующей, с готовностью обрушит булаву на головы любых врагов, но исходить при этом будет из тезиса о непогрешимости Церкви. Такая борьба не успокоила бы мистера Хардинга. Он хотел быть правым, а не доказать свою правоту.
Я уже рассказывал, что труды по управлению Барчестерской епархией нес доктор Грантли, а его отец-епископ не слишком себя утруждал. Тем не менее епископ, хоть и бездеятельный по натуре, обладал качествами, снискавшими ему всеобщую любовь. Он был прямая противоположность своему сыну: мягкий, добрый, чуждый всяких внешних проявлений епископской власти. Вероятно, ему повезло, что сын так рано смог взять на себя обязанности, с которыми отец не очень-то справлялся, когда был моложе, и уж точно не справился бы сейчас, на восьмом десятке. Епископ был обходителен с духовенством, умел занять разговором настоятельских жен или подбодрить младших священников, однако для исправления тех, кто отступил от прямого пути в жизни или вопросах веры, требовалась твердая рука архидьякона.
Епископа и мистера Хардинга связывала самая теплая дружба. Они вместе состарились и вместе провели много, много лет в общих церковных заботах и церковных беседах. Их общение было тесным еще тогда, когда один был епископом, а другой младшим каноником, однако с тех пор, как их дети переженились, а мистер Хардинг стал регентом и смотрителем, они сделались друг для друга всем. Не скажу, что эти двое на пару управляли епархией, но они подолгу обсуждали того, кто ею управляет, и придумывали планы, как смягчить его гнев против нарушителей церковной дисциплины и умерить его тягу к утверждению церковной власти.
Мистер Хардинг решил открыть свое сердце старому другу; к нему он и отправился наутро после неучтивого визита Джона Болда.
Слухи о нападках на богадельню еще не достигли ушей епископа. Он, разумеется, слышал, что кто-то ставит под сомнение его право жаловать синекуру, дающую восемьсот фунтов в год, как слышал время от времени о каких-нибудь особо возмутительных безобразиях в обычно тихом и благопристойном Барчестере, однако все, что от него требовалось в таких случаях, это покачать головой и попросить своего сына, великого диктатора, позаботиться, чтобы церковь не понесла ущерба.
Мистеру Хардингу пришлось долго излагать свою историю, прежде чем епископ понял его взгляд на события, но нам незачем приводить ее целиком. Поначалу епископ посоветовал лишь один шаг, порекомендовал лишь одно лекарство, отыскал в своей обширной фармакопее лишь одно достаточно сильное средство против такого опасного нарушения – архидьякона. «Направьте его к архидьякону», – ответил он, когда мистер Хардинг поведал о визите мистера Болда. «Архидьякон все вам разъяснит, – ласково сказал он, когда друг поделился с ним сомнениями. – Никто не умеет растолковать это так хорошо, как архидьякон». Однако доза, пусть и большая, не успокоила больного, а напротив, чуть не вызвала у него тошноту.
– Но, епископ, – сказал мистер Хардинг, – вы когда-нибудь читали завещание Джона Хайрема?
Епископ ответил, что, наверное, читал, тридцать пять лет назад, когда вступил на кафедру, но точно сказать не может, впрочем, он прекрасно знает, что имел право жаловать смотрительское место и что доход смотрителя установлен в согласии с законом.
– Но, епископ, вопрос в том, кто имеет власть его устанавливать? Если, как утверждает тот молодой человек, прибыль от земли должна по завещанию делиться на доли, кто вправе менять их соотношение?
Епископу смутно представлялось, что это вроде бы происходило само собой с течением лет и что некий церковный статут отказывает призреваемым в повышении выплат с ростом собственности. Он сказал что-то про традицию, затем, подробнее, про то, что многие ученые люди подтвердили правильность нынешнего положения дел. Еще дольше он говорил, как важно сохранять различие в ранге и доходе между рукоположенным священником и бедняками, живущими на средства благотворительности, и в завершение еще раз сослался на архидьякона.
Регент сидел, задумчиво глядя в огонь камина, и слушал благодушные увещевания друга. Слова епископа немного успокаивали, однако успокоение это не было прочным. Они внушали мистеру Хардингу чувство, что многие – и даже все в духовном сословии – сочтут его правым, но не убеждали, что он и в самом деле прав.
– Епископ! – сказал он наконец, после того как они оба долго просидели в молчании. – Я обману и себя, и вас, если не признаюсь, что сердце мое очень неспокойно. Допустим, я не сумею согласиться с доктором Грантли, допустим, я изучу вопрос и обнаружу, что молодой человек был прав, а я ошибался. Что тогда?
Двое стариков сидели близко друг к другу – так близко, что епископ мог положить руку на колено регента, что он и сделал. Мистер Хардинг прекрасно знал, что означает этот ласковый жест: у епископа нет больше доводов, он не будет сражаться, как сражался бы его сын, он бессилен доказать, что сомнения регента безосновательны, но может посочувствовать старому другу. Вновь наступило долгое молчание, потом епископ с нехарактерным для него энергичным раздражением спросил, есть ли у «наглеца» (так он назвал Джона Болда) друзья в Барчестере.
Мистер Хардинг заранее приготовился рассказать епископу все, в том числе про любовь дочери и собственные переживания, обсудить Джона Болда в двойном качестве – как будущего зятя и нынешнего врага; теперь он чувствовал, что, как это ни тягостно, надо перейти ко второй половине рассказа.
– Он очень близкий друг моего дома, епископ.
Епископ вытаращил глаза. Он продвинулся в ортодоксальности и церковной воинственности значительно меньше сына и все равно не мог взять в толк, как открытого врага церкви принимают, тем более дружески, в доме священника, и не просто священника, а несправедливо оскорбленного смотрителя той самой богадельни.
– Вообще-то сам мистер Болд очень мне по душе, – продолжала жертва нападок, – и, сказать начистоту… – тут регент замялся, собирая силы для страшного известия, – я иногда думаю, что, возможно, он станет моим вторым зятем.
Епископ не присвистнул (мы полагаем, что они утрачивают эту способность при рукоположении и что в наше время присвистывающий епископ – не меньшая редкость, чем судья-взяточник), однако вид у него был такой, словно он присвистнул бы, если б не сутана.
Какой свояк для архидьякона! Какое родство для барчестерского духовенства да и для самого епископа! Достойный архиерей в простоте душевной не сомневался, что Джон Болд, будь его воля, закрыл бы все соборы, а может, и все приходские церкви, распределил бы десятину между методистами, баптистами и другими варварскими племенами, полностью уничтожил бы епископат и объявил широкополые шляпы и батистовые рукава вне закона[15], как клобуки, власяницы и сандалии![16] Ввести в уютный клерикальный круг скептика, который ставит под сомнение честность англиканских пастырей и, возможно, не верит в Троицу!
Мистер Хардинг видел, какое действие произвели его слова, и почти пожалел о собственной откровенности; впрочем, он тут же постарался смягчить огорчение своего друга и покровителя:
– Я не говорю, что они помолвлены. Элинор бы мне сказала, в этом я нисколько не сомневаюсь. Однако я вижу, что они друг другу нравятся и как мужчина и отец ни вижу никаких препятствий к их браку.
– Но, мистер Хардинг, – сказал епископ, – как вы будете с ним бороться, если он станет вашим зятем?
– Я не собираюсь с ним бороться, это он со мной борется. Если потребуются какие-либо шаги для защиты, наверное, их сделает Чедуик. Наверное…
– О, с этим разберется архидьякон! Будь молодой человек дважды его свояком, архидьякон не свернет с пути, который считает правильным.
Мистер Хардинг напомнил, что архидьякон и реформатор еще не свояки, а возможно, ими и не будут, получил обещание, что имя Элинор не прозвучит в разговорах отца-епископа с сыном-архидьяконом касательно богадельни, и ушел, оставив бедного старого друга смущенным, огорченным и растерянным.
Глава IV
Хайремские пансионеры
Как частенько бывает, сторона, наиболее заинтересованная в разбирательстве, которому предстояло перессорить барчестерцев, не первой оказалась вовлечена в его обсуждение, однако когда епископ, архидьякон, смотритель, управляющий, а также господа Кокс и Камминс, каждый по-своему, занялись этим вопросом, пансионеры Хайремской богадельни не остались совсем уж бездеятельными наблюдателями. Стряпчий Финни заходил к ним, задавал хитрые вопросы, сеял неумеренные надежды, сколачивал комплот против смотрителя и вербовал сторонников в лагере врага, как про себя именовал богадельню. Бедные старики вне зависимости от исхода дела, безусловно, только потеряют, для них расследование – беспримесное зло. Что может улучшиться в их доле? У пансионеров есть все, в чем они нуждаются: теплый дом, хорошая одежда, сытная обильная еда и отдохновение от многолетних трудов, а главное – неоценимое сокровище на склоне дней! – добрый друг, который выслушивает их печали, заботится о них в болезни, подает утешение в этой жизни и напутствие к жизни вечной.
Джон Болд иногда думает об этом, когда говорит о правах стариков, которых взялся защищать, однако он подавляет сомнения звучными именем правосудия: «Fiat justitia, ruat cœlum»[17]. Эти старики должны, по справедливости, получать сто фунтов, а не шиллинг и шесть пенсов в день, смотритель – двести-триста фунтов вместо восьмисот. Несправедливость – зло, а зло следует исправлять. И кто за это возьмется, если не он?
«Каждый из вас по закону должен получать сто фунтов в год», – нашептал Финни Эйблу Хенди, а тот передал одиннадцати собратьям.
Человек слаб; перед обещанием ста фунтов в год большинство пансионеров дрогнуло. Великий Банс не поддался на обман, и с ним остались два стойких соратника. У Эйбла Хенди, возглавившего погоню за богатством, поддержка была, увы, сильнее. Целых пятеро из двенадцати поверили ему; вместе с предводителем они составляли половину пансионеров. Последние трое – натуры ветреные и переменчивые – колебались между двумя вожаками, подстрекаемые то корыстью, то желанием сохранить существующий порядок.
Было решено направить петицию епископу и просить его преосвященство как инспектора богадельни восстановить справедливость по отношению к законным получателям Хайремовых денег, а копии петиции и ответа разослать во все главные лондонские газеты и таким образом придать делу огласку, что безусловно облегчит дальнейшие юридические шаги. Крайне желательно было получить подписи или крестики всех двенадцати ущемленных легатариев[18], но это было невозможно: Банс скорее отрезал бы себе руку, чем подписал документ. Финни сказал, что если удастся собрать хотя бы одиннадцать подписей, одного упрямца можно представить неспособным судить о подобных вопросах и даже non compos mentis[19], так что петиция все равно будет единодушной. Однако и этого добиться не удалось: друзья Банса были так же непреклонны, как и он сам. Так что пока под документом стояло всего шесть крестиков. Банс умел писать свое имя вполне разборчиво, а один из трех колеблющихся долгие годы похвалялся таким же умением; у него и впрямь была Библия, на которой он лет тридцать назад собственноручно вывел: «Джоб Скулпит». Подозревали, что Джоб Скулпит с тех пор позабыл свою ученость и что именно отсюда проистекает его нерешительность, а если он ее преодолеет, двое оставшихся последуют его примеру. Документ, подписанный лишь половиной стариков, произвел бы жалкое впечатление.
Сейчас письмо лежало в комнате Скулпита, дожидаясь подписей, которые Эйбл Хенди сумеет добыть своим красноречием. Шесть крестиков были должным образом заверены, вот так:
и так далее. Карандашом отметили места для тех собратьев, которые должны были теперь присоединиться, только Скулпиту оставили целую строчку, чтобы тот ровным писарским почерком вывел свои имя и фамилию. Хенди принес петицию, разложил ее на маленьком столе и теперь нетерпеливо стоял рядом. Моуди вошел вслед за ним с чернильницей, которую предусмотрительно оставил Финни, а Сприггс держал высоко, как меч, старое, испачканное чернилами перо и время от времени пытался вложить его в безвольные пальцы Скулпита.
Вместе с ученым человеком были двое его товарищей по нерешительности, Уильям Гейзи и Джонатан Крампл. «Если отправлять петицию, то сейчас», – сказал Финни, так что можно вообразить волнение тех, кто полагал, что от этого документа зависят их сто фунтов в год.
– Лишиться таких деньжищ, – шепнул Моуди своему другу Хенди, – из-за старого дуралея, возомнившего, будто он умеет писать свое имя, как порядочные!
– Вот что, Джоб, – сказал Хенди, безуспешно силясь придать своей кислой физиономии ободряющую улыбку, – мистер Финни говорит, надо подписывать, вот тебе тут место оставили. – И он ткнул бурым пальцем в грязную бумагу. – Имя или крестик, все одно. Давай, старина. Если уж нам доведется потратить наши денежки, то чем скорее, тем лучше, я так считаю.
– Уж точно, мы все не молодеем, – подхватил Моуди. – И мы не можем торчать тут долго – того гляди, старый Смычок придет.
Так эти неблагодарные называли нашего доброго друга. Самый факт прозвища был извинителен, однако намек на источник сладкозвучной радости задел бы даже незлобивого мистера Хардинга. Будем надеяться, что он так и остался в неведении.
– Только подумай, старина Билли Гейзи, – сказал Сприггс. Он был значительно моложе собратьев, но отличался не самой располагающей внешностью, так как некогда в подпитии упал в камин и лишился одного глаза, насквозь прожег щеку и остался с обгоревшей рукой. – Сотня в год, трать, как душа пожелает. Только подумай, старина Билли Гейзи! – И он ухмыльнулся во весь свой обезображенный рот.
Старина Билли Гейзи не разделял общего возбуждения. Он только потер старые слезящиеся глаза рукавом приютской одежды и пробормотал, что не знает, не знает, не знает.
– Но ты-то, Джонатан, знаешь, – продолжал Сприггс, поворачиваясь к другому товарищу Скулпита, который сидел на табурете у стола и отрешенно смотрел на петицию.
Джонатан Крампл был кроткий, тихий старичок, знававший лучшие дни. Негодные дети растратили его деньги и превратили его жизнь в сущий ад. В богадельню он поступил недавно и с тех пор не знал ни печалей, ни забот, так что эта попытка разжечь в нем новые надежды была, по сути, жестокой.
– Сотня в год – дело хорошее, тут ты прав, братец Сприггс, – сказал он. – У меня когда-то было почти столько, да только добра мне это не принесло. – И он тяжко вздохнул, вспоминая, как собственные дети его обобрали.
– И снова будет, Джо, – сказал Хенди. – И ты на этот раз найдешь кого-нибудь, кто сбережет твои денежки в целости и сохранности.
Крампл снова вздохнул: он на своем опыте убедился в бессилии земного богатства и, если бы не соблазн, счастливо довольствовался бы шиллингом и шестью пенсами в день.
– Ну же, Скулпит, – проговорил Хенди, теряя терпение. – Ты же не будешь вместе с Бансом помогать этому попу нас грабить. Бери перо, старина, и покажи, на что ты способен. – Видя, что Скулпит все еще колеблется, он добавил: – По мне так самое распоследнее дело видеть, как человек боится постоять за себя.
– Чтоб им всем сдохнуть, этим попам, – прорычал Моуди. – Все жрут и жрут! И не нажрутся, пока не ограбят всех и вся!
– Да что они тебе сделают, приятель? – вступил Сприггс. – Хоть бы они и обозлились, выгнать тебя отсюда они не смогут – ни старый Смычок, ни Ляжки!
Как ни прискорбно, этим оскорбительным упоминанием нижней части его фигуры старики обозначали архидьякона.
– Сто фунтов в год на кону, а нет – ты ничего не теряешь, – продолжал Хенди. – Да чтоб мне провалиться! В толк не возьму, как можно от такого жирного куска отказаться, да токмо некоторые трусоваты… У некоторых отродясь смелости не было… некоторые робеют от одного вида джентльменских сюртука и жилетки.
Ах, мистер Хардинг, если бы ты внял совету архидьякона, когда решалось, взять в богадельню Джо Муттерса или этого неблагодарного смутьяна!
– Попа он боится, – прорычал Моуди, скалясь от безграничного презрения. – Я скажу тебе, чего я боюсь. Я боюсь не получить от них своего – вот чего я боюсь больше, чем всех попов.
– Но, – виновато начал Скулпит, – мистер Хардинг не такой и плохой. Он ведь дает нам по два пенса в день, верно?
– Два пенса в день! – возмущенно повторил Сприггс, широко открывая жуткую пустую глазницу.
– Два пенса в день, – пробормотал Моуди. – Да провались он со своими двумя пенсами!
– Два пенса в день! – воскликнул Хенди. – Нет, я не пойду со шляпой в руке благодарить его за два пенса в день, когда он должен мне сто фунтов в год! Ну уж, спасибо! Тебе, может, и довольно двух пенсов в день, а мне так мало. Слушай, Скулпит, ты будешь подписывать эту бумагу или нет?
Скулпит в томительной нерешительности глянул на товарищей.
– Как думаешь, Билл Гейзи? – спросил он.
Однако Билл Гейзи не мог думать; он издал звук, похожий на блеяние старой овцы, долженствующий выразить всю муку его сомнений, и вновь пробормотал, что не знает.
– Соберись, старая развалина! – сказал Хенди, вкладывая перо в пальцы несчастного Билли. – Давай! Эх, дурачина, размазал чернила! Ладно, сойдет. Ничем не хуже имени.
И все решили считать большое чернильное пятно согласием Билла Гейзи.
– Теперь ты, Джонатан, – сказал Хенди, поворачиваясь к Джонатану Крамплу.
– Сто фунтов в год дело, конечно, хорошее, – вновь начал Крампл. – Что скажешь, братец Скулпит, как быть?
– Поступай как знаешь, – ответил Скулпит. – Поступай, как знаешь, я-то что?
Перо вложили в руку Крампла, и на бумаге появились дрожащие бессмысленные черточки, означающие поддержку Джонатана Крампла.
– Давай, Джоб, – сказал Хенди, немного смягчаясь от своего успеха. – Пусть не говорят, что ты у Банса в кулаке. Ты ничем не хуже его, хоть тебя и не зовут в хозяйский дом пить вино и наговаривать на товарищей!
Скулпит взял перо и сделал маленький росчерк в воздухе. Однако он все еще был в сомнении.
– А ежели бы ты меня спросил, – продолжал Хенди, – я бы тебе сказал не писать свое имя, а поставить крест, как все.
Тень на челе Скулпита начала понемногу рассеиваться.
– Мы все знаем, что ты можешь, – добавил Хенди, – но вдруг тебе неохота над нами заноситься.
– Да, крестик всяко лучше, – согласился Скулпит. – Одно имя, а все остальные крестики – это ж плохо будет выглядеть, верно?
– Хуже некуда, – подтвердил Хенди, и ученый грамотей, склонившись над петицией, нарисовал большой крест в строке, оставленной для его подписи.
– Ну вот, так-то славно, – сказал Хенди, триумфально убирая петицию в карман, – а старый Банс и его подпевалы…
Однако, ковыляя к двери с костылем в одной руке и палкой в другой, он едва не натолкнулся на Банса.
– Ну, Хенди, что должен сделать старый Банс? – осведомился седовласый великан.
Хенди что-то пробормотал и попытался улизнуть, однако новоприбывший загородил ему выход.
– Не с добром ты сюда приходил, Эйбл Хенди, – сказал он, – уж это-то мне ясно. Да и вообще мало чего в жизни сделал доброго.
– Я здесь по своей надобности, мастер Банс, – пробормотал Хенди, – и тебе до нее дела нет. А что ты ходишь и вынюхиваешь, так от того теперь никому ни жарко, ни холодно.
– Полагаю, Джоб, – продолжал Банс, оставляя последние слова без внимания, – ты все-таки подписал их петицию.
У Скулпита лицо стало такое, будто он готов провалиться сквозь землю от стыда.
– А тебе какая печаль, чего он подписывает? – вмешался Хенди. – Ежели мы решили получить свое, то не должны спрашивать твоего разрешения, мастер Банс, а вот что ты пришел вынюхивать к Джобу в комнату, когда он занят и когда тебя никто не звал…
– Я знаю Джоба Скулпита шестьдесят лет, – сказал Банс, глядя на того, о ком говорил, – то есть с самого его рождения. Я знал его мать, когда мы с нею были совсем крошки и рвали маргаритки вон там у собора. Я прожил с ним под одной крышей десять лет. После этого я могу входить в его комнату, когда вздумаю, и никто не скажет, будто я чего-то вынюхиваю.
– Можешь, конечно, мастер Банс, – вставил Скулпит. – В любой час дня и ночи.
– И я ровно так же волен сказать ему, что думаю, – продолжал Банс, глядя на одного и обращаясь к другому. – И я говорю ему, что он поступил глупо и дурно. Он отвернулся от лучшего друга и пошел на поводу у тех, кому на него плевать, бедного или богатого, больного или здорового, живого или мертвого. Сотня в год? Да вы что, совсем простофили, коли поверили, будто кто-нибудь даст по сотне в год таким, как вы? – Он указал на Билли Гейзи, Сприггса и Крампла. – Да заслужил ли кто из нас хоть половину этих денег? Разве нас для того сюда взяли, чтобы сделать джентльменами, когда все от нас отвернулись и мы не могли больше зарабатывать себе на хлеб? И разве вы по-своему не так же богаты, как он по-своему? – И оратор махнул в сторону смотрительского дома. – Разве вы не получаете все, на что надеялись, да еще то, на что и надеяться не могли? Разве каждый из вас не отдал бы правую руку, чтобы сюда попасть? И где теперь ваша благодарность?
– Мы хотим получить то, что оставил нам Джон Хайрем, – сказал Хенди. – Мы хотим то, что наше по закону, и неважно, чего мы ждем. Что наше по закону, должно быть нашим, и мы его получим, хоть тресни.
– По закону! – презрительно повторил Банс. – По закону! Да когда вы видели, чтобы бедняки получали что хорошее от закона или законника? Будет ли Финни заботиться о тебе, Джоб, как заботился тот человек? Придет ли он к тебе, когда заболеешь, утешит ли, когда тебе будет худо?
– А тебе он не нальет стаканчик портвейна холодным вечерком, да? – парировал Хенди, и, расхохотавшись над этой остроумной шуткой, он и его сторонники удалились, унося с собой подписанную петицию.
Бесполезно плакать над пролитым молоком. Мистеру Бансу осталось лишь вернуться к себе, горюя о слабости человеческой натуры. Джоб Скулпит почесал голову, Джонатан Крампл повторил: «Сотня в год дело, конечно, хорошее», а Билли Гейзи вновь потер глаза и прошептал, что не знает…
Глава V
Архидьякон посещает богадельню
Хотя в груди нашего бедного регента теснились сомнения, его доблестный зять был чужд подобным слабостям. Как петух перед боем точит шпоры, топорщит перья и расправляет гребень, так архидьякон без страха и колебаний готовил оружие к грядущей битве. Пусть никто не усомнится в искренности его чувств. Многие могут сражаться храбро, но при этом ощущать смутные укоры совести – доктор Грантли не из таких. В святость церковных доходов он верует не менее твердо, чем в Евангелие. В борьбе за жалованье нынешнего и будущих барчестерских регентов его одухотворяло то же сознание высшей цели, какое придает силы африканскому миссионеру или помогает сестре милосердия оставить мирские удовольствия ради служения раненым. Он собирался уберечь святая святых от нечестивца, отстоять цитадель церкви от злейшего врага, облечься в доспех для праведной брани и сберечь, если удастся, преимущества своей веры для будущих поколений духовенства. Заурядной мощью в подобном деле не обойтись, но архидьякон обладал мощью незаурядной. Такая задача требует кипучей отваги и радости сердечной в трудах; отвага архидьякона кипела, а сердце было исполнено радостью.
Он знал, что не сможет зажечь тестя своим чувством, но мысль эта его не смущала. Доктор Грантли хотел принять всю тяжесть боя на себя и был уверен, что смотритель покорно вверится его заботам.
– Итак, мистер Чедуик, – сказал он, входя к управляющему через день или два после событий, описанных в последней главе, – есть сегодня известия от Кокса и Камминса?
Мистер Чедуик протянул письмо, которое архидьякон прочел, задумчиво поглаживая правую ляжку. Господа Кокс и Камминс сообщали только, что противная сторона пока к ним не обращалась, что они не рекомендуют что-либо сейчас предпринимать, но, буде дело дойдет до иска со стороны пансионеров, советовали бы заручиться помощью советника королевы, сэра Абрахама Инцидента.
– Совершенно с ними согласен, – произнес доктор Грантли, складывая письмо. – Абсолютно согласен. Инцидент – вот кто нам нужен. Настоящий человек церкви, стойкий консерватор, во всех отношениях самый подходящий человек. И к тому же член парламента, что тоже очень существенно.
Мистер Чедуик согласился:
– Помните, как он совершенно уничтожил этого мерзавца Хорсмана в деле о доходах епископа Беверли[20], как он разгромил их в пух и прах, защищая графа? – После шумихи вокруг Больницы Святого Креста слово «граф» в устах доктора означало исключительно лорда Гилдфорда. – Как он заткнул рот тому малому из Рочестера? Конечно, надо обратиться к Инциденту, и я скажу вам, мистер Чедуик: надо поспешить, чтобы противники нас не опередили.
При всем восхищении сэром Абрахамом доктор, видимо, не исключал, что враги церкви могут сманить великого человека на свою сторону.
Выйдя от Чедуика, доктор направился к богадельне, чтобы узнать, как обстоят дела там. Шагая через территорию собора и глядя на воронов, каркавших сегодня особо благоговейно, он с растущей горечью думал о тех, кто покушается на покой духовных учреждений.
И кто не разделил бы его чувства? Мы думаем, сам мистер Хорсман смирился бы душой, а сэр Бенджамин Холл растерял свой кураж[21], случись этим реформаторам прогуляться при луне вокруг башни какой-нибудь из наших древних церквей. Кто не проникнется любовью к пребендарию[22], идя по Винчестеру, глядя на ряды благообразных домов, на аккуратные газоны и ощущая строгий, упорядоченный покой этого места? Кто не пожелает всяческого добра настоятелю, любуясь Херефордским собором в сознании, что цвет и тон, архитектура и форма, торжественные башни и стрельчатые окна – все гармонично, все совершенно? Кто, греясь на солнце в клуатрах Солсбери, посматривая на библиотеку Джуела[23] и бесподобный шпиль, не подумает, что епископу иногда надо быть богатым?
Умонастроения доктора Грантли не должны нас удивлять: они – поросль от многовекового корня церковного господства, и хотя иные стволы сегодня обезображены древесными грибами, а иные высохли, разве мало они дают доброго плода, за который мы благодарны? Кто может без сожаления спилить мертвые ветви старого дуба (бесполезные, но, ах, все еще такие красивые!) или выкорчевать остатки древнего леса, не думая, что эти деревья некогда служили защитой молодым росткам, место для которых теперь так безапелляционно, так грубо требуют освободить?
Архидьякон при всех своих достоинствах не отличался деликатностью и, войдя в смотрительскую гостиную, сразу после утренних приветствий начал обличать «гнусного Джона Болда» в присутствии мисс Хардинг, хотя справедливо подозревал, что имя его врага ей небезразлично.
– Нелли, дорогая, принеси мои очки из дальней комнаты, – сказал смотритель, оберегая чувства дочери.
Элинор принесла очки (в ее отсутствие отец пытался окольными фразами объяснить своему чересчур практичному тестю, что лучше не говорить при ней о Болде) и ушла к себе. Никто не рассказал ей про Болда и богадельню, но она женским чутьем чувствовала: что-то неладно.
– Скоро нам придется что-нибудь предпринять, – начал архидьякон, вытирая лоб большим пестрым платком, ибо он, спеша успеть по всем делам, шел быстро, а день выдался жаркий. – Вы, конечно, слышали про петицию?
Мистер Хардинг нехотя признал, что слышал.
– Итак, – продолжил архидьякон, не дождавшись, что мистер Хардинг выразит свое мнение, – вы понимаете, что мы должны что-нибудь предпринять. Мы не можем сидеть и смотреть, как эти люди выбивают почву у нас из-под ног.
Архидьякон, как человек практичный, позволял себе в тесном дружеском кругу прибегать к разговорным выражениям, хотя как никто умел воспарить в лабиринт возвышенной фразеологии, когда речь шла о церкви, а слушателями были младшие собратья.
Смотритель по-прежнему безмолвно смотрел ему в лицо, еле заметно водя воображаемым смычком и зажимая воображаемые струны пальцами другой руки. Это было его всегдашним утешением в неприятных разговорах. Если беседа огорчала его сильно, движения были короткие и медленные, а верхняя рука внешне не участвовала в игре, однако струны, которые она зажимала, могли прятаться в кармане у музыканта, а инструмент – под стулом, но когда его сердце, его чуткое сердце, проникнув в самую глубину того, что было ему так мучительно, находило выход, он начинал играть более быструю мелодию, перебирая струны от горла, вниз по жилетке, и снова вверх, до самого уха, рождая экстатическую музыку, слышную лишь ему и святой Цецилии, – и не без результата.
– Я совершенно согласен с Коксом и Камминсом, – продолжил архидьякон. – Они пишут, что нам нужно заручиться помощью сэра Абрахама Инцидента. Я без малейшего страха передам дело ему.
Смотритель играл самую печальную и самую медленную из своих мелодий – похоронный плач на одной струне.
– Думаю, сэр Абрахам быстро поставит мастера Болда на место. Я уже слышу, как сэр Абрахам подвергает его перекрестному допросу в Суде общих тяжб.
Смотритель представил, как обсуждают его доход, его скромную жизнь, повседневные привычки и необременительный труд, и единственная струна издала протяжный стон.
– Как я понимаю, они направили петицию моему отцу.
Смотритель не знал точного ответа; он предположил, что петицию должны отправить сегодня.
– Чего я не понимаю, так это как вы такое допустили, при том что у вас есть Банс. Уж казалось бы, с его помощью вы могли бы держать их в руках. Не понимаю, как вы им позволили.
– Позволил что? – спросил смотритель.
– Слушать этого Болда и другого кляузника, Финни. И написать петицию. Почему вы не велели Бансу уничтожить ее?
– Едва ли это было бы разумно, – ответил смотритель.
– Разумно – да, очень разумно было бы, если бы они разобрались между собой. А теперь я должен идти во дворец и отвечать на их петицию. Обещаю вам, ответ будет очень коротким.
– Но почему им нельзя было подать петицию, архидьякон?
– Почему нельзя?! – воскликнул архидьякон так громогласно, словно пансионеры могли услышать его сквозь стены. – Почему нельзя?! Я им объясню, почему нельзя. Кстати, смотритель, я бы хотел сказать несколько слов им всем.
Смотритель растерялся так, что на миг перестал играть. Он категорически не желал уступать зятю свои полномочия, решительно не намеревался вмешиваться в какие-либо действия пансионеров по спорному вопросу, ни в коем случае не хотел обвинять их или защищать себя. И он знал, что именно это все архидьякон сделает от его имени, причем далеко не кротко, однако не находил способа отказаться.
– Я предпочел бы обойтись без лишнего шума, – сказал он виновато.
– Без лишнего шума! – повторил архидьякон все тем же трубным гласом. – Вы хотите, чтобы вас растоптали без лишнего шума?
– Если меня растопчут, то да, безусловно.
– Чепуха, смотритель. Я вам говорю, надо что-то делать. Необходимо принимать активные меры. Давайте я позвоню, и пусть им скажут, что я хочу поговорить c ними на плацу.
Мистер Хардинг не умел противиться, и ненавистный приказ был отдан. «Плацом» в богадельне шутливо называли площадку, выходящую одной стороной к реке. С трех других сторон ее окружали садовая стена, торец смотрительского дома и собственно здание богадельни. «Плац» был замощен по периметру плитами, а в середине – булыжником; в самом центре располагалась решетка, к которой от углов шли каменные канавки. Вдоль торца дома под навесом от дождя располагались четыре водопроводных крана; здесь старики брали воду и здесь же обычно умывались по утрам. Место было тихое, покойное, затененное деревьями смотрительского сада. Со стороны, выходившей к реке, стояли каменные скамьи, на которых старики частенько сидели, глядя на шнырявших в реке рыбешек. На другом берегу расстилался сочный зеленый луг; он уходил вверх по склону до самого настоятельского дома, так же скрытого от глаз, как и настоятельский сад. Другими словами, не было места укромнее, чем плац богадельни, и здесь-то архидьякон собирался сказать пансионерам, что думает об их негодном поступке.
Слуга скоро принес известие, что пансионеры собрались, и доктор Грантли нетерпеливо поднялся, чтобы обратиться к ним с речью.
– Вам, безусловно, следует пойти со мной, – объявил он, заметив, что мистер Хардинг не выказывает намерения последовать за ним.
– Я предпочел бы остаться, – заметил мистер Хардинг.
– Бога ради, давайте не будем допускать раскола в собственном лагере, – ответил архидьякон, – давайте наляжем со всей мочи, а главное – сообща. Идемте, смотритель, не бойтесь своего долга.
Мистер Хардинг боялся – боялся, что его принуждают к действиям, вовсе не составляющим его долг. Однако у него не было сил противиться, так что он встал и пошел вслед за зятем.
Старики кучками собрались на плацу, во всяком случае одиннадцать из двенадцати, поскольку бедный лежачий Джонни Белл уже давно не ходил и даже не вставал; он, впрочем, в числе первых поставил крестик под петицией. Да, он не мог подняться с постели, да, у него не осталось в мире ни одной близкой души, кроме друзей в богадельне, из которых самыми верными и любимыми были смотритель и его дочка, да, старик получал все, что требовалось слабому телу, все, что могло порадовать угасавший аппетит, – тем не менее его потухшие глаза заблестели при мысли заполучить «по сотне на нос», как красноречиво выразился Эйбл Хенди, и бедный старый Джонни Белл алчно поставил крестик под петицией.
Когда появились двое священников, все обнажили головы. Хенди помедлил было, однако черные сюртук и жилетка, о которых он с таким пренебрежением говорил в комнате Скулпита, действовали даже и на него, так что он тоже снял шляпу. Банс, выйдя вперед, низко поклонился архидьякону и с ласковым почтением выразил надежду, что смотритель и мисс Элинор пребывают в добром здравии, а также, добавил он, вновь поворачиваясь к архидьякону, «и супруга, и детки в Пламстеде, и милорд епископ». Покончив с этим приветствием, он вернулся к остальными и тоже занял место на каменной скамье.
Архидьякон, который собирался произнести речь, походил на священную статую, воздвигнутую посреди каменной площадки, – достойное олицетворение Церкви Воинствующей на земле. Его шляпа, большая и новая, с широкими загнутыми полями, каждым дюймом свидетельствовала о принадлежности к духовному званию. Густые брови, широко открытые глаза, полные губы и сильный подбородок соответствовали величию сана; добротное сукно на широкой груди говорило о благосостоянии клира, рука, убранная в карман, символизировала рачение нашей матери-церкви о временном имуществе, другая, свободная, – готовность сразиться за ее святыни, а ниже пристойные панталоны и аккуратные черные гетры подчеркивали прекрасное сложение ног, зримо обозначая достоинство и внутреннюю красоту нашей церковной иерархии.
– Итак, – начал он, приняв ораторскую позу, – я хочу сказать вам несколько слов. Ваш добрый друг смотритель, и я, и его преосвященство епископ, от имени которого я к вам обращаюсь, весьма огорчились бы, будь у вас справедливые основания жаловаться. Любую справедливую причину для жалоб смотритель, его преосвященство или я от его имени немедленно устранили бы без всяких петиций.
Здесь оратор сделал паузу. Он ожидал редких хлопков, означавших бы, что самые слабые в стане противника понемногу сдаются. Однако хлопков не последовало, даже Банс сидел молча, поджав губы.
– Без всяких петиций, – повторил архидьякон. – Мне сказали, что вы направили его преосвященству петицию.
Он вновь сделал паузу, дожидаясь ответа, и через некоторое время Хенди собрался с духом и подал голос:
– Да, направили.
– Вы направили его преосвященству петицию, в которой, как мне сообщили, пишете, что не получаете положенного вам по завещанию Джона Хайрема.
На сей раз ответом стал согласный гул большей части пансионеров.
– Итак, чего вы просите? Чего вам здесь недостает? Что…
– Сто фунтов в год, – пробурчал старый Моуди. Казалось, его голос шел из-под земли.
– Сто фунтов в год! – вскричал воинствующий архидьякон. Он поднял сжатую руку, выказывая свое возмущение наглым требованием, а другой крепко стиснул в кармане панталон монетки по полкроны[24] – символ церковного богатства. – Сто фунтов в год! Да вы, наверное, выжили из ума! Вы говорите о завещании Джона Хайрема. Когда Джон Хайрем строил приют для немощных стариков, бедных мастеровых, неспособных больше себя кормить, увечных, слепых, недужных, думаете ли вы, что он собирался сделать их джентльменами? Думаете ли вы, что Джон Хайрем хотел дать сто фунтов в год одиноким старикам, которые в лучшие-то годы зарабатывали от силы два шиллинга или полкроны в день? О нет. Я скажу вам, чего хотел Джон Хайрем. Он хотел, чтобы двенадцать убогих стариков, которых некому поддерживать и которые умерли бы от голода и холода в жалкой нищете, перед смертью получили в этих стенах пищу, кров и немного покоя, чтобы примириться с Богом. Вот чего хотел Джон Хайрем. Вы не читали завещания, и сомневаюсь, что его читали дурные люди, которые вас подстрекают. Я читал, я знаю, что написано в этом завещании, и я вам говорю, что именно такова была его воля.
Ни звука не донеслось со стороны одиннадцати стариков. Они молча слушали, какова, по мнению архидьякона, их участь. Они созерцали его внушительную фигуру, ни словом, ни жестом не показывая, как оскорбили их выбранные им выражения.
– А теперь подумайте, – продолжал он, – хуже ли вам живется, чем хотел Джон Хайрем? У вас есть кров, пища, покой и еще многое в придачу. Вы едите в два раза лучше, спите в два раза мягче, чем до того, как вам посчастливилось сюда попасть, у вас в кармане вдесятеро больше денег, чем вы зарабатывали в прежние дни. А теперь вы пишете епископу петицию и требуете по сто фунтов в год! Я скажу вам, друзья мои: вас одурачили мерзавцы, действующие в собственных корыстных целях. Вы не получите и ста пенсов в год к тому, что получаете сейчас, а вполне возможно, станете получать меньше. Вполне возможно, что его преосвященство или смотритель внесут изменения…
– Нет-нет-нет, – перебил смотритель, с неописуемой тоской слушавший тираду своего зятя, – нет-нет, друзья мои. Пока мы с вами живем вместе, я не хочу ничего менять, по крайней мере в худшую для вас сторону.
– Благослови вас Бог, мистер Хардинг, – сказал Банс.
– Благослови вас Бог, мистер Хардинг. Благослови вас Бог, сэр. Мы знаем, что вы всегда были нашим другом, – подхватили другие пансионеры, если не все, то почти все.
Архидьякон еще не закончил речь, но не мог без ущерба для достоинства продолжать ее после этого всплеска чувств, так что повернулся и пошел в сторону сада, смотритель – за ним.
– Что ж, – сказал доктор Грантли, оказавшись в прохладной тени деревьев, – думаю, я говорил вполне ясно.
И он утер пот со лба, потому что ораторствовать на солнцепеке в черном суконном костюме – работа нелегкая.
– Да, вполне, – ответил смотритель без всякого одобрения.
– А это главное, – продолжал его собеседник, явно очень довольный собой, – это главное. С такими людьми надо говорить просто и ясно, иначе не поймут. Думаю, они меня поняли. Поняли, что я хотел им сказать.
Смотритель согласился. Он тоже считал, что пансионеры вполне поняли архидьякона.
– Они знают, чего от нас ждать, знают, что мы будем пресекать всякую строптивость, знают, что мы их не боимся. А теперь я загляну к Чедуику, расскажу ему, что сделал, потом зайду во дворец и отвечу на их петицию.
Смотрителя переполняли чувства – переполняли настолько, что готовы были вырваться наружу. Случись это, позволь он себе высказать вслух бурлящие внутри мысли, архидьякон бы очень удивился суровой отповеди. Однако другие чувства заставляли мистера Хардинга молчать. Он все еще боялся выразить несогласие с зятем – он всеми силами избегал даже видимости разлада с другим священнослужителем и мучительно страшился открытой ссоры с кем бы то ни было даже по малейшему поводу. Его жизнь до сих пор была тиха и безмятежна. Прежние мелкие трудности требовали лишь пассивной стойкости, а нынешний достаток ни разу не вынуждал к какому-либо деятельному противостоянию, ни разу не становился причиной тягостных разногласий. Он отдал бы почти все – куда больше, чем по совести считал себя обязанным отдать, – чтобы отвратить надвигавшуюся бурю. Горько было думать, что приятное течение его жизни потревожат и возмутят грубые руки, что его тихие тропки превратятся в поле сражения, что скромный уголок мира, дарованный ему провидением, осквернят, не оставив там ничего доброго.
Он не мог бы откупиться деньгами, потому что их у него не было: добрый смотритель так и не научился складывать гинею к гинее. Однако с какой готовностью, с какой глупой легкостью, с какой радостью отдал бы он половину всех будущих доходов, если бы от этого тихонько рассеялись собравшиеся над ним тучи, если бы это примирило реформатора и консерватора: возможного завтрашнего зятя, Болда, и реального сегодняшнего зятя, архидьякона.
На подобные компромиссы мистер Хардинг пошел бы не для того, чтобы спасти хоть сколько-то: он по-прежнему почти не сомневался, что ему оставят его нынешнее теплое местечко до конца жизни, если он сам так решит. Нет, он руководствовался бы единственно любовью к тишине и страхом перед публичным обсуждением своей особы. Смотритель был жалостлив – чужие страдания ранили его душу, – но никого он так не жалел, как старого лорда, чье сказочное богатство, полученное от церковного бенефиция, навлекло на несчастного такое бесчестье, такое общественное порицание, дряхлого восьмидесятилетнего Креза, которому не дали умереть в мире и против которого ополчился весь свет.
Неужто и ему суждена похожая участь? Неужто газетчики поставят его к позорному столбу как человека, который жирует на деньги бедняков, на средства, оставленные благотворителем для поддержания старых и немощных? Неужто его имя станет синонимом гнета, неужто он превратится в пример алчности англиканского духовенства? Скажут ли, что он ограбил стариков, которых так искренне любил всем сердцем? Час за часом мистер Хардинг расхаживал под величавыми липами, погруженный в свои печальные мысли, и почти окончательно утвердился в решении предпринять какой-нибудь значительный шаг, который убережет его от столь ужасной судьбы.
Тем временем архидьякон в прекрасном расположении духа продолжил утренние труды. Он перемолвился словом-другим с мистером Чедуиком, затем, обнаружив, как и ожидал, что петиция лежит в отцовской библиотеке, написал короткий ответ, в котором сообщал пансионерам, что у них нет никаких оснований жаловаться на ущемление прав, а, напротив, есть все основания благодарить за оказанные им милости, затем, проследив, чтобы отец подписал письмо, сел в экипаж и отправился домой к миссис Грантли, в Пламстед.
Глава VI
Чай у смотрителя
После долгих сомнений лишь на одном мистер Хардинг смог остановиться окончательно: он решил, что ни в коем случае не будет обижаться и не позволит этому вопросу поссорить его с Болдом или пансионерами. Во исполнение задуманного он, не откладывая, написал мистеру Болду записку с приглашением в указанный вечер на следующей неделе послушать музыку в кругу нескольких друзей. В нынешнем состоянии духа мистер Хардинг, наверное, предпочел бы обойтись без увеселений, однако он еще раньше пообещал Элинор этот маленький прием. Так что когда она заговорила с отцом о приглашениях, то была приятно удивлена его ответом:
– Я тут думал о Джоне Болде, так что написал ему сам. А ты напиши его сестре.
Мэри Болд была старше брата, и ко времени нашего рассказа ей исполнилось тридцать. Она была миловидна, хотя далеко не красавица, но более всего в ней покоряла доброта. Мэри не отличалась ни особым умом, ни особой живостью, не обладала деятельной энергией брата, однако руководствовалась в жизни высокими принципами добра и зла, нрав у нее был мягкий, а достоинства преобладали над недостатками. При первой встрече она не оставляла сильного впечатления, но внушала любовь всем, знавшим ее близко, и чем дольше продолжалось знакомство, тем сильнее становилась эта любовь. В число тех, кто питал к ней самую теплую приязнь, входила Элинор Хардинг. Они никогда прямо не разговаривали о брате Мэри, и все же каждая понимала, что другая к нему испытывает.
Когда принесли записку, брат и сестра сидели вместе.
– Как странно, что они прислали два приглашения, – заметила Мэри. – Если уж мистер Хардинг завел у себя модные порядки, то я просто не знаю, чего ждать следующим.
Брат тут же понял, что ему предлагают мир. Однако он находился в более трудном положении, чем мистер Хардинг: обиженному всегда проще проявить великодушие, нежели обидчику. Джон Болд чувствовал, что не может пойти в гости к мистеру Хардингу. Его любовь к Элинор была сильна как никогда, а препятствия лишь усилили желание поскорее назвать ее своей женой. И все же, хотя ее отец сам предлагал убрать эти препятствия, Джон Болд чувствовал, что не может больше переступить его порог в качестве друга.
Покуда он сидел с запиской в руке, размышляя, сестра ждала его решения.
– Ладно, – проговорила она. – Наверное, надо отправить два ответа и в обоих написать, что мы придем с радостью.
– Ты, конечно, иди, а я не могу, – сказал он с печальной серьезностью. – Всем сердцем хотел бы пойти.
– Так почему нет? – удивилась Мэри. Она еще не слышала о новом злоупотреблении, которое взялся искоренить ее брат, по крайней мере не слышала в связи с его именем.
Он некоторое время раздумывал, потом решил, что лучше сразу объяснить все обстоятельства, все равно рано или поздно придется.
– Боюсь, я больше не могу бывать у мистера Хардинга по-приятельски, по крайней мере сейчас.
– Отчего, Джон? Что случилось? Ты поссорился с Элинор?
– Нет, – ответил он. – С нею я пока не ссорился.
– Так в чем же дело? – Мэри глядела на него с любящей тревогой, зная, как дорог брату дом, в котором он, по собственным словам, не может больше бывать.
Джон ответил не сразу:
– Видишь ли, я взялся помогать двенадцати старикам в Хайремской богадельне, и, разумеется, это затрагивает мистера Хардинга. Возможно, мне придется вступить с ним в противостояние; возможно, я больно его задену.
Мэри некоторое время прямо смотрела ему в глаза, прежде чем ответить, но и тогда спросила лишь, что он намерен сделать для стариков.
– История долгая, и я не уверен, что ты все поймешь. Джон Хайрем завещал имущество на содержание бедных стариков, а доходы, которые должны идти этим старикам, попадают главным образом в карман к смотрителю и епископскому управляющему.
– А ты решил отобрать у мистера Хардинга его долю?
– Я еще не знаю, что решил. Я хочу разобраться, выяснить, кто имеет право на эту собственность, и, если сумею, восстановить справедливость по отношению к барчестерским беднякам в целом, поскольку фактически именно они – отказополучатели по данному завещанию.
– И зачем ты это делаешь, Джон?
– Ты можешь задать этот вопрос кому угодно, – ответил он, – и получится, что бедняков не должен защищать никто. Если действовать по этому принципу, то не надо вступаться за слабых, давать отпор беззаконию и отстаивать права бедных! – И Джон Болд почувствовал, как собственная добродетель придает ему сил.
– Но разве некому этим заняться, кроме тебя? Ты знаешь мистера Хардинга столько лет! Как друг, как младший друг, Джон, много младше мистера Хардинга…
– Это женская логика от начала до конца, Мэри. При чем тут возраст? Другой человек тоже может сослаться на старость. А что до дружбы, личные мотивы не должны мешать борьбе за правду. Неужто мое уважение к мистеру Хардингу – повод пренебречь долгом по отношению к старикам? Неужто страх лишиться его общества не даст мне исполнить веление совести?
– А Элинор? – спросила Мэри, робко заглядывая ему лицо.
– Элинор… то есть мисс Хардинг… если она… то есть если ее отец… вернее, если она… или, скорее, он… коли они сочтут нужным… но сейчас совершенно нет надобности говорить про Элинор Хардинг. Скажу одно: если я в ней не ошибаюсь, то она не осудит меня за то, что я следую долгу. – И Болд обрел подобие душевного покоя в утешении римлянина.
Мэри сидела молча, пока брат не напомнил ей, что надо ответить на приглашения. Она встала, поставила перед собой письменный ящичек, взяла бумагу и перо, медленно вывела:
Пакенхем-вилла
Вторник, утро
Моя дорогая Элинор!
Я…
и поглядела на брата.
– В чем дело, Мэри, почему ты не пишешь?
– Ах, Джон, – сказала она, – дорогой Джон, прошу тебя, подумай еще раз.
– О чем?
– О богадельне… о мистере Хардинге… о том, что ты говорил про тех стариков. Никто… никакой долг не требует от тебя ополчаться против лучшего, самого старинного друга. И Джон, подумай об Элинор. Ты разобьешь сердце и ей, и нам.
– Чепуха, Мэри. Сердцу мисс Хардинг ничто не угрожает, равно как и твоему.
– Умоляю тебя, ради меня, остановись, ты ведь ее любишь! – Мэри подошла и встала рядом с ним на колени. – Умоляю, остановись. Ты сделаешь несчастными себя, ее и ее отца. Ты сделаешь несчастными всех нас. И ради чего? Ради призрачной справедливости. Ты не добавишь тем двенадцати старикам ничего к тому, что у них уже есть.
– Ты не понимаешь, милая, – сказал он, гладя ее по голове.
– Я все понимаю, Джон. Понимаю, что это химера – твоя призрачная мечта. Я знаю, что никакой долг не требует от тебя такого безумного, такого самоубийственного поступка. Я знаю, что ты любишь Элинор Хардинг, и я говорю тебе сейчас: она тоже тебя любит. Будь это твой прямой долг, я последняя посоветовала бы тебе отказаться от него ради любви к женщине, но то, что ты затеял… Умоляю, подумай дважды, прежде чем решиться на шаг, который рассорит тебя с мистером Хардингом. – Мэри прижималась к коленям брата, и хотя тот молчал, по его лицу ей показалось, что он готов сдаться. – По крайней мере позволь мне написать, что ты придешь на прием. По крайней мере не рви отношения с ними, пока сам колеблешься. – И она поднялась на ноги, надеясь закончить письмо, как ей хотелось.
– Я не колеблюсь, – сказал он наконец, вставая. – Я не буду себя уважать, если отступлю от задуманного из-за красоты Элинор Хардинг. Да, я люблю ее. Я отдал бы руку, чтобы услышать от мисс Хардинг то, что ты сейчас о ней сказала, однако я не могу ради нее свернуть с избранного пути. Надеюсь, потом она поймет мои мотивы, но сейчас я не могу быть гостем в доме ее отца. – И барчестерский Брут отправился укреплять дух раздумьями о собственной добродетели.
Бедная Мэри Болд села и в печали закончила письмо. Она написала, что придет, но что ее брат, к сожалению, прийти не сможет. Боюсь, сестра не восхитилась его самопожертвованием, как оно того заслуживало.
Прием прошел так, как проходят все такие приемы. Были толстые старые дамы в шелках и стройные юные дамы в легком муслине; пожилые джентльмены стояли спиной к пустому камину и, судя по лицам, предпочли бы сидеть дома в собственных креслах; молодые люди смущенно толпились у двери, еще не набравшись смелости атаковать муслиновую армию, которая расположилась полукругом в ожидании схватки. Смотритель попытался возглавить вылазку, но, не обладая тактом полководца, вынужден был отступить. Его дочь поддерживала дух своего воинства кексами и чаем, однако сама Элинор не ощущала боевого задора – единственный враг, с которым она хотела бы скрестить клинки, отсутствовал, так что и ей, и остальным было довольно скучно.
Громче всех звучал зычный голос архидьякона, вещавшего перед собратьями-священниками об угрозе для церкви, о безумных реформах, которые, по слухам, готовятся даже в Оксфорде, и о губительной ереси доктора Уистона.
Впрочем, скоро в общем гуле робко проступили более сладостные звуки. В углу, отмеченном пюпитрами и круглыми табуретами, началось шевеление. Свечи вставили в канделябры, из тайников извлекли ноты, и началось то, ради чего все собрались.
Сколько раз наш друг подкручивал и докручивал колки, прежде чем решил, что они подкручены как надо, сколько немелодичных всхрипов прозвучало обещанием будущей гармонии! Как трепетали муслиновые складки, прежде чем Элинор и другая нимфа уселись за фортепьяно, как плотно высокий Аполлон вжался в стену, подняв длинную флейту над головами очаровательных соседок, в какой крохотный уголок забился кругленький младший каноник и с какой ловкостью отыскал там место, чтобы настроить привычную скрипочку!
И вот полилась музыка – громче, громче, потом тише, тише, в горку, под горку, то словно зовя в бой, то словно оплакивая павших. И во всем, сквозь все, над всем звучала виолончель. Ах, не зря эти колки столько подкручивали и докручивали – слушайте, слушайте! Теперь печальнейший из всех инструментов говорит в одиночку. Безмолвно замерли скрипка, флейта и фортепьяно, внимая плачу скорбной сестры. Но это лишь мгновение – меланхолические ноты еще не до конца проникли в сердце, а оркестр уже снова вступил в полную силу; ножки жмут педали, двадцать пальчиков порхают по басовым клавишам. Аполлон дует так, что его жесткий шейный платок превратился в удавку, а младший каноник работает обеими руками, пока не припадает к стене в полуобморочном изнеможении.
Почему именно сейчас, когда все должны молчать, когда вежливость, если не вкус, требует слушать музыку, – почему именно сейчас армия черных сюртуков перешла в наступление? Один за другим они выдвигаются с прежних позиций и открывают робкий огонь. Ах, мои дорогие, такой натиск не берет крепостей, даже если противник только и мечтает о капитуляции! Наконец в ход пущена более тяжелая артиллерия, медленно, но успешно; разворачивается атака, и вот уже муслиновые ряды дрогнули, смешались. Стулья оттеснены, бой идет уже не между двумя армиями – он распался на поединки, как в славные времена рыцарских сражений. В уголках, в тени портьер, в оконных нишах и за полупритворенными дверями сыплются удары и наносятся смертельные раны.
Тем временем в стороне завязался другой бой, более суровый и трезвый. Архидьякон бросил вызов двум пребендариям, дородный ректор – его союзник в опасностях и радостях короткого виста[25]. Они сосредоточенно следят, как тасуется колода, зорко ждут, когда откроется козырь. С какой бережностью они распределяют карты, ревниво следя, чтобы не показать их соседу! Почему этот тощий доктор так медлителен – живой скелет с ввалившимся глазницами и впалыми щеками, недостойный представлять богатства своей матери-церкви? Что ты там копаешься, иссохший доктор? Посмотри, как архидьякон в немой агонии кладет карты на стол и возводит очи горе́, взывая о помощи не то к небесам, не то к потолку. Теперь он испускает тяжелый вздох; большие пальцы, заложенные в карманы жилетки, означают, что он не предвидит скорого конца пытки. Увы, тщетна надежда поторопить иссохшего доктора. С какой методичностью он перекладывает каждую карту, взвешивает цену каждого могучего туза, каждого короля сам-друг, каждой дамы сам-третей, раздумывает о валетах и десятках, считает каждую масть, прикидывает общий итог! Наконец он заходит, три карты одна за другой ложатся поверх. Сухонький доктор вновь кладет карту, и его партнер, сверкнув глазами, берет взятку. Третий заход – и в третий раз фортуна улыбается пребендариям, но на четвертый архидьякон пригвождает поверженного короля к земле, прихлопнув его – корону и скипетр, курчавую бороду и насупленное чело – простой двойкой.
– Как Давид Голиафа, – говорит архидьякон, придвигая четыре карты партнеру. Он идет с козыря, затем снова с козыря, затем с короля, затем с туза, затем с десятки от длинной масти, которая выбивает у костлявого доктора последний оплот – козырную даму, на которую тот возлагал столько надежд.
– Что, нет второй пики? – спрашивает архидьякон партнера.
– Только одна пика, – утробно басит дородный ректор. Он сидит багровый, молчаливый, внимательный – надежный, хоть и не блистательный союзник.
Однако архидьякона не страшит отсутствие пик. Он мечет карты со скоростью, которая почти бесит контрпартнеров, отодвигает четыре им, показывает остальные через стол багровому ректору, объявляет: «Два за леве, два за онеры, плюс премия за лишнюю взятку», отмечает под подсвечником требл и успевает раздать вторую колоду быстрее, чем костлявый доктор сосчитать свой проигрыш.
Но вот прием и закончился. Гости, обуваясь и закутываясь в шали, говорили, как замечательно он прошел. Миссис Гудинаф, жена краснолицего ректора, стиснув руку смотрителя, объявила, что никогда так не веселилась, что показывает, как мало радостей позволяла себе эта дама, ибо она весь вечер молча просидела на стуле. А Матильда Джонсон, разрешив молодому Диксону из банка застегнуть ей на шее пелерину, думала, что двухсот фунтов в год и домика вполне довольно для счастья, а кроме того, наверняка он когда-нибудь станет управляющим. Аполлон, убирая флейту в карман, чувствовал, что сегодня покрыл себя славой. Архидьякон позвякивал в кармане выигрышем. И только костлявый доктор ушел, ни сказав ничего вразумительного; слышно было лишь, как он вновь и вновь бормочет на ходу: «Тридцать три пойнта! Тридцать три пойнта!».
Когда все разошлись, мистер Хардинг остался один на один с дочерью.
О чем беседовали между собой Элинор Хардинг и Мэри Болд, нет надобности рассказывать. Надо радоваться, что ни историк, ни романист не слышат всего, что говорят их герои и героини, иначе как бы они укладывались в три тома? Тут и двадцати не хватило бы! Про данную историю я подслушал так мало, что надеюсь вместить ее в триста страниц и к общему удовольствию обойтись одним томом. Однако о чем-то они беседовали, и пока смотритель задувал свечи и убирал инструмент в футляр, дочь, печальная и задумчивая, стояла у пустого камина. Она намеревалась поговорить с отцом, но еще не решила, что сказать.
– Ты идешь спать, Элинор? – спросил он.
– Да, – ответила она, отходя от камина. – Да, наверное. Но, папа… мистер Болд сегодня не пришел. Ты знаешь, почему?
– Его приглашали. Я сам ему написал.
– Но знаешь ли ты, отчего он не пришел, папа?
– У меня есть догадки, Элинор, но в таких делах бесполезно гадать. Почему ты спрашиваешь?
– Папа, скажи мне, – воскликнула она, обнимая его и заглядывая ему в лицо, – что он задумал? Из-за чего это все? И есть ли… – она не знала, какое слово подобрать, – есть ли опасность?
– Опасность, дорогая? Про какую опасность ты говоришь?
– Опасность для тебя. Грозит ли тебе это неприятностями, потерями или… Ох, папа, почему ты мне раньше всего не рассказал?
Мистер Хардинг не судил строго ни о ком, а уж особенно о дочери, которую любил больше всех на земле, и все же сейчас он подумал о ней хуже, чем следовало. Он знал, что она любит Джона Болда и всецело сочувствовал ее любви. День за днем он все больше думал об этом и с нежной заботой любящего отца пытался измыслить, как повернуть дело, чтобы сердце дочери не стало жертвой в их с Болдом противостоянии. Сейчас, когда Элинор впервые об этом заговорила, для мистера Хардинга было естественно подумать в первую очередь о ней, а не о себе, и вообразить, будто дочку тревожат не отцовские, а собственные заботы.
Некоторое время он стоял молча, затем поцеловал ее в лоб и усадил на диван.
– Скажи мне, Нелли, – начал отец (он называл ее Нелли в самом ласковом, в самом добром расположении своей ласковой и доброй натуры), – скажи мне, Нелли, тебе очень нравится мистер Болд?
Вопрос застал Элинор врасплох. Я не утверждаю, что она забыла про себя и про свои чувства к Джону Болду, когда говорила сегодня с Мэри, – безусловно, нет. Ей было бесконечно горько от мысли, что человек, которого она любит и чьим расположением так гордится, взялся погубить ее отца. Ее самолюбие было уязвлено тем, что чувства не удержали его от подобного шага, а значит, не были по-настоящему сильными. Однако больше всего Элинор тревожилась за отца и, когда спросила про опасность, имела в виду опасность именно для него, поэтому совершенно опешила от вопроса.
– Нравится ли он мне, папа?
– Да, Нелли, нравится ли он тебе? Почему бы ему тебе не нравиться? Но это неправильно слово. Любишь ли ты его?
Элинор сидела в отцовских объятьях и молчала. Она была решительно не готова сознаваться в своих чувствах, поскольку настроилась ругать Джона Болда и ждала того же от отца.
– Давай поговорим по душам, – продолжал он. – Ты, милочка, расскажи о себе, а я расскажу обо мне и о богадельне.
Потом, не дожидаясь ответа, мистер Хардинг объяснил, как мог, в чем обвиняют богадельню и чего требуют старики, в чем, по его мнению, сила, а в чем слабость его нынешней позиции, какой путь избрал Джон Болд и какие шаги, вероятно, предпримет следом, а затем без дальнейших вопросов заговорил о любви Элинор как о чувстве, которое ни в малейшей мере не осуждает. Он оправдывал Джона Болда, извинял его поступки и даже хвалил его энергию и намерения, подчеркивал его достоинства и не упоминал фанаберии и под конец, напомнив дочери, что час уже поздний, успокоил ее заверениями, в которые сам едва ли верил, и отправил спать, плачущую и до крайности взволнованную.
За завтраком они больше не обсуждали эту тему и не касались ее в следующие дни. Вскоре после приема Мэри Болд зашла в богадельню с визитом, но в гостиной были посторонние, так что она ничего не сказала о брате. На следующий день Джон Болд встретил Элинор в тихом тенистом проулке неподалеку от собора. Страстно желая ее видеть, но по-прежнему не желая приходить к смотрителю, он, сказать по правде, нарочно подстерег ее в излюбленном месте прогулок.
– Сестра сказала мне, – быстро начал он заранее приготовленную речь, – сестра сказала мне, что ваш позавчерашний прием удался замечательно. Очень сожалею, что не смог прийти.
– Мы все сожалеем, – со сдержанным достоинством ответила Элинор.
– Думаю, мисс Хардинг, вы понимаете, почему в настоящий момент… – Болд смутился, забормотал, осекся, продолжил объяснения и снова осекся.
Элинор не выказывала ни малейшего намерения прийти ему на помощь.
– Полагаю, моя сестра вам все объяснила, мисс Хардинг?
– Прошу вас, не извиняйтесь, мистер Болд. Мой отец, я уверена, всегда будет рад вас видеть, если вы придете к нему, как будто ничего не случилось. Что до ваших взглядов, вы им, разумеется, лучший судья.
– Ваш отец – сама доброта и всегда таким был, но вы, мисс Хардинг, вы… Надеюсь, вы не станете судить меня строго из-за того, что…
– Мистер Болд, – ответила она, – знайте одно: в моих глаза отец всегда будет прав, а те, кто с ним воюет, неправы. Если против него выступают люди незнакомые, я согласна поверить, что ими движет искреннее заблуждение, но когда на него нападают те, кто должен его любить и почитать, о них я всегда буду иметь совершенно иное мнение.
И, сделав низкий реверанс, она поплыла прочь, оставив своего воздыхателя в расстроенных чувствах.
Глава VII
«Юпитер»
Хотя Элинор Хардинг ушла с гордо поднятой головой, не следует думать, будто сердце ее было столь уж бестрепетно. Во-первых, она, вполне объяснимо, не хотела терять возлюбленного, во‐вторых, не была так уверена в своей правоте, как старалась показать. Отец говорил, причем неоднократно, что Болд не сделал ничего предосудительного. Почему же она укоряет его и отталкивает, даже сознавая, что утрата будет для нее невыносимой? Однако такова человеческая натура, а натура молодых леди – особенно. Элинор ушла прочь, и все: прощальный взгляд, тон, каждое движение – лгали о ее сердце. Она отдала бы что угодно, чтобы взять Болда за руку и доводами, уговорами, мольбами или хитростью отговорить от задуманного, победить его женской артиллерией и спасти отца ценою себя, однако гордость этого не допустила, и Элинор не позволила себе напоследок ни ласкового взгляда, ни нежного слова.
Рассуждай Джон Болд о другом влюбленном и другой молодой особе, он бы, наверное, не хуже нас понял все сказанное, однако в любви мужчины редко здраво оценивают свое положение. Говорят, робкому сердцу не завоевать прекрасной дамы; меня изумляет, что их вообще завоевывают, так робки зачастую мужские сердца! Когда бы дамы, видя наше малодушие, по доброте натуры не спускались порой из своих укрепленных цитаделей и не помогали нам их захватить, слишком часто они оставались бы непобежденными и свободными телом, если не сердцем!
Несчастный Болд плелся домой раздавленный; он был уверен, что в отношении Элинор Хардинг участь его решена, если только не отказаться от выбранного пути, а это, надо сказать, было непросто. Законники работали, вопрос до определенной степени привлек внимание публики, и к тому же сможет ли такая гордая девушка любить человека, отвергшего взятые на себя обязательства? Позволит ли она купить свою любовь ценою самоуважения?
Что до исправления богадельни, у Болда пока не было причин жаловаться на неуспех. Весь Барчестер гудел. Епископ, архидьякон, смотритель, управляющий и несколько их клерикальных союзников ежедневно встречались, обсуждали тактику и готовились к большой атаке. К Абрахаму Инциденту обратились, но ответа его пока не получили; копии завещания Джона Хайрема, смотрительских записей, арендных договоров, счетов и всего, что можно и нельзя было скопировать, отправили ему, и дело обрело солидную толщину. Но главное – его упомянули в ежедневном «Юпитере»[26], и не просто, а в передовой статье. Этот всемогущий печатный орган метнул очередную молнию в Больницу Святого Креста, заметив между прочим: «Похожий случай, менее масштабный, но не менее вопиющий, вероятно, скоро попадет в сферу общественного внимания. Нам сообщили, что смотритель или надзиратель старой богадельни при Барчестерском соборе получает годовой доход в двадцать пять раз выше, чем назначено ему по завещанию основателя, в то время как сумма годовых трат собственно на благотворительность осталась неизменной. Другими словами, легатарии по завещанию ничего не выиграли от удорожания собственности за последние четыре века, поскольку всю дополнительную прибыль забирает себе так называемый смотритель. Невозможно представить большей несправедливости. Утверждать, что шесть, девять или двенадцать стариков получают все потребные старикам блага, – не ответ. На каком основании, моральном или божественном, традиционном или юридическом, смотритель претендует на огромный доход, не ударив пальцем о палец? Довольство стариков, если они впрямь довольны, не дает ему права на такое непомерное содержание. Спрашивал ли он себя хоть раз, протягивая широкую священническую ладонь за платой примерно двенадцати трудящихся клириков, за какие услуги его так вознаграждают? Тревожит ли его совесть вопрос о собственном праве на подобную сумму? Впрочем, можно допустить, что такие мысли никогда не приходили ему в голову, что он много лет пожинал и намерен, с Божьей помощью, еще долго пожинать плоды деятельного благочестия прошлых эпох, не задумываясь ни о своих правах, ни о справедливости по отношению к другим людям! Мы должны отметить, что лишь в англиканской церкви и лишь среди ее служителей возможно обнаружить такую степень нравственного безразличия».
Предоставлю читателю самому вообразить, что чувствовал мистер Хардинг, читая эту статью. Говорят, ежедневно расходится сорок тысяч экземпляров «Юпитера» и каждый экземпляр читают по меньшей мере пять человек. Двести тысяч читателей услышат обвинения против него, двести тысяч сердец всколыхнутся от негодования, узнав, что в барчестерской богадельне творится грабеж среди бела дня! И как на такое ответить? Как раскрыть сокровенное перед толпой, перед тысячами самых просвещенных людей страны, как объяснить, что он не вор, не алчный ленивый священнослужитель, ищущий злата, а скромный, тихий человек, чистосердечно взявший то, что ему чистосердечно предложили?
– Напишите в «Юпитер», – посоветовал епископ.
– Да, – сказал архидьякон, знавший жизнь гораздо лучше отца. – Напишите, и вас высмеют, обольют презрением с головы до пят, будут трясти, как терьер крысу. Вы пропустите слову или букву, и они станут потешаться над невежеством соборного духовенства, малейшую неточность объявят ложью, малейшую уступку – полным признанием вины. Вы узнаете, что вульгарны, обидчивы, непочтительны и безграмотны, а не будь вы священником, девять шансов из девяти, что вас уличили бы в кощунстве! Человек может быть абсолютно чист, обладать всеми талантами и приятнейшим нравом, красотой слога не уступать Аддисону, а хлесткостью – Юнию[27], но даже он не сумеет написать достойный ответ на выпады «Юпитера». В таких делах газета всесильна. Что в России царь, что в Америке толпа, то в Англии «Юпитер». Ответить на такое письмо! Нет, смотритель. Какой бы путь вы ни избрали, не пишите опровержения. Чего-то подобного мы ждали, но не давайте повода вылить на вас еще больше помоев.
Статья в «Юпитере», которая так опечалили нашего бедного смотрителя, вызвала ликование в стане его врагов. Болда, конечно, огорчили личные выпады против мистера Хардинга, но и он упивался мыслью, что обрел такого мощного союзника. Что до стряпчего, Финни, тот от радости не чуял под собой ног. Сражаться бок о бок с «Юпитером» за общее дело! Знать, что курс, который он рекомендовал, одобрен и подхвачен самой влиятельной газетой страны! Быть может, его даже упомянут как джентльмена, столь успешно выступившего в защиту барчестерских бедняков! Возможно, его пригласят свидетельствовать в комитете палаты общин, и один бог ведает, какую сумму назначат в компенсацию личных издержек – одна эта тяжба может кормить его годы! Не перечесть всех сладостных грез, рожденных у Финни передовой статьей в «Юпитере».
Старые пансионеры тоже слышали о статье и прониклись смутным ощущением, что у них появился могущественный заступник. Эйбл Хенди ковылял из комнаты в комнату, повторяя, что понял из пересказа, с некоторыми необходимыми на его взгляд, дополнениями. По его словам, в «Юпитере» пропечатали, что их смотритель – вор, а уж «Юпитер» врать не будет, это все знают. И «Юпитер» подтвердил, что каждый из них – «каждый из нас, Джонатан Крампл, ты подумай!» – имеет бесспорное право на сто фунтов в год, а коли «Юпитер» так сказал, это все равно что решение лорд-канцлера и даже лучше. Затем он еще раз обошел собратьев с газетой, полученной от Финни, и хотя прочесть ее никто не мог, но бумага зримо и осязаемо подтверждала услышанное. Джонатан Крампл глубоко задумался о достатке, который уже не чаял вернуть, Джоб Скулпит понял, что не зря подписал петицию, о чем и объявил раз сто, Сприггс зловеще сверкал единственным глазом, а Моуди теперь, когда победа была совсем близка, исходил еще большей ненавистью к тем, кто по-прежнему не отдает ему вожделенные фунты.
По совету архидьякона опровержение от барчестерского конклава в редакцию «Юпитера» писать не стали, больше никаких решений пока не приняли.
Сэр Абрахам Инцидент был занят подготовкой билля для уничижения папистов. Этот билль о надзоре за монастырями[28] давал каждому протестантскому священнику старше пятидесяти лет право обыскать любую монахиню, заподозренную в хранении крамольных писаний или иезуитских символов. Он должен был включать сто тридцать семь статей, каждая статья – новый шип в бок папистам. Поскольку все знали, что каждый пункт придется отстаивать от натиска пятидесяти разъяренных ирландцев, составление и шлифовка документа занимали все время сэра Абрахама.
Билль возымел желаемое действие. Разумеется, его не приняли, но он полностью расколол ирландских депутатов, объединившихся, чтобы продавить билль, который обязал бы всех мужчин пить ирландский виски, а всех женщин – носить ирландский поплин. Так что до конца сессии великая Лига Поплина и Виски оказалась полностью обезврежена.
Таким образом, ответ сэра Абрахама все не приходил, и барчестерцы пребывали в мучительной лихорадке неопределенности, терзаний и надежд.
Глава VIII
Пламстед
Теперь мы пригласим читателя посетить дом пламстедского священника и, поскольку час еще ранний, вновь заглянуть в спальню архидьякона. Хозяйка дома занята туалетом; мы не остановим на ней нескромный взгляд, а пройдем дальше, в комнатку, где одевается доктор; в ней же хранятся его башмаки и тексты проповедей. Здесь мы и останемся, учитывая, что дверь открыта и через нее преподобный Адам разговаривает со своей достойной Евой.
– Это исключительно твоя вина, архидьякон, – сказала она. – Я с самого начала предупреждала, чем все кончится, и теперь папе некого благодарить, кроме тебя.
– Помилуй, дорогая, – произнес архидьякон, появляясь в дверях гардеробной. Его голова была закутана в жесткое полотенце, которым он энергично тер волосы и лицо. – Что такое ты говоришь? Я старался изо всех сил.
– Лучше бы ты вообще не вмешивался, – перебила дама. – Если бы ты не мешал Джону Болду туда ходить, как хотелось ему и папе, они с Элинор бы уже поженились и всей этой истории не было.
– Но, дорогая…
– Прекрасно, архидьякон, разумеется, ты прав. Я и мысли не допускаю, что ты хоть в чем-нибудь признаешь себя неправым, но именно ты настроил этого молодого человека против папы тем, что постоянно его третировал.
– Но, ангел мой…
– А все потому, что не хотел видеть Джона Болда свояком. Как будто у нее огромный выбор. У папы нет ни шиллинга. Элинор вполне хороша собой, но не ослепительная красавица. Я не представляю для нее жениха лучше, чем Джон Болд. Или хотя бы такого же, – добавила озабоченная сестра, обвивая шнурок вокруг последнего крючка на ботинке.
Доктор Грантли остро чувствовал несправедливость обвинений, но что он мог возразить? Он безусловно третировал Джона Болда, безусловно не хотел видеть его свояком; еще несколько месяцев назад одна эта мысль приводила его в бешенство. Однако с тех пор многое изменилось. Джон Болд показал силу, и хотя в глазах архидьякона он по-прежнему оставался чудовищем, сила всегда вызывает уважение, и сама возможность такого союза уже не казалась совсем ужасной. Тем не менее девиз доктора Грантли был «Не сдаваться», и он намеревался вести бой до конца. Он твердо верил в Оксфорд, в епископов, в сэра Абрахама Инцидента и в себя и лишь наедине с женой допускал тень сомнений в грядущей победе. Сейчас доктор попытался внушить миссис Грантли свою убежденность и в двадцатый раз принялся рассказывать ей про сэра Абрахама.
– О, сэр Абрахам! – сказала она, забирая корзинку с хозяйственными ключами, прежде чем спуститься по лестнице. – Сэр Абрахам не найдет Элинор мужа, не добудет папе нового дохода, когда его выживут из богадельни. Попомни мои слова, архидьякон, пока ты и сэр Абрахам сражаетесь, папа лишится бенефиция, и что ты будешь делать с ним и с Элинор на руках? И кстати, кто будет платить сэру Абрахаму? Думаю, его помощь не бесплатна? – И дама пошла вниз, чтобы совершить семейную молитву вместе с детьми и слугами – образец доброй и рассудительной жены.
Бог дал доктору Грантли большое, счастливое семейство. Трое старших, мальчики, сейчас были дома на каникулах. Их звали Чарльз Джеймс, Генри и Сэмюель[29]. Старшая из двух девочек (всего детей было пятеро) звалась Флориндой в честь крестной, супруги архиепископа Йоркского, младшую нарекли Гризельдой в честь сестры архиепископа Кентерберийского. Все мальчики были умны и обещали вырасти деятельными людьми, способными за себя постоять, однако характером они заметно отличались между собой, и одним друзьям архидьякона больше нравился старший, другим – средний, третьим – младший.
Чарльз Джеймс был аккуратен и старателен. Он понимал, как много ждут от старшего сына барчестерского архидьякона, и сторонился чересчур тесного общения со сверстниками. Не столь одаренный, как братья, он превосходил их рассудительностью и благопристойностью манер. Если его и можно было в чем-нибудь упрекнуть, то лишь в избыточном внимании к словам, а не к сути; поговаривали, что он уж очень дипломатичен, и даже отец порой пенял ему за чрезмерную любовь к компромиссам.
Второй сын, любимец архидьякона, и впрямь блистал многочисленными талантами. Разносторонность его гения изумляла, и гости частенько дивились, как он по отцовской просьбе справляется с самыми трудными задачами. Например, однажды Генри явился перед большим кругом собравшихся в образе реформатора Лютера и восхитил их жизненностью перевоплощения, а через три дня поразил всех, так же натуралистично изобразив монаха-капуцина. За последнее достижение отец вручил ему золотую гинею, которую, по словам братьев, обещал заранее, если спектакль будет успешен. Кроме того, Генри отправили в поездку по Девонширу, о которой тот мечтал и от которой получил уйму удовольствия. Впрочем, отцовские друзья не оценили талантов мальчика, и домой приходили печальные отчеты о его строптивости. Он был отчаянный смельчак, боец до мозга костей.
Вскоре сделалось известно, и дома, и на несколько миль вокруг Барчестера, и в Вестминстере, где он учился, что юный Генри прекрасно боксирует и ни за что не признает себя побежденным; другие мальчики дерутся, пока могут стоять на ногах, он дрался бы и без ног. Те, кто ставил на него, порой думали, что он не выдержит ударов и лишится сознания от потери крови; они убеждали Генри выйти из боя, но тот никогда не сдавался. Только на ринге он ощущал себя полностью в своей стихии; если другие мальчишки радовались числу друзей, он был тем счастливее, чем больше у него врагов.
Родные восхищались его отвагой, но порой сожалели, что он растет таким задирой, а те, кто не разделял отцовской слабости к мальчику, с прискорбием отмечали, что тот хоть и умеет подольститься к учителям или друзьям архидьякона, частенько бывает заносчив со слугами и бедняками.
Всеобщим любимцем был Сэмюель, милый Елейчик, как его ласково прозвали в семье, очаровательный маменькин баловень. Он покорял мягким обращением, красотой речи и приятностью голоса; в отличие от братьев, он был учтив со всеми независимо от звания и кроток даже с последней судомойкой. Учителя не могли нарадоваться его прилежанию и сулили ему большое будущее. Старшие братья, впрочем, не особо любили младшего; они жаловались матери, что Елейчик неспроста так вкрадчив, и явно опасались, что со временем он заберет в доме слишком большую власть. Между ними существовала своего рода договоренность осаживать Елейчика при всяком удобном случае, что, впрочем, было не так-то просто: Сэмюель, несмотря на возраст, отлично соображал. Он не мог держаться с чинностью Чарльза Джеймса или драться, как Генри, но отлично владел собственным оружием, так что превосходно защищал от братьев отвоеванное место в семье. Генри утверждал, что он – хитрый лгунишка, а Чарльз Джеймс, хоть и называл его не иначе как «милый брат Сэмюель», не упускал случая на него наябедничать. Сказать по правде, Сэмюель и правда был хитроват, и даже те, кто особенно сильно его любил, не могли не отметить, что уж очень он аккуратно выбирает слова, уж очень умело меняет интонации.
Маленькие Флоринда и Гризельда были милы, но, в отличие от братьев, особыми талантами не блистали, держались робко и при посторонних по большей части молчали, даже если к ним обращались. И хотя они были очаровательны в своих чистеньких муслиновых платьицах, белых с розовыми поясками, архидьяконские гости их почти не замечали.
Смиренная покорность, сквозившая в лице и походке архидьякона, пока он разговаривал с женой в святилище гардеробной, совершенно улетучилась к тому времени, как он твердым шагом с высоко поднятой головой вступил в утреннюю столовую. В присутствии третьих лиц он был господином и повелителем; мудрая жена прекрасно знала человека, с которым соединила ее судьба, и понимала, когда надо остановиться. Чужак, видя властный взгляд хозяина, устремленный на разом притихших гостей, чад и домочадцев, наблюдая, как, поймав этот взгляд, супруга послушно усаживается между двумя девочками, за корзинкой с ключами, – чужак, говорю я, ни за что бы не догадался, что всего пятнадцать минут назад жена архидьякона твердо отстаивала свое мнение, не давая мужу открыть рот для возражений. Воистину безграничны такт и талант женщин!
А теперь осмотрим хорошо обставленную утреннюю столовую в пламстедском доме – благоустроенную, но не роскошную и не великолепную. И впрямь, учитывая, сколько денег потрачено, она могла бы больше радовать глаз. В ее убранстве ощущается некая тяжеловесность, которой можно было избежать без всякого ущерба для солидности: лучше подобрать цвета, а саму комнату сделать более светлой. Впрочем, не исключено, что это повредило бы клерикальному аспекту целого. Во всяком случае есть безусловная продуманность в сочетании темных дорогих ковров, мрачных тисненых обоев и тяжелых занавесей на окнах; старомодные стулья, купленные в два раза дороже более современных, тоже выбраны не случайно. Сервиз на столе так же дорог и так же прост; в нем равным образом угадывается желание потратить деньги, не создав впечатления роскоши. Бульотка[30] из толстого, тяжелого серебра, как и чайник, кофейник, сливочник и сахарница, чашки из тусклого фарфора с китайскими драконами – они обошлись, наверное, по фунту за штуку, однако на несведущий взгляд выглядят убого. Серебряные вилки такие тяжелые, что их неудобно держать в руке, а хлебницу поднимет только силач. Чай самый лучший, кофе самый черный, сливки самые густые; есть просто поджаренный хлеб и поджаренный хлеб с маслом, блинчики и оладьи, горячий хлеб и холодный, белый и серый, домашний и от булочника, пшеничный и овсяный, а если бывает хлеб из какой-нибудь другой муки, то есть и он; яйца в салфетках, хрустящие ломтики ветчины под серебряными крышками, сардинки в банке и почки под острым соусом – они шкворчат в блюде с горячей водой, поставленном ближе к тарелке достойного архидьякона. На буфете, застеленном белой салфеткой, расположились огромный окорок и огромный филей – последний вчера вечером украшал обеденный стол. Таков обычный завтрак в пламстедском доме.
И все же я никогда не находил этот дом уютным. Здесь словно забыли, что не хлебом единым жив человек. И пусть облик хозяина величав, лицо хозяйки мило и радушно, детки блещут дарованиями, а вина и угощения превосходны, сами стены всегда навевали на меня скуку. После завтрака архидьякон удалялся в кабинет – без сомнения, чтобы погрузиться в заботы о церкви, миссис Грантли шла присмотреть за кухней (хотя у нее первоклассная экономка, которой платят шестьдесят фунтов в год) и за уроками Флоринды и Гризельды (хотя у них превосходная гувернантка с жалованьем тридцать фунтов в год) – так или иначе, она уходила, а с мальчиками мне подружиться не удалось. Чарльз Джеймс хоть и выглядит так, будто думает о чем-то значительном, редко находит, что сказать, а если и находит, в следующую минуту берет свои слова обратно. Раз он сообщил мне, что в целом считает крикет пристойной игрой для мальчиков при условии, что играют без беготни, но не будет отрицать, что к пятеркам[31] это относится в равной мере. Генри обиделся на меня после того, как я взял сторону его сестры Гризельды в споре о садовой лейке, и с тех пор со мной не разговаривает, хотя голос его я слышу часто. Речи Сэмми занятны в первые полчаса, но патока приедается, и я обнаружил, что он предпочитает более благодарных слушателей в огороде и на заднем дворе; кроме того, кажется, однажды я поймал Сэмми на лжи.











