Читать онлайн Изменённые
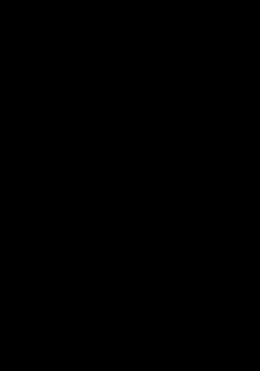
Из восстановленных воспоминаний Ай
Мы с мамой жили в рыбацком домике гёка, в небольшой деревне на берегу моря. Рыбу еще ловили, дождь шел живой и не прожигал в одежде дыры. Ветер струился с небес густой, сладкий, как пар от осеннего супа с тыквой.
Осенью все дети собирали опавшие листья. Самые красивые букеты приносили к домику Сакуры, моей мамы. Складывали горой.
– Это наш дар небу и земле. Умершие листья должны достаться земле. А дух их должен взлететь в небо, – говорила Сакура, работая граблями, прибирая непослушных красно-желтых, которые разбредались по лужайке по легкой воле ветра.
Перед нашим домом всегда чернела проплешина кострища. Сажей Сакура выводила знаки на досках веранды, когда краски было уже не достать. Но мама никогда не сжигала живое дерево, лишь ветви, старые, больные, обломанные, те, что валялись на земле, и опавшие листья.
Шух – шух, лист пожух.
Я вдыхала запах листьев, теплый, пряный.
– Они умирают, но готовы еще послужить, – говорила Сакура. – Перед смертью открывается иная жизнь.
А еще на листьях мама настаивала особые напитки из ягод и меда. Их пили в холодное, зимнее время.
Сакура сплетала себе и мне короны из листьев, всем велела украшать головы, не приходить к костру с непокрытыми волосами.
– Мы едины. И мы, завянем и высохнем, как они. Наш век лишь немного длиннее.
Когда занимался костер, я испуганно кричала:
– Мама, искры!
– Мы с огнем одной стихии, – смеялась она и распускала волосы под багряной короной, взмахивала руками, и искры летели прочь от соломенной крыши, летели вверх, к облакам, к низкому небу.
– Печали сгорят, радости уйдут, жар останется, пепел останется. Жар развеется, пепел останется, – приговаривала Сакура, кидая в огонь свою корону. – Пепел рассыплется, землю напитает, травы подымутся, дети родятся.
***
Дети рождались в нашей деревне нечасто. А потом и те, что были начали пропадать. Мама собирала нас, оставшихся, в кружок возле костра и рассказывала страшные сказки про злодея Яго, который заманивает детей в чащу и жарит на большой лопате в белобокой печи.
И ветки в костре радостно трещали, подтверждая мамины слова. Мы, дети, жались к друг другу. Огонь отгонял холод, но разжигал страх.
Я бегала босиком до первого снега. Да и по снегу норовила пробежаться без обуви по привычке. Ступни горели огнем, следы заливала талая вода. Холодно? Прибеги в дом, сядь возле жаровни, нагнись пониже, чтобы жар обдавал лицо, не забудь про волосы – будут тебе огненные хвосты.
Я наклонялась все ниже и ниже к жаровне, пока хватало сил терпеть, пока хватало воздуха в легких, пока их не выжигал жар углей. Отшатывалась от решетки и смотрела на маму: красные глаза? Скажи, красные?
Красный отблеск в глазах – значит, жар пробрался внутрь. Горячий уголек поселился внизу живота, и теперь пылает и греет, и ты не замерзнешь даже посреди леса лютой зимой.
А потом выпал черный снег…
***
Снег цвета сажи. Как не проминай следы, до белого не доберешься. Снег не присыпан пеплом. Он сам пепел.
А когда вспух и треснул лед, когда он стаял у берега и превратился в хрупкую корочку, мы увидели, что рыбы теперь подходят близко и светятся под водой.
– Они просят о помощи, – сказала Сакура.
Я погрузила руку в воду, пытаясь коснутся светящейся чешуи. Мама за мной наблюдала. Потом негромко произнесла:
– Вынь руку. Заболеешь.
Сакура всегда так поступала, сначала наблюдала, а потом уже предупреждала об опасности. Даже меня, свою дочь.
– То есть мы им не поможем?
– Им нельзя помочь.
– И купаться теперь нельзя?
– Нельзя.
– А как же?
– Будем жить на суше.
Но рыбу еще долго ловили. Не ели. Но из рыбьих костей делали разные шутки: гребни, булавки, броши, пуговицы, кораблики.
***
Вслед за детьми уходили и родители. И поселенцев стало меньше. Деревня друидов по соседству с нашей совсем опустела. Мы прибегали, чтобы полазать по деревьям, оплетенным омелой, по шалашам, которые были устроены прямо в гуще кроны, на ветвях. Карабкались по веревочным лестницам, раскачивались на канатах. Раньше нам не позволяли местные, потому что деревья для них были святынями. И они жили под их сенью, благодаря молитвам и дарам.
На шестой день Луны срезали золотым серпом омелу, укутывали ее в белый плащ, сверток спускали с дерева на веревке, но так, чтобы он не коснулся земли. Жрец перерезал веревку и возлагал сверток на алтарь – камень с плоской верхушкой. Если бы это происходило в давние времена, то приводили бы и двух белых быков на заклание, чтобы их кровь обагрила алтарь и сверток из плаща со священной омелой внутри.
Но в наше время неоткуда было взять быков, да еще и белых, поэтому подводили к алтарю мальчика и девочку в белых, до пят, хламидах. Им делали надрез на предплечье. А кровь собирали в чашу на тонкой ножке и поливали сверток.
По весне сжигали плетеного человека, набитого лоскутами, старыми лентами, входными браслетами в парк, пластиковым мусором. Вот и все их ритуалы. Ах, да еще молитвы. Но их каждый жрец творил в тайне, поэтому они никому не были известны.
Сакура узнала, где мы пропадаем целыми днями.
– Не смейте! – строго сказала она.
– Но мама…
– Эти деревья вас не принимали. Хотите беды? Будет вам беда.
Но беды и так были повсюду.
Приезжал отец. Сначала его голова была вполне обычного размера, а потом начала вытягиваться вверх, к звездам.
Он говорил маме:
– Здесь у нее нет будущего. Ей нужно учиться. Ты меня понимаешь?
Мама задумчиво кивала. Она понимала. Но не хотела меня отпускать.
Однажды мы узнали, куда пропадают дети. Они уходят в Замок. Надевают гэта, обувь совершеннолетних, и отправляются по дороге туда, где их ждет будущее, их ждет Изменение.
Глава 1 Зыбь
Таисия, хозяйка кондитерской, вслушивается в темноту. Рип-рип, – вывеску с тремя буквами W колышет ветер. По улице спешат запоздалые прохожие. Стук и шлеп их подошв то нарастает, то удаляется, затихая. Никто не хочет остаться в темноте беспомощным, как котенок с выколотыми глазами. Пора закрываться. Дрогнувшей рукой, она переворачивает табличку на стеклянной входной двери – закрыто. Рельеф стекла так отлит, что издали не видно, что творится внутри, зато, если приблизишь лицо, можешь кое-что рассмотреть.
Таисия поводит плечами под теплой вязаной шалью. Раньше такую называли «поминальной». Холодно, одиноко. Пора задергивать шторы. Она берет длинную палку-рогатку и под самым потолком двигает плотную ткань, насаженную на толстые кольца. Эти кольца напоминают ей рыбьи рты, которые округляются в немом крике.
«Рыбе не больно», —говорили раньше, жалея лишь теплокровных животных. Но нет, рыбе тоже больно, как и любому живому существу, когда его разрывают напополам или поджаривают целиком. Хорошо, что сейчас никто не ест рыбу. Хотя все равно тайно ловят, обдирают до кости. Неизвестно, что лучше охотиться ради пропитания или ради наживы. Люди охотятся, чтобы выжить. Сейчас все делается только ради того, чтобы выжить.
В темноте совершается тайна. Дома меняются местами, как шахматные фигуры, улицы проваливаются в бездну, из небытия выступают иные, горбатые, кривые, заборы обрывают бег, на их месте, как прорвавшиеся нарывы, растекаются пустыри. Каждое утро деревня в долине становится иной, но никто из жителей не замечает.
Есть незыблемые столпы: Замок на горе, река, площадь и церковь, кафе Таисии тоже всегда на одном и том же месте. А все остальное изменчиво, зыбко.
– Хочешь жить в Зыби? – кричал и грозил Таисии наставник, когда она сказала, что хотела бы остаться в долине, отказалась отправляться в Башню.
– Хочу! – ответила она тогда смело и с вызовом, глядя на шрам-опояску на лбу наставника, шрам налился красным, стал почти багровым от гнева.
Но она не хотела или не знала, чего хочет. Она не хотела в Башню. А о долине она ничего не знала.
Теперь узнала. Таисия улыбается скупо, печально. Жить оказалось непросто. Даже поговорить не с кем. О чем говорить с людьми, которые забывают каждый свой прожитый день? Они живут день новый, как первый, не знакомый им ранее, но двигаются по затверженной траектории, инстинктивно, как муравьи или пчелы. Они бредут незнакомыми улицами, не задумываясь, куда идут, когда приходят, не понимают, куда пришли. Они берутся за работу, не понимая, в чем она состоит. Они делают набор движений и жестов, не понимая, что они означают. А вечером, когда спускается темнота, вдруг спохватываются, что нужно скорее вернуться домой, под крышу, под защиту стен.
Есть лишь несколько тех, кто помнит.
Но и обычные люди помнят многое, одергивает себя Таисия. Они помнят, как держать ложку, как ходить и как одеваться, они не забывают говорить: «добрый день», – и при встрече снимать шляпу. Они помнят о деньгах и, как правило, не забывают расплатиться за услугу. Они могут прочесть вывеску. И щурятся, будто что-то припоминают, когда разглядывают скрипучую табличку над входом в кафе Таисии. И всегда помнят свои любимые лакомства, которые они заказывают в кафе. Уж она-то старается, чтобы они их не забыли.
Мы живем на краю и ходим по краю. Мы рискуем упасть и не подняться, забыть и не вспомнить.
Таисия плотнее запахивается в шаль. Ее усилий не хватит, чтобы удержать всех, честно говоря, и тех, кого она держит, ей держать уже не под силу. Найти бы себе замену. Но кто согласиться? Разве что такая же глупышка, какой была она сама. Наверно, теперь таких и нет, все ученые.
***
– В древности считали, что человек – это его память. Но есть ли у нас «наши» воспоминания? Или это всегда чьи-то воспоминания? Чужие. Не наши. Воспоминания – это оружие, которые работает против нас. Этим оружием могут воспользоваться наши враги. А мы примем их за своих. Через воспоминания, которые мы считаем своими, и происходит взлом личности.
Взлом. Сейф. Ай думает об отцовском сейфе в кабинете. О наследном слитке, что спрятан в нем.
– Поэтому изменение так необходимо каждому из вас. Из нас.
Голос лектора звучит то тише, то громче. Он опускается до еле различимого бормотания, когда зачитывает с планшета то, что называется «общими сведениями» о строении мозга, о его физиологии, о функциональных зонах. И допускает ошибку. Говорит зона Брока, с ударением на о. Но мало, кто это слышит.
Броки в боки.
Ай слышит и вздрагивает. Ее выбрасывает из убаюкивающей монотонности лекции. Хотя она тут же сомневается: БрОка? БрокА? С чего она решила, что права, а лектор ошибся?
Дождь сыплет нитками драного полога с утра и до рассвета, не прерываясь. В окнах замка нет стекол, они хлынули, как вода, вниз, после распыления «химии» против подступившей травы, и застыли леденцовыми потеками на стенах. Те дети, кто, высунувшись в открытый проем, касались прозрачных наплывов, а потом лизали палец, думая ощутить сладость на языке, умерли, царапая ногтями горло. До сих пор никто не смеет приближаться к окнам.
«Наказательный» ряд парт, как раз у окон. Сюда долетают брызги дождя. Никто не может поручиться, что капля не коснется узоров на стене, а потом, отскочив, вопреки природным законам, не долетит до лица лоботряса.
Срединные ряды для успешных, тихих мышат с прилизанными волосами. Они скребут стилосами по планшетам. Записывают, зарисовывают.
Ай – возле окна. Голова мокрая, капли-бусины в волосах, а на ресницах – как слезы. Только что не соленые эти капли. Ай слизывает их, когда они, пробравшись по щекам, оказываются возле губ. Но иногда ветра пригоняют облака с океана, и тогда на губах оседает соль, а кожа натягивается и в глазах щиплет. Тогда Ай старается не облизывать губы, чтобы к обеду приправить пресный рис солью. Это одно из очевидных преимуществ – быть среди лоботрясов и бездельников – получать глоток соли, приятной, как привкус крови.
Голова профессора растет к потолку. Если приглядеться, то можно различить витки. Она лысая и синюшная от многочисленных развилок вен. Вызывает тошнотворные ассоциации со сваренным до синевы яйцом вкрутую. Желток такого переваренного яйца застревает в горле сухомяткой.
– Почему Зыбь так важна? Почему мы не объединимся и не поможем несчастным, живущим в вокруг Замка? Почему мы не зафиксируем слой? Как это делается в городах, к примеру?
Ученики уныло делают пометки.
– Когда вы будете изменены, то сможете это узнать. Но пока скажу вам, что без Зыби мы бы не могли пользоваться смарт-пластинами и вотчами. Мы бы не получали золото для слитков в нужном объеме. За каждым слитком приходилось бы охотиться в лесах. Но плата за эти достижения – люди. Вот почему вокруг каждого Замка зыбкая зона. Бесчеловечно? Немного.
Он ныряет в планшет
– Но кто попал в эту Зыбь вокруг Замка? Попали те, кто не пригоден. Кто обращался в Замок и не подошел. Кто не смог учиться. Кто ступил на путь изменения, но не прошел его и стал ахо.
Голос лектора становится проникновенным
– Жить будущим. Жить единым будущим. Этого от вас ждем все мы. Этого от вас ждут те, кто находится в долине, и кому повезло меньше, чем вам. Они непригодны для Изменения. Но они не могут вечно жить в зыби, им нужны вы, чтобы создать твердую почву. Им нужны вы, чтобы у их домов были стены, чтобы еда на столах выглядела, как еда, привычным образом. Без вас, измененных, они окунутся в бесконечный кошмар и не смогут отличить правду от лжи, реальность от иллюзии.
Окна высоко. И если запрокинуть голову, можно увидеть врезанные в каменные стены куски неба в тучах и слезах. Но стоит поднять голову от планшета – и ты получаешь удар гибкой тростью по шее. Стоит сдуть челку с глаз, вздохнуть или переменить позу – трость угрожающе стучит по столу, а иногда и по пальцам, как выйдет. Ай прилежно пишет левой рукой в зеркальном отражении справа налево.
Вот с письменными сочинениями затык – «китайская грамота» – она пишет, как полагается, слева направо, левой рукой, тщательно выписывая буквы и иероглифы. И получает 20-30 баллов, ужасно низкие оценки. Но с тестами, где достаточно поставить уверенную галку в квадрат, у нее проблем нет. Там красуется гордое 100.
Ай держит чувства под замком. Класс не подходящее место, чтобы чувствовать. Она заморожена и телом, и мыслями. Держится прямо и почти бездумно. Учитель велит поднять головы от планшетов. В глазах должна быть кристальная прозрачность, неусыпное внимание. Иначе – удар.
Задумавшись о своем, Ай выводит на учебном планшете пальцем WWW. Смотрит, замерев от ужаса. И быстро, в один длинный мазок, затирает написанное, надеясь, что планшет не успел обменяться сведениями с другими. А если успел? Тогда ее ждет… Лучше не думать о том, что ее ждет. Но наказание будет нелегким. Неделя в карцере? Месяц дополнительных дежурств в больничном крыле? Никогда она еще не была столь неосторожна.
«Это мысли, проклятые воспоминания, – ругает себя Ай. – Ты неправильно думаешь. Неверно помнишь. Это не твои мысли, не твои слова».
– Врешшшь, – слышит она вдруг мягкий шепот. – Врешшшь. Ты знаешь, что слова приходят, когда траву колышет ветер. Знаешшшь.
Ай борется с собой, чтобы не зажать уши руками. Все будет ясно яйцеголовому профессору, стоит ей сделать движение. Одно движение – и ты выдашь себя. Возможно, она уже выдала себя с головой, написав три запретные буквы.
И мамин голос растет внутри головы, шепчет, шепот складывается в слова:
– Я звала тебя Ай – «любовь». Ты – Ай – любовь. А еще это слово как вскрик на моем языке, так вскрикивали от неловкости, от внезапной боли. Ведь любовь всегда смешана с неловкостью, а порой и с болью.
В конце урока планшеты оставляют на столах. Их нельзя выносить из класса.
На выходе Ай привычно тянется к контейнеру с вотчами. В соседнем контейнере – смарты. Их сдают при входе в класс. В перерывах можно пользоваться, сеть в Замке рабочая. Правда, доступ ограничен. Только внутренние чаты Замка, а еще список разрешенных учебных сайтов.
Ее вотч хватают сразу две руки.
– Эй, пусти! – бормочет Ай и дергает изо всех сил.
Но ее толкают в плечо, и вотч гибко обнимает чужое запястье.
Ай поднимает глаза. Это Принц – первый ученик в Замке. Принц – дурацкое прозванье. Но он, и вправду, похож на принца. Тонкий нос, разлетающиеся волосы, пронзительные глаза. Некоторые классы они посещают вместе, а так он старше и у него углубленная программа. Он сдувает с глаз челку, кривит рот, будто увидел слюнявого ахо и выходит из класса.
А вот и ее вотч – с облупленным ремешком-браслетом. Она ошиблась и только. А плечо болит после тычка.
– Кичигай! – произносит она сквозь зубы так, чтобы ругательство не долетело до микрофонов камер слежения. За грубые слова наказывают дополнительными часами в больничном крыле или хуже того, в изоляторе для ахо, идиотов.
***
Школьный пиджак стал короток как-то вдруг. Худые запястья высунулись из рукавов. Рррр-раз и выдвинулись вперед, будто что-то потеряли на земле.
– Ц-ц-ц, – огорченно приговаривает портниха, отпарывая и отгибая запасец в манжете, – не хватит, ой, не хватит.
Не хватило.
А на следующей примерке вдруг талия поползла к подмышкам, будто пиджак сшит из змеиной кожи, которая усохла и скукожилась.
– Этак и подол отпускать придется, – всплескивает руками портниха и теребит край школьной юбки, – ноги-то тоже маханут, не удержишь. Недельку походишь, синтетической шерсти нет пока, одни обрезки, с коптером ожидаем. А уж тогда и юбку в складку новую сошью и пиджак, как положено…
Ай тринадцать, поэтому она выдвигает вперед упрямый, как зимнее твердое яблочко, подбородок, и грубо обрывает планы портнихи:
– Не стану я ходить в малышовой одежке.
– Хорошо, – кивает портниха невозмутимо, – возьму тесьмы, – она показывает на яблочно-зеленую, – и надставлю рукава и по подолу пущу, будет загляденье. Для тех, кто не хочет ждать, у меня полно рецептов.
Она издевается!
Темные, до плеч волосы Ай угрожающе топорщатся на затылке, наэлектризованные одеванием-переодеванием, касанием шерсти, полушерсти. Зеленые глаза-кругляшки воинственно сверкают.
И в такие моменты Ай вспоминает, что она дочь профессора Генассии. Хотя никогда не пользуется именем отца. Еще чего не доставало. Ведь она хочет только одного – забыть, что он ее отец. Но сейчас ее так и подмывает напомнить, что она непростая девочка. Ай с трудом сдерживается, слова так и скребут в горле.
– Или вот! – портниха вдруг взмахивает над головой черной поминальной шалью. – Совсем про нее забыла. – И по цвету подходит, а материал на глаз никто не отличит.
Скорбные складки колышутся перед глазами.
Вотч моргает часто-часто, будто удивленный, что его потревожили.
– Меня вызывают.
Портниха оборачивается. Она уже набрала в рот булавок. Стискивает губы, и булавки угрожающе топорщатся. Попробуй убеги! Но вызов – есть вызов. Медлить нельзя.
«Хоть бы ты их проглотила!» – думает Ай про булавки, проскальзывая рукой мимо рукава мантии, раз, другой. Пиджак остался в заложниках у портнихи. Пусть его хоть павлинами разошьет. Плевать.
***
Слитки с профессором Генассией проверяет каждый студент. Но строгой очереди нет. Тебя вызывают. И только, когда светящаяся точка на карте останавливается, ты понимаешь, что будет проверка. Ни один студент не помнит собственную проверку, хотя каждый ее проходил. Что-то в камере приемки кажется знакомым, но, как не напрягай мозги, картинки из прошлого не вспомнишь.
Камера приемки – полый коробок в стене. Стол из туманного металла затерт и поцарапан так, что отражений в нем не видно. Две каменные скамьи по бокам стола. Профессор Генассия пропускает Ай вперед, она скользит по скамье. Он натягивает на руку перчатку со срезанным указательным пальцем. Ай тоже на всякий случай надевает перчатки. К слиткам нельзя прикасаться незащищенными руками.
Родители заходят по очереди и выкладывают звякающие золотые слитки.
Звяк, звяк, звяк.
Профессор смотрит не на детей, а на слитки. Если ребенок поврежден, то и слиток тоже. А те, у которых нет слитка – те удостаиваются разговора. Правда, иногда профессор вызывает и ребенка, смотрит на него, спрашивает.
Генассия продавливает каждый слиток острием титанового наконечника на указательном пальце. Слитки охотно поддаются. Он исследует отпечаток. Замечает, что в одних слитках крови больше, в других меньше, где-то кровь только матери, где-то только отца. Он делает пометки стилусом на смарт-пластине, приклеенной к левой ладони. Один из слитков рассматривает долго, вертит так и эдак под тусклым рыбьим глазом лампы. Слиток не блестит, как положено, его красноватый отсвет выдает в нем правильный сплав, но оттенок слишком тревожный. Генассия даже решается лизнуть слиток. Кончик языка немеет, потом проступает горечь. Генассия сплевывает на пол. Слиток летит на стол с протяжным звяком. И звук не тот, и вкус. Генассия брезгливо вытирает руку об одежду.
– Зараза. Кто ребенок?
Ребенка вталкивают в кабинет. За ним маячит фигура отца. Профессор Генассия и его манит пальцем с титановым наконечником.
– Ребенок болен.
Тощая фигурка сжимается, становится еще меньше. Переступает ногами, обутыми в гэта, подошвы издают стук-стук.
Генассия приглашает отца склониться над столом, якобы собирается показать, что не так со слитком, но вонзает ему в лоб титановое острие, ловко подцепляет что-то и вытягивает наружу черную нить.
Ай отшатывается, пытается вжаться в стену. Ребенок визжит. Его отец недоуменно косит глазами на черную нить, свесившуюся ему на нос.
Дезинфекционный отряд на подходе.
***
Генассия зол. Злость в нем тлеет, как красноглазые угли, и, когда происходит вот такое, как сейчас, злость вспыхивает. Проклятые зараженцы. Этот дурак – ничто, он – жертва, и ребенок его – расходный материал, дрова для печи. Всю партию придется посадить в карантин. Вдруг на кого перекинулась зараза.
Дезинфекторы, туп-туп, бегут по коридору. Быстро они. И Генассия едва успевает выдернуть Ай из узкой западни между скамьей и столом, чтобы ускользнуть в потайную дверь за их спинами. В комнате не случайно камень и жаропрочный металл. Пламя из огнеметов врывается в узкое пространство, гуляет по стенам. Ни дымохода, ни окна. Пепел и дым должны осесть внутри.
Генассия поворачивается к дочери. Та беззвучно открывает рот, как рыба. Глаза испуганные. И он вспоминает, что рыб давно никто не ест и вряд ли ловят для других целей – запрет. Светляками они мерцают в толще воды.
– Что? – устало спрашивает он.
– С-слит-тки, – говорит она, заикаясь. Потому, что не может перед лицом отца испугаться за оставленных внутри людей. Они уже не люди – они заражены травой.
Слитки новоприбывших остались лежать в ряд на столе. За дверью, раскаленной докрасна, воет пламя. Профессор отступает еще дальше в кишку коридора, чтобы жар не касался лица.
– Ты и вправду из отстающих, – безжалостно бросает он. – Как можно расплавить наследный слиток?
– Если сведена печать.
– А с них сведена печать?
– Нет.
– А кто сводит печати?
Ай молчит. Может, они и проходили, а она витала в дождевых облаках. Она не помнит, не слышала.
– Измененные из Башни, – назидательно произносит он.
И она повторяет шепотом:
– Измененные из Башни.
***
В спальне девочек тускло светится лишь полоса на полу. Свет со стен сгинул, повинуясь прикосновению надзорщицы к смарту. Девочки вынимают футоны из шкафов, раскладывают на каменном полу.
Шмыг-шмыг, – носы воспаленные, красные, их утирают рукавами мантий – в складках не видно. А вот рукавом пиджака опасаются. К пиджакам любая грязь прилипает, трудно счистить. Получишь за неопрятность штрафные часы в больничном крыле.
Насморк обитает в Замке наравне с людьми. Ветер изо всех щелей, дождь в окна, холодные полы, форменные кроссовки на толстой подошве, а вот ночью встать по нужде, так босиком надо идти до уборной.
Спят без одеял, обязательный валик под шею. Шея должна крепнуть и привыкать носить вытянутую яйцом голову. Конечно, не всем повезет. Кто-то останется лежать после операции и не встанет. А одеял нет, чтобы руки на виду оставались. Но это по другим причинам. Пижама у всех с длинными рукавами. Плотная, жесткая.
Ай ложится на матрас, валик под шею. Затылок свешивается в сонную пропасть. Надзорщица включает звук, из динамиков под потолком раздается шипение и гудение, как ветер в проводах или радиопомехи, когда не можешь поймать станцию. Звук подавляет тревогу. Вышибает мысли из черепной скорлупы. Череп – скорлупка. Ее можно раздавить, нарастить. Твоя голова не принадлежит тебе.
Ай закрывает глаза и ее обступает чернота, нет, лес, густой лес, огромные стволы деревьев загораживают обзор. Вдруг, между ними что-то мелькает. Светлое платье? Нет, это не стволы деревьев, это прутья решетки, стоит слегка сфокусировать зрение, и ты увидишь. Решетка. Прутья. А внутри ползает скользкая гадина. Вот она опирается на хвост, встает на задние лапы, а передними хватается за решетку. Глаза на уровне твоих глаз. Они закрыты, но из уголков глаз стекают слезы.
Все тело покрыто глазами, как нарывами. Они открываются больно, мучительно. И пока не нарастет чешуя, чтобы прикрыть их, очень больно, и так много видишь…
***
Наутро тяжесть одиночества не проходит. Мадам Таисия повязывает фартук, складки жесткие, как крылья ангелов, закатывает рукава, обнажая бледные, пухлые руки с голубыми реками вен, и принимается за шоколад. Растирая какао-масло, приговаривает: «Есть только сейчас. Никакого потом. А прошлого мы не помним».
Синее пламя от горелки медленно, нежно нагревает миску чуть ли не до крика, плавится тугое масло, смолотые на ручной мельнице бобы, просыпаются сверху пылью и тленом. Деревянная лопаточка подталкивает самые строптивые куски к полному единению. «Один должен раствориться в другом», – приговаривает Таисия.
Мраморный прилавок, на него Таисия льет густую смесь, смешивает и пробует, раскатывает и посыпает то солью, то перцем, ложку сахара, две ложки сахара, чашку сахара. Трудно доставать ингредиенты. Они на вес золота. Отмеряет их весами, с тяжелыми, как слезы Созданий, гирьками.
И тайный ингредиент из темно-синей бутылочки. Одна капля на кувшин. Посредник. Агент. Опасный, если переборщить. Но Таисия отмеряет каплю твердой рукой. И размешивает деревянной ложкой с длинной ручкой. Стук об стенки выходит мягкий, подушечный.
Она в раздумьях. Подносит теплую, тонкую костяную фарфоровую чашку к губам. Ты можешь не пить. Ты можешь в этот раз пожалеть себя и ее. Но одиночество ужасно. Это то, о чем предупреждал наставник. А она не верила, потому что не могла вообразить себе одиночество. Она почти никогда надолго не оставалась одна. И разве она одна сейчас? В кафе с утра до вечера люди. Она занята мелкой, плескучей болтовней. Отпускает сладости, считает деньги, болтает и болтает, обсуждая деревенские сплетни.
– Не делай этого, – выстукивает в виске мысль. – Ты гробишь себя. Ты ничего не добьешься. Лишний раз сделаешь себя несчастной.
Себя? А ее? Эту девочку с зелеными глазами, которые яростно сверкают и остры, как стекло?
Она держалась. И хорошо держалась с последней Волны. И обещала – больше никогда. И вот у нее в руках чашка шоколада, и она уже подносит ее к губам, она уже касается ее края. Теплый, тонкий фарфор, кажется, можно ухватить край зубами и откусить как печенюшку.
Близкие люди становятся частью твоего сознания. А что ближе тебе, чем ты сама? Ты близка и бесконечно далека. Потому что у тебя есть только сейчас, даже не сегодня, а один миг – сейчас. Ты переходишь от мига к мигу, но ты теряешь нить. Она рвется в пальцах, от мига к мигу. Пучок рваных нитей у тебя в кулаке к вечеру. И ночь рассеивает нити по ветру. Их надо прясть заново с утра, пока еще призрачно темно, пока не наступил час рассвета, который все вновь расставит по привычным местам. Привычка – наша большая беда. Но преодолеть ее можно только хитростью, взломом. И правильно сваренный шоколад одна из таких отмычек.
Таисия вытряхивает каплю из темно-синей бутылочки прямо в чашку. Для того, что она задумала, раствор в кувшине слишком слаб.
Она делает глоток. Густой, тягучий напиток. И одиночество отступает из сердца, разрозненные части, как осколки, собираются в единую мозаику, узор к узору, и линии разреза исчезают. Разбитая чашка срастается, будто живая.
Обсудить главу можно: ТГ каморка мамы карла
Глава











