Читать онлайн Черная роза Тифлиса
- Автор: Валериан Маркаров
- Жанр: Исторические любовные романы, Историческая литература, Современная русская литература
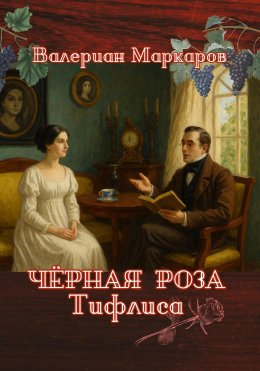
Любовь её пережила смерть.
Имя его пережило столетья…
Глава 1
Сухие июньские дни принесли с собой страшные времена. Тифлис, ещё недавно весёлый и шумный, наполненный детским смехом, уличным говором и лаем собак, – словно вымер. Город, где жизнь начиналась с первыми лучами солнца, где под утренним светом закипали базары, раскрывались ставни, скрипели колодцы и доносились звуки флейты и женского пения, – затих.
Нарядный, пленительный, он утопал в зелени: раскидистые чинаровые кроны, вековые липы, мохнатые каштаны, кусты алых и белых роз, наполняющие воздух терпким, головокружительным ароматом. А вокруг города – древние развалины крепостей и башен, источающие безмолвие старины. За ними – синеющие вдали горы, над которыми серебрятся в перламутровой дымке недосягаемые вершины Эльбруса и Казбека. В поднебесье по-прежнему парят орлы. Но сам Тифлис был мертвенно тих. Всё живое словно ушло в себя, спряталось, затаилось.
Грозная гостья с жёлтых, иссушённых ветром персидских земель – она явилась без приглашения, неся на себе пыль караванных путей, дыхание пустынь и зловонье мертвечины. С неторопливой последовательностью захватывала она города и веси, сокрушала их растерявшихся и беспомощных жителей. Огромной чёрной птицей долетела она и до берегов Куры; раскинув гигантские крылья, парила над черепицей домов, над дворами, над базарами, над монастырями. Каждый, кого она осеняла, падал – не как воин, а как муха в жару: без крика, без молитвы, с выцветшими глазами.
Холера – свирепое и ненасытное порождение нечистой силы – убивала стремительно, не оставляя времени ни на прощание, ни на раскаяние. Час назад – человек здоров, бодр, за чаем в гостиной; час спустя – синеющий, высохший труп. Смерть приходила, как лихорадочный сон, без логики, без жалости. Её не трогали богатство, чин, добродетель, святость – она уравнивала всех. Умирали князья и торговки, епископы и ремесленники, дети и старцы.
Страшное безлюдье и пугливая тишина царили в городе. Редкие прохожие с замотанными тряпками лицами, выпачканные дегтем и пахнущие чесноком, бродили по улицам как тени. По вечерам сквозь заложенные ставни редко-редко пробивался наружу неосторожный луч света. Тяжёлые щеколды с пудовыми замками запирали лавки: прекратилась торговля, закрыли свои мастерские ремесленники, опустели присутственные места. Даже на извозчичьей бирже, где постоянно толпились, судача не хуже старых баб, тифлисские «фаэтонщики», на этот раз было тихо и безлюдно. Растерянные хозяйки выглядывали из окон, тщетно пытаясь услышать привычные возгласы разбитных тулухчи: «Вадаа! Вадаа!». Воды в городе не было. Не было и жизни. Но ежедневно целые обозы с простыми, сколоченными из досок гробами угрюмо тянулись на кладбища, к поспешно вырытым за ночь неглубоким ямам.
На рассвете и закате над городом оглушительно гудел и медленно расплывался в воздухе колокольный звон, чтобы во всю ночь между звонами никто не смел показывать носа на улице. Арестанты Метехской крепости, облачённые в пропитанные дёгтем рубахи, возили по ночам покойников и бесщадно жгли на перекрёстках ворох оставшейся после них одежды. А сёстры милосердия из военного лазарета ходили по домам, опрыскивая их хлором. Ужас неотвратимой смерти повис в душном, наполненном густой мглою, гарью и смрадом воздухе. Отец, чтобы не заразиться, бежал от сына, сын – от отца.
За последние три десятилетия холера уже шесть раз совершала набеги на город, и он знал её свирепость и коварство. Экзарх Грузии срочно отслужил молебствие в Сионском соборе, прося Господа отвести от города мор, а посланцы экзарха отправились к самому подножию Арарата, покрытого вечными льдами, что спокон века лежат на вершине его, за целебной водой из священного источника. В церквах молились о спасении земли грузинской – удела пресвятой богородицы. Окропляя мирян святой водою, служители небесных сил, одетые во всё чёрное, служили ежедневную литургию, наставляя о том, что «Бог не без милости, что пошлёт он жизнь хорошую и спокойную. Молитесь, праведные, Господу милосердному – ведь мы к нему с земной печалью, а он, свет, к нам с небесной милостью. Для того и не могите вы унывать и отчаиваться, ибо на каждого человека Бог по силе его крест налагает. Духом бодритесь, люди добрые, на Христа уповайте… Христос от нас, грешных, одной ведь только милости требует и только на неё милости свои посылает… Все пошлёт он, милосердный».
Прихожане, до того замершие в благоговении между утонувшими в дыму фимиама древними каменными колоннами храма, нынче усердно клали поклоны, молились и целовали крест, а высохшие губы их шептали «Господи, спаси и сохрани!» Со стен, укутанных таинственным полусветом, на людей строго и печально взирали лики святых. Мерцающие языки пламени свечей отражались в золоте подсвечников, на окладах и ризах, стройные голоса певчих, печально тянувших «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи поми-илу-уй…», сливались, колыхались, взмывали к черным сводам храма, смешиваясь со сладковатым благоуханием ладана, и тьма отступала, хоть и ненадолго, бледные лица хористов были удлинённые и строгие, а голоса чистые и сильные. Изредка хор замолкал, уступая свое место пению священника…
Казалось, ещё недавно Кавказ дрожал от пушечных выстрелов и всюду раздавались стоны раненых: шла беспрерывная война с полудикими горцами, совершавшими набеги на мирных жителей из недр своих недоступных гор. Во главе горцев стоял Шамиль, одним движением глаз рассылавший тысячи своих джигитов в христианские селения. Сколько горя, слёз и разорения причиняли эти набеги! Сколько плачущих жен, сестёр и матерей тогда было в Грузии, чьи тихие, зелёные долины плакали кровавыми слезами. Но с появлением русских прекратились набеги, скрылись враги, и обессиленная войною страна вздохнула свободно. А тут хлоп, ни оттуда ни отсюда, новая погибель обрушилась на Грузию.
Петербург, сидя в своём гранитном великолепии, трепетал. Ведомства звенели, как стекло, от паники: из-за Кавказа, словно зловещая тень, надвигались вести – пугающие, неясные, как туман над Невою. В ответ, будто бросая кость осаждённому городу, чиновники пообещали прислать врачей – не позднее, чем через две недели, если штормы на Каспии позволят. А пока – стройте, мол, холерные бараки, да погуще! Приказ был суров и сух: «Срочно. Без разговоров. За неисполнение – под суд».
И бараки – зловещие, сколоченные в спешке хибары, где доска не к доске, а страх к страху – полезли, как гнойники, по окраинам Тифлиса. Карантинные кордоны обложили дороги: часовые с ружьями, лица закутаны, словно разбойники. В выгребные ямы – хлорная вода, хлорная совесть, хлорное благоразумие. Город как будто стал дезинфицировать самого себя – с кожей, мясом и душой.
И тут же по улицам, как бешеная свора псов, побежали слухи. Один страшнее другого. Что, дескать, сверху велено – морить простой люд, дабы осталось меньше едоков. Что врачи – вовсе не лекари, а палачи в белом: сыплют в колодцы порошки, травят, как крыс. Что хватают здоровых прямо на улицах крючьями, будто падаль, и в бараки – там живьём известью посыпают, а после – в яму, без отпевания, без имени. А еще – вода, вода! Кура отравлена!
И вот уж народ стал бояться и хлеба, и воды. О, Кура! Вековечная, могучая, вечно текущая! Она веками несла свои бирюзовые воды, рассекая утёсы, кормя поля, напояящая царей, крестьян, поэтов, любовников… Куру славили в песнях, как мать, как богиню. Спроси у древних – и те сложат тебе гимн в её честь. Не приведи Господь ей исчезнуть – и пересохнет сердце Грузии. Но теперь – по Куре ползёт подозрение, как плёнка гнили: будто бы сама она стала вестницей гибели.
В народе началось смятение. Кто поумней – шептал, глядя исподлобья: – А не от лукавого ли всё это? Кто погорячее – кричал: – Холера – от Бога. И лечить её не надобно! Надобно молиться, поститься, каяться. А эти… костоправы!.. Им всё едино – что Бог, что выгребная яма.
А город клокотал. Гнев и страх, как два брата, варились в одной кастрюле. Люди, лишённые свободы передвижения, словно звери в клетке, начали выходить на улицы. Всё чаще говорили: вот-вот пойдут холерные бунты. Больницы сожгут, врачей – в Куру. Костоправов, фельдшеров, аптекарей, чиновников – всех под нож, под топор. Петербург же, не веря в силу молитвы, был готов послать войска – для умиротворения и «профилактики народной горячности».
Тем временем богачи – те, кто мог – не ждали чуда. Они бежали. Бросали дома, сани, балдахины, гувернанток и котов. Добро своё – сундуки, золото-серебро, священные книги, французские кресла и турецкие кальяны – всё это спешно тащили в храмы. Могнинская, Петхаинская, Джиграшенская, Майданская церкви – все были завалены сундуками, узлами, скарбом: как накануне потопа.
Священники – те, кто ещё вчера проповедовал терпение и смирение, – бежали вслед за своими прихожанами. Куда? Кто знает. Только звонари, бледные и молчаливые, остались в храмах. Они не уходили со своих колоколен, словно привязанные. Ветер трепал их рясы. Колокола – медные, тусклые, истёртые – молчали, пока не придёт час ударить тревогу.
И город, некогда певучий, пестрый, как восточный базар, стал похож на прифронтовую зону, где не слышно ни плача, ни смеха, ни жизни. Осталась только Кура – полная, холодная, равнодушная. Она текла, как всегда, не ведая, что в её воде теперь ищут отраву.
Нина Александровна решительно отказалась оставить свой дом, хоть и сулили ей спасение в Кутаисе, куда мор ещё не ступил своей чёрной подошвой. Осталась – не для спасения, а ради долга и сострадания. Осталась с верной служанкой, чтоб быть рядом с Маквалой, близкой подругой, у которой в одночасье, будто вихрь ворвался в дом, холера вырвала из жизни здорового, статного Зураба – да упокоит его Господь. Наутро же, словно беда решила добить, зловещие признаки болезни явились и у единственного ребёнка покойного – малютки Мзии, едва начавшей говорить.
Обезумев от страха, мать отпаивала девочку кипячёным нашатырём, вываренным в медном котелке, точно зельем из колдовской книги. Но бедняжке становилось всё хуже. Тогда Нина Александровна, не медля, поспешила в дом подруги, как воин на поле брани. Приказала вымыть полы горячей водой с крепким щёлоком, окурила одежду покойника колким дымом можжевельника, сама растерла девочку винным уксусом, вложила в пересохший рот настой мяты, поставила горчичники – будто вызовом смерть бросала.
А на следующий день её ждал новый бой – в доме вдового соседа, аптекаря Гольдмана. Ещё бабушка её знала этого человека, сутулого, с горбатой спиной и длинными еврейскими пальцами. Нина отхаживала его приёмного сына, бледного, обмякшего, с запавшими глазами. Обернула его мокрой простынёй, укутала в одеяло, дала выпить потогонное с каплей белой нефти – средство отчаянное, но действенное. Сам аптекарь, забыв о шаббате, теперь суетился, сбиваясь с ног, хватался за пузырьки и баночки, смотрел поверх очков, и всё бормотал:
– Зверобой… да, может, рижской водки на ночь?.. Госпожа Грибоедова, может, промывательное поставить, чтоб нечистоту изгнать?..
К вечеру мальчик порозовел, затих и уснул. Тогда Нина поднялась.
– Если станет хуже – немедленно посылайте за мной, – тихо сказала она, берясь за ручку.
Аптекарь сложил руки на грудь, словно в молитве, и прошептал:
– Как вас благодарить, не ведаю… Всю жизнь молиться за вас буду…
Дома её ждала Маквала. С порога кинулась к ней:
– Нина! Мзиечка… она улыбается! Сегодня пела… тихо, едва слышно…
Женщины обнялись. От прежней, полной жизнью Маквалы остались только глаза: всё прочее в ней высохло, как трава в августовскую жару. Лицо пожелтело, волосы стали пепельными, спина сгорбилась. Но в её взгляде теплилась последняя искра.
– Хорошо… – прошептала Нина. – А я… я, пожалуй, прилягу. Что-то нехорошо… кружится… слабость…
Маквала насторожилась: в чертах подруги проступило что-то недоброе – стеклянный блеск глаз, желтизна у рта, тот самый смертный холод.
– Господи, неужто и ты?.. – выдохнула она.
– Пустяки… – ответила Нина и села на тахту.
Но тело отказывалось повиноваться. Всё внутри онемело, сердце билось, будто из последних сил, в ушах стоял звон, в голове – туман. Казалось, будто кровь остановилась в жилах.
Маквала схватила её за руку – ледяная, едва прощупывался пульс. Принесла тёплое камфарное масло, стала растирать ладони, плечи, грудь. Нина чуть приоткрыла глаза, прошептала:
– Не надо… Пить… Хочу пить… Я посплю…
Она выпила воды, закрыла глаза. Маквала села рядом, боясь шелохнуться. Рвоты не было. Судорог – тоже. Сердце подсказывало: может, пронесёт…
Маквала подошла к распахнутому окну. Над городом нависло тяжёлое, недвижное небо – цвета грязного олова, глухое, как закрытая крышка гроба. В воздухе стоял сырой запах извести и карболки. Где-то скрипели двери, и эхом отзывались колокола, звеневшие за упокой – нерадостно, мучительно, будто плакали не о прошлом, а о будущем.
По улице, спотыкаясь, брела кляча, волоча телегу с некрашенным гробом, за телегой плелась понурая фигура мужчины в драной чохе. Он шёл, не опуская взгляда, как будто провожал сам себя.
На миг Маквале показалось, что впереди процессии, по булыжной мостовой, ступает не человек, а тень – высокая, сухая, закутанная в бесформенную, длинную, чёрную как деготь накидку с капюшоном. Из-под капюшона торчал хищный нос, ввалившиеся щеки и мертвенный овал подбородка. «Холера…» – шепнул разум, и сердце её заколотилось, как птица в ловушке.
Она отпрянула, но тут же снова придвинулась к окну, будто проверяя – сон это или явь.
Женщина – или то, что приняло её образ – медленно шла по мостовой, в руке у неё была плошка, и она окропляла ею встречных редкой, чёрной, как застоявшаяся кровь, водой. Словно метила. Словно крестила для смерти. И каждый, кого она касалась, становился тише, тусклее, невидимее.
Затем она подняла голову. Маквала вскрикнула – но крик застрял в груди: у женщины были глаза, каких не бывает у людей. Жёлтые. Совсем. Не только зрачки, но и белки. Точно светили из преисподней, не мигая, не отпуская. Они смотрели на Маквалу прямо, точно знали её имя, её грехи, её мысли. В этом взгляде не было ненависти – была лишь пустота, равнодушие, как у самой смерти.
Маквала отшатнулась, зажала рот ладонью – но видение уже исчезло. Тень растаяла, как пар в вечернем воздухе.
В ту же минуту с тахты донеслось еле слышное:
– Пить…
Маквала кинулась к подруге.
Нина лежала неподвижно. На впалых щеках выступили сухие, будто крашеные, багровые пятна. Над глазами – припухлости, налитые тьмой. Казалось, под веками не было глаз, лишь тяжёлые камни. Дыхание было не слышно.
Но Нина не спала и не умерла. Просто она ушла внутрь себя, туда, где ещё теплилась мысль, тонкая, как родник под снегом. Мысль текла, прерываясь, как капли со скалы – то исчезала, то вдруг разливалась говорливо, с той ясностью, какая бывает перед концом. Жизнь медленно размыкалась – но не сдавалась.
И тогда, издалека, из самого сердца тьмы, ей почудился голос. Он не звал – он вспоминал, любовно, неторопливо:
– Нина… ангел мой… Где ты, сокровище моё?..
Глава 2
В тифлисских садах, робко, будто стесняясь, уже бледно розовел миндаль, и персик воскрешал из веток первую дымку цвета. А над всем этим парили голые тополя, высокие, устремлённые к небу, точно тоскующие по утраченной листве. Зима 1816 года, угрюмая и долгая, не сдавалась: держала город в скупом дыхании, отступая нехотя. Весна ещё только собиралась с силами, будто сомневаясь – стоит ли возвращаться. Но в последние дни Тифлис, изнемождённый стужей, выпрямился навстречу солнцу и – замирал, подставив лицо его скромному теплу. Нежился.
Кура, мутная и полноводная, шагнула через ортачальские дамбы, вздулась, как от обиды, и пошла, куда хотела: катила хворост, гнилую солому, дерн и навоз – весенняя ярость в теле великой кормящей реки. Она заливала прибрежные огороды, входила в подвалы, стучалась в дома – но не злилась, а жила. По затопленным берегам, словно вброд по своему детству, бродили карачохели – крепкие, обнажённые по пояс, с мокрыми сетями и тугой надеждой на обильную добычу. Эти сыновья реки не верили в случай – только в время. И когда приходил час, они бросали на стол виночерпиям и поварам живую, серебряную, дрожащую рыбу – цоцхали, неостывшую от воды. Их песня – беспечная, с переливами и подвываниями, как сама Кура – плыла над рекой, перепрыгивала на другой берег, где уже начинались другие судьбы.
Никто из них тогда не знал – ни певцы, ни слушатели, – что в тот самый день, в доме Чавчавадзе, сквозь боль и кровь, через предвечный женский страх и лик торжества, родится дочь, которой суждено будет стать царицей Мегрелии и фрейлиной императорского двора.
Там, в высоком доме над садом, среди узорчатых стен, уже много часов стояла глухая тишина, прерываемая только шагами, приглушёнными голосами, скрипом пола. За перегородкой – Саломэ Орбелиани, жена князя Александра Чавчавадзе, боролась и ждала.
Сам князь сидел у камина, не двигаясь, будто время застыло на его плечах. Он не молился – просто ждал. И не мог думать ни о чём, кроме одного. Мысли подходили, толпились, не находили выхода и, тяжёлые, ложились ему на грудь. Взгляд – прямой, но мутный от напряжения. Лоб – высокий, мыслящий. Усы – холёные, с щегольским завитком. Он был одет в европейский сюртук, но сидел, как горец – спина прямая, рука на колене, тишина в каждом жесте. Из окна на его чёрные волосы падал свет, и в этом свете он казался моложе, чем был.
Возле него, прижавшись, сидела четырёхлетняя Нина – черноглазая девочка с тонкими руками и сбившимися кудрями. В кружевных панталончиках, с босыми щиколотками, она молчала и смотрела на отца. Она чувствовала что-то – возможно, тревогу, возможно, судьбу. Смотрела – и тихо гладила кисть отцовской руки – как будто могла этим успокоить.
В зале, обставленной со вкусом, по-барски щедро, стояла тишина такая, что и муха, будь она, слышалась бы. Огонь в камине не просто грел, а жил своей жизнью: потрескивал, как старик в размышлениях, и подмигивал весёлым пламенем в золочёные рамы зеркал и картин. Танец свечей в бронзовых подсвечниках бросал на стены зыбкие отблески, будто кто-то в задумчивости водил кистью по воздуху. Всё здесь дышало покоем, уютом, даже негой какой-то домашней, ласковой.
Но вдруг – будто нож по ткани – раздался из спальни крик. Женский, острый, не от страха, а от боли, той, что жизнь в жизнь переводит. Александр встрепенулся, вскочил, бросился к двери, но остановился на пороге: как бы не спугнуть, не помешать. Ещё шаг – и в дверях появилась старая повитуха, сухая, как мандариновая косточка, но надёжная, как ключ от амбара.
– Ну, как она? – спросил князь по-грузински, быстро, тревожно.
– Всё, как надобно, батоно, не волнуйтесь. Вы лучше к себе ступайте, водички выпейте, да прилягте. Я сама приду, как будет, – отвечала она, кланяясь чуть ли не до земли, и говорила спокойно, с тем тоном, каким говорят люди, много повидавшие и потому уже ничему не дивящиеся.
Александр не пошёл никуда. Он только отступил назад и опять сел к камину. Лицо у него – белое, точно выструганное из кости, губы сжаты, лоб высок, просветлён. В глазах – и тревога, и огонь, и та внутренняя зоркость, что не даст растеряться в час испытаний. Он смотрел в пламя, будто в нём хотел угадать, чем обернётся этот крик за стеной – слезой или счастьем.
Доктора, русского, всё не было, и это мучило. Он был нужен, а его всё не везли.
Сквозь приоткрытое окно проникал весенний воздух – с дымком, с сыростью, с чем-то родным. До слуха доносился тупой топот – где-то проехал фаэтон. А откуда-то, из глубоких глубин памяти, поднимался голос отца, его старинный рассказ – о детстве, о войнах, о деревьях, что сажал когда-то на далёком родовом склоне. Всё это всплывало сейчас, живое, будто пришло поддержать его в сей решительный час.
В то утро, как заря, ещё толком не разгоревшись, поднялась над Невой, площадь у собора Святого Исаакия была уже вся, как поле подсолнухов в солнечный день, утыкана людом: кто на ножках, кто на козлах, кто с локтями, кто с глазами – все чего-то ждали. Только посреди оставлена была узкая полоса, как речка среди камышей, – для проезда.
Экипажи стояли чинно, в ряд, как на смотре. И вот подкатил один, с гербом и сверканием латунных колёс, и отворилась дверца. Вышла из него, будто не ногами ступала, а по воздуху скользила, сама Екатерина Алексеевна, Императрица, Великая и державная. На плечах у неё горностай белейший, волосы, словно из сахарной пудры, увенчаны диадемой, а брови – чёрные, нарисованные, глядели строго, как гвардейцы на параде. Толпа, как трава под косою, разом пала в пояс. А она – улыбнулась. Не холодно, не свысока, а будто бы с прищуром довольной хозяйки, которой приятно, что всё идёт, как заведено. Поклоны ей нравились – иные, чем эти немецкие кривляния и подскоки, – она в них русскую покорность почитала.
А отец его, князь Гарсеван Чавчавадзе, стоял тут же, как штык. Представитель царя Ираклия, полномочный министр при Российском Дворе, выправка у него – кавалерийская, глаза – чёрные, в них блеск и честь. Протянула государыня ему руку – он, как положено, преклонился и приложился. Глянула она на него – и глазом не повела, но в лице что-то мягкое мелькнуло: ох, знала она толк в породе и стать любила.
В храме уже стояла, как полагается, купель – водичка тёплая, как утренний пар над озером, свечи горят, воздух с ладаном перемешан. Князь держит на руках младенца, голенького, розового, как весеннее яблочко, – крепкий мальчуган, глазки жмурит, головку на локоть кладёт. А на боковом столике – рубашонка с вышитым вензелем и крестик золотой, сияет, как солнышко в воде. Это – подарок матушки-государыни, знак особой милости: крестной матерью сама изволила быть. Не каждому такое выпадает, а только тем, кто за веру и службу доказал, что достоин.
А ведь доказал: в том самом, 1783 году, князь Гарсеван с царского слова подписал Георгиевский трактат – обережный союз между Россией и Грузией, когда уже на Иверию волки со всех сторон надвигались, и внутреннего разлада было хоть отбавляй. Тогда же и приняли под сень русского орла.
Наконец святое таинство крещения свершилось: младенца окропили святой водой, имя дали – Александр. Не просто человек народился, а христианин, раб Божий, чадо крещёное, под покровом небесным. Императрица с князем распили по хрустальному бокалу шампанского – за здравие и долгий путь. Потом села матушка-государыня в свою коляску и уехала во дворец, оставив после себя в воздухе лёгкий шлейф французских духов и светлое ощущение великого дня.
До тринадцати лет жил он в Северной Пальмире – среди строгих фасадов и светлых проспектов, под звон колоколов Петропавловской крепости, под сенью живого портрета Екатерины Великой, чьей крестницей была сама его судьба. Но затем – словно повернулось колесо Фортуны – семья переселилась в Тифлис, где солнце палит ярче, а улицы пахнут базарной пылью и острым дымом топившихся тагаров.
Уже тогда тринадцатилетний мальчик воспринимал мир глубоко и остро, но был еще слишком молод для философских обобщений, и поэтому холодное, почти враждебное отношение многих единоземцев к собственному отцу воспринимал с горечью и душевной болью. Противники воссоединения Грузии с Россией прозвали Гарсевана Чавчавадзе неверным сыном отечества. Эти слова чёрной тенью легли на всю жизнь поэта. Временами, теряя голову в отчаянии, Александр готов был считать себя обязанным «искупить вину» отца, убежденного в том, что, выполняя приказ царя Ираклия II, он спасает родину от физического и духовного уничтожения. Так, в 1804 году, восемнадцатилетним юношей, он свернул с отцовской дороги и, бежав из родительского дома, примкнул к антирусскому восстанию горцев в Мтиулети, которое возглавил царевич Парнаваз с целью отделения Грузии и восстановления блистательной династии Багратионов. Но что из этого вышло? Плен, следствие секретной комиссии для открытия виновников возмущения, ссылка под строгим конвоем непокорного русской короне патриота в Тамбов, на долгих три года, с тем чтобы по истечении сего срока, возобновя присягу на верность, явился он сюда на службу и, загладив добрым поведением проступок свой, мог приобрести в оной новые выгоды. Туда же, в Тамбов, был принужден переехать на жительство и отец его, действительный статский советник князь Гарсеван, словно надеясь своим присутствием сдержать его вновь, удержать от нового безрассудства.
Однако юность, как ветер в горах – бушует, но проходит. И Александра вскорости простили: учли и прежние заслуги его рода, и горячность лет. Государь повелел определить его в Пажеский корпус – учебное заведение для отпрысков знатных семей, где он не только обрёл военное звание подпоручика лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка, но и получил настоящее образование, глубокое, европейского образца. Французский, немецкий, персидский – языки стали ему родными. Там же он впервые соприкоснулся с идеями нового века, с литературой, с историей, с философией – и многое переосмыслил.
Он понял, что не сабля восстанавливает Отечество, не крик толпы, не кровь братьев. Он, грузинский аристократ с русским воспитанием и европейским кругозором, стал тем, кто сумел примирить в себе Восток и Запад, старое и новое, меч и перо. Разве не он одним из первых перевёл на грузинский язык вольнодумные стихи Пушкина? Да, в тот период он, молодой грузинский аристократ, уже полностью разделял освободительные идеи своего века, революционный дух которых так глубоко проник в среду передового русского офицерства. А спустя несколько лет, в 1811 году, он вернулся на родину уже не мятежником, но офицером русской службы, адъютантом при главнокомандующем – маркизе Паулуччи. Вернулся прощённый, с открытым лицом и чистой совестью, к дому, где его ждали жена Саломе и маленькая дочь Нино. И теперь, среди листвы и камней Тифлисского сада, он ожидал рождения второго ребёнка – не с тревогой, как в юности, а с благоговением перед новой жизнью, которую должен был защитить и воспитать уже не мятежник – но отец.
Ровно два года минуло с того великого дня – 18 марта 1814 года, когда русская армия под началом старого, непреклонного Барклая ступила, наконец, на французскую землю. Париж, грозный Париж, столица мира и войны, встретил победителей не выстрелами, не проклятиями – но тишиной. Серый, тяжёлый туман висел над улицами, как саван, и казалось, что город умер, укрывшись в своих каменных гробницах.
Колонны русских полков, запорошенные пылью и порохом, проходили молча, не оборачиваясь, по пустым улицам Сент-Антуанского предместья, где ещё недавно кипела буржуазная жизнь. Скрип колес, гул пушек, рёв команд, рассекавших сырой воздух, – и над всем этим покровом звенела только поступь истории. А потом, как это всегда бывает: город ожил. Из подворотен, из подвалов, из закоулков высыпали французы – мальчишки с тонкими лицами, женщины в чепцах, старики, пахнущие табаком и революцией. Кто-то крестился, кто-то молчал, кто-то смотрел с горечью, кто-то с любопытством.
Среди тех, кто въехал в Париж верхом, был и он – князь Александр Чавчавадзе, двадцатишестилетний адъютант главнокомандующего, сухощавый, высокий, с восточной осанкой и русской выправкой, с лицом, будто вырезанным из бронзы. Его французский был безукоризненен, как у аббата; его манеры – несомненно парижские; но в сердце его звучала флейта Кахетии, и глаза его видели сквозь камни Парижа родные виноградники Цинандали.
Кампания 1813–1814 годов стала для него и школой, и пьедесталом. Он отличился – не единожды: в атаке, под огнём, в штабе при разработке диспозиций. За это был награждён щедро и по чести: орден Святой Анны второй степени, прусская золотая сабля с чеканкой «За отвагу», и даже – редкость невиданная – французский орден Почётного легиона, которым французы неохотно жалуют даже своих. Всё это не вскружило ему голову: честь и слава были для него не целью, а инструментом, как лезвие шашки или перо.
Но судьба, как всегда, напомнила о себе. В самый разгар победы дала о себе знать старая, не до конца зажившая рана – след пули, полученной им в юности, при подавлении кахетинского заговора, когда он ещё только учился быть офицером, а кровь в жилах кипела сильнее устава. Рана разошлась. Врачи велели покинуть ряды армии. И он, с болью, но без ропота, вернулся на родину, уже в чине ротмистра, с назначением командовать Нижегородским кавалерийским полком, стоявшим недалеко от его родных мест, среди виноградных склонов, где воздух пах не порохом, но земляникой и солнцем.
И вот теперь, весна на дворе. Но весна не такая, как хотелось бы – серая, холодная, неприветливая. Тучи тянут низко, по вечерам туман висит над Алазани, как старый платок, забытый на ветках. Александр сидит в своём доме, у камина, один, греет руки у огня, прислушивается к потрескиванию виноградной лозы в очаге. И думает. Не о сражениях – те позади. Не о наградах – те в ящике, под замком. А о сыне. Ну, какой грузин не мечтает о наследнике? Не о том, кто станет продолжением его – в теле, в имени, в крови. Кто пройдёт по тем же тропам, но с меньшими ранами. Кто будет носить саблю – и перо. Кто однажды, может быть, тоже войдёт в Париж – или в историю.
Тяжкий стон жены прервал мысли Александра. Он вздрогнул, не сразу понял, откуда звук, – и лишь потом, понурив голову, встал и застыл у камина, вслушиваясь в себя, в ночь, в жену. Ему чудился её голос – не голос даже, а дыхание, рваное, в клоках, сдерживаемое – то срывающееся в вскрик, то уходящее в глухой шепот. Он представлял, как она, бледная, с вытертым до синевы лбом, с иссохшими губами, вцепляется в скомканную простыню, задыхается, давится криком, а потом с немым отчаянием хватает за руку доктора, словно за спасительный шест в бушующем море, и смотрит на него умоляюще, как обречённый – на судью.
Опять наступила тишина. Зловещая, натянутая, вязкая. Князь поднялся, охваченный странным холодом, и пошёл к двери. Постоял. Приложил ухо.
– Сейчас, сейчас, княгиня… – доносился спокойный, чуть охрипший голос русского доктора, крепкого пожилого человека с уставшими глазами и щетинистой бородой, которую он привычно теребил в минуты напряжения. – Потерпите. Молите Бога, чтобы наставил вас Своим духом… Уже почти… Ещё немного, голубушка моя. Дышите глубоко, как я вам говорил…
– Я не могу… – прошептала она.
– Вы можете. Надо. Господь не посылает больше, чем человек способен вынести.
За окном ветер переменился. Тот, что с Куры, – тёплый, пахнущий камышом и тиной, – сник, и на его место пришёл северный, ломовой, сырой. Он гнал тяжёлые тучи по ночному небу, и с них сперва потёк мелкий дождик, как из решета, потом вдруг повалил мокрый снег. Грузины говорят о таком: «молодой снег за старым пришёл». Он, ленивый, почти равнодушный, кружился над крышами, стелился пластом на лошадиные гривы, на плечи зазевавшихся прохожих, ложился на крыши и темнеющие луга. А над всем этим – небо, пустое, будто забытое Богом, и только две звезды робко пробивались сквозь мглу, как два живых глаза на мёртвом лице.
Князь возвратился к очагу. Камин почти погас – оставался лишь синий, едва заметный язык пламени среди серого пепла. Он подбросил в огонь сухих лозин и дубовых чурок. Запах дымка смешался с ароматом персидского ладана. Дрова затрещали, камин вспыхнул рыжим пламенем, заиграл по стенам, как актёр перед немой публикой. Черты князя – скуластые, вылепленные будто бы рукой строгого зодчего – заострились. На усах, некогда чёрных, как смоль, обозначилась седина. Взгляд его был всё тем же – прямой, живой, словно военный драгунский выстрел.
Он снова опустился в кресло – старое, мягкое, с вдавленным сиденьем, с потёртыми подлокотниками, стоявшее у письменного стола, покрытого зелёным сукном. Под ногами – персидский ковёр, тонкой работы, в котором узоры витали, как сны. По стенам – книги, книги, книги. Ряды корешков на всех языках, которые он знал: грузинский, русский, французский, немецкий, фарси… Байрон и Пушкин сшибались с Саади, Руссо обнимал Руставели. Он сам – переводчик, толкователь, посредник между Востоком и Западом. Он знал Гёте наизусть, и читал его в подлиннике, за чаем с мёдом, по утрам.
– Папа… – тихо окликнул его голос.
Он обернулся. У двери стояла Нина – девочка с чёрными, как вороньи крылья, кудрями, в длинной ночной рубашке. Она не плакала, не дрожала, но в глазах её застыло недетское, тревожное ожидание.
– Папа, а почему мама кричала?
Князь чуть улыбнулся. Поднял глаза на дочь – и в его взгляде была и ласка, и упрёк, и нечто вроде тихого благословения.
– Всё хорошо, дитя моё. Ты ведь знаешь, что у тебя скоро будет братик, правда?
Нина кивнула серьёзно. Лоб её сморщился, как у взрослой, думающей женщины.
– И как же мы его назовём? – спросил князь, протягивая руки.
– Давид, – ответила она.
– Ну, что ж, – усмехнулся он, – пусть будет Давид, коли ты так хочешь.
Дочь бросилась к нему – не поспешно, без кокетства, но резко, как лань, и прижалась к его груди. Он обнял её – твёрдо и бережно. Она была не ласковой, не домашней, не румяной – нет, слишком дикое, гордое племя билось в её венах. Но сейчас она была тиха, и сердце его билось в ответ.
Словно в нём жило два человека. Один – военный, с выправкой, с опытом, с огрубевшим от солдатчины сердцем. Другой – поэт, томимый вечной тоской, пленённый Кахетией, поющий розу и соловья, плывущий в своей грустной, прекрасной утопии, где всё – любовь, и боль, и виноградный сок…
Спустя четверть часа Александр вновь, как в омут, погрузился в раздумья. Мысли его, извилистые, тревожные, незаметно увлекли его далеко – в сырое, сумрачное детство. Петербург вставал в памяти серым маревом, сквозь которое едва проступали черты: тяжелые портьеры в гостиничном номере на Галерной, запах сырости, утренний звон карет, бесконечные лестницы в посольских домах. Но сильнее всего – лицо отца, вечно нахмуренное, тревожное, подёрнутое тонкой сединой преждевременной заботы. Гарсеван Чавчавадзе, грузинский посланник при дворе северной самодержицы… Он являлся туда, во дворец, каждый день, как на службу, облачённый в тесноватый, некстати блестящий русский мундир, подаренный князем Потёмкиным. Являлся с замиранием сердца, целовал властную руку вседержавной Екатерины и, склонившись в поклоне, из раза в раз повторял одну и ту же, почти отчаянную мольбу: выслать два батальона в помощь родному Тифлису, растерзанному Ага-Магомед-Ханом.
Императрица, величавая, добродушная и холодная, улыбалась, обещала, кивала, отпускала остроумие. Гарсеван выходил из приёмной, выпрямившись, но с пустотой в груди. Оставалось ждать. И он ждал, надеялся, истончаясь душой от бессилия. Но тщетно.
Екатерина отступилась. Как отступаются от угодья – беспокойного, далёкого, неприметного в генеральной карте. А тем временем из Тифлиса – спешно, настойчиво, дрожащей рукой – шли депеши от старого царя Ираклия. В каждой – боль, отчаяние, взывание к совести:
«Гарсеван, час настал, – писал Ираклий, – чтобы отдать все силы на защиту отечества, церкви и христианской веры. Нельзя терять ни минуты. Ничего у нас не осталось, всё разрушено. Вам ведомо, что, не будь мы связаны клятвой с Россией, и сохрани мы дружбу с Ага-Магомед-Ханом, сие несчастие миновало бы нас стороной. Во имя Бога приложите старание, дабы исходатайствовать у матушки-императрицы помощь братьям по вере…»
Сердце Александра заныло, сжалось в узел. Он помнил, как отец читал это письмо, стоя, дрожащими пальцами держа пергамент.
А в Тифлисе – тогда, незадолго до вторжения – Ираклий получил другое послание, уже от самого Ага-Магомед-Хана, основателя новой персидской династии Каджаров. То было не письмо, но грозный указ, написанный тоном, достойным Шахнамех:
«Именем Всевышнего Бога, ибо велика есть слава Его! Указ, которому Вселенная повинуется. Высокопочтенный, высокоместный, счастливейший, избраннейший из царей Грузинских, царь всея Грузии Ираклий, сим монаршим благоволением нашим Тебя возвышая, напоминаем: Ваше Величество есть также иранец, равно деды и прадеды Твои происходили до ста колен из роду иранцев же.
Я удивляюсь тому, что ты заодно с россиянами, кои с давних времён только и знают торговлю и промысел. А ты – с ними соединяешься, тех неверных допускаешь и волю им даёшь, вызывая народные возмущения.
Хотя Ваше Величество с нами не единозаконец, но по происхождению – единоземец. Как в Иране нашем живут мусульмане, турки, армяне, грузинцы – все суть подданные нашей милости. Тебе надлежало бы помнить об этом.
Учинённому прошлогоднему разорению и погибели грузин Ты сам виною: наша власть сильна, но не зла. Ныне же мы, по милости Всевышнего, прибыв на место царствования нашего, уведомляем: если Ты – благоразумен, как говорено, отступись от союза с неверными.
А коли пребудешь в упорстве, то скоро найдёшься под шатрами нашего государства. И, при помощи Всевышнего, сделаем из крови российских и грузинских народов реку, текущую наподобие Куры…»
Слова эти, как зловещая рана в памяти. Александр точно слышал их снова, точно видел, как Ираклий, осунувшийся, с поседевшей бородой, сидел над этим свитком, качал головой, приговаривал:
– Брат ли мне хан, коли меч его точится на христиан?
…Пламя в камине вдруг хрустнуло, вспыхнуло сильнее. Александр вздрогнул. Ветер за стенами дома стонал, как голос тех дней. Тифлис – растерзанный, запорошенный снегом, он и сейчас, будто в воспоминании, стоял перед его глазами.
…Вскоре, на заре сентября 1795 года, степи закипели гулом и пылью: персидское воинство Ага-Магомед-Хана, подобно орде Аттилы, скатилось к подступам Тифлиса, встав лагерем в семи верстах от предместий столицы. Поле чернело шатрами, земля дрожала от конского топота, и будто сама природа замерла в ожидании грозного удара.
Ни времени, ни сил для сопротивления у царя Ираклия не осталось. Грузия, истощённая и полупустая, не успела собраться под ружьё. Из обещанных сорока тысяч воинов к знаменам царя Картли-Кахетинского явилось лишь пять тысяч, храбрых, но обречённых, и стояли они против несметного, как море, тридцатипятитысячного войска кызылбашей. Их сравнивали с саранчой, с бурей, с огнём, пожирающим всё живое: надвигались, неся гибель, и не было от них спасения, как от проклятия небесного.
Единственный, кто обладал властью повелеть русским батальонам выступить на защиту Тифлиса, был генерал-аншеф Иван Васильевич Гудович, хранивший Кавказскую линию. Но и он, связанный по рукам и ногам царским регламентом, не осмелился двинуть войска без высочайшего соизволения. Что мог он сделать, если, как рассказывал отец, по всей линии, от Черноморья до Владикавказа, в подчинении у него находилось не более пяти тысяч солдат регулярной армии? Даже с донскими и терскими казаками не выходило в сумме и десятитысячного корпуса. А ведь каждый солдат был нужен на вес золота, ибо стоило Гудовичу оголить рубежи – и на Линию немедля хлынули бы ногайские шайки, лезгины с Каспийского побережья и, не дай Бог, удар с тыла от турецких пашей.
Гудович был человек не только военной выправки, но и рассудительности. Он не мог бросить Ираклия II на произвол судьбы, понимая, что за этим последует. Одно его перо черкнёт – и весь Кавказ окажется в руках персов. Ведь старый царь, избитый судьбой и преданный союзниками, мог в минуту отчаяния склониться перед саблей завоевателя, принять союз с Тегераном против Петербурга – и всё, на что была потрачена кровь и казна России, обратилось бы в пыль.
Взвесив всё, генерал сел за письменный стол, и рука его вывела два послания. Первое – к Екатерине Великой, с подробным изложением опасности, нависшей над Закавказьем, с проектом решительных действий против Каджаров, с просьбой о подкреплениях, артиллерии, о праве действовать без ожидания сенатских указов.
А второе письмо – к самому царю Ираклию. В нём – не приказы, не упрёки, но совет:
«Вашему Величеству надлежит ныне, яко опытному и прозорливому государю, при помощи дипломатии удержать врага на расстоянии. Переговорами можно выиграть время, а время ныне драгоценнее всех армий. Да не допустим скоропалительных решений, ибо союз, заключённый в гневе и отчаянии, ведёт к погибели. Россия помнит союз с Грузией и, по возможности, исполнит своё слово».
Так на краю бездны судьбы великие державы вновь играли в осторожные ходы и тяжёлые молчания – а где-то уже ржали кони Ага-Магомеда, и барабаны стучали по ночам, возвещая приближение бедствия, сравнимого разве что с нашествием Тамерлана.
Несмотря на всю беспомощность Тифлиса, открытого, словно грудное дитя, пред ликом смерти, царь Ираклий, седовласый и неустрашимый, решил встретить врага лицом к лицу. В сражении при Соганлуге грузины храбро обрушились на авангард персидского войска, обратили его в бегство и нанесли ему чувствительный урон. Радостные гонцы разнесли весть о победе по всей стране, словно весенний ветер несёт аромат цветущих садов.
Сам Ага-Магомед, повелитель Персии, знавший по опыту воинскую доблесть и неукротимую волю к свободе грузин, призадумался: не лучше ли оставить свой замысел и отступить от Тифлиса? Он помнил победы Ираклия, некогда громившего несметные орды врагов, и сердце его колебалось. Но вражеская рука, продажная и бесстыжая, нашлась и здесь: тайный гонец, подосланный предателями, сообщил персам истину – защитников города ничтожно мало. Вдохновлённые этим открытием, персы с новою яростью ринулись в наступление у Крцаниси.
Словно бушующее море, волна за волной катящее на берег, сшибающее всё на своём пути, так и полчища кызылбашей с неумолимой яростью обрушились на ряды грузинских воинов. Люди бились, потеряв человеческий облик, – как звери, сражались живые, попирая мёртвых. Гора окровавленных тел вздымалась на поле брани, и земля, как губка, впитывала кровь сыновей Картли и Кахетии.
Старый царь, сединой осыпанный и благородный, сражался как лев в кольце врагов. Семьдесят пять лет носило его сердце грузинскую корону, и в час бедствия оно не дрогнуло. Окружённый, одинокий, он стоял в самом центре вихря. Тогда царевич Иоанн, его внук, с горсткой доблестных храбрецов прорвался сквозь строй, схватил деда и, пробив кольцо, вынес его с поля битвы. Их отход прикрывал отряд в триста арагвинцев – триста избранных, что, как спелые колосья под серпом, легли под саблями врагов. Перед боем они поклялись:
– Если победа ускользнёт от нас, и мы не устоим – пусть будет посрамлён тот, кто вернётся живым домой! Или смерть, или слава!
И клятву исполнили: ни один не отступил, ни один не дрогнул, ни один не сберёг своей жизни. У Южных ворот Тифлиса, с обнажёнными саблями, они стояли до конца, и каждый пал, покрыв имя своё славою. Их тела, перемешанные с вражескими, унесли в себе последнюю молитву и были погребены прямо там, под грудой мёртвых, где дышал когда-то цветущий сад Картли.
Господи, да помяни их души в Царствии Небесном!
Но зверь, выпущенный на волю, не знал ни меры, ни пощады. Орда персов ворвалась в Тифлис, и шесть дней длилось то, что не выразить человеческим языком. Православные храмы были осквернены, митрополит, замкнувшийся в Сионском соборе, низринут в Куру с террасы своего дома; священники – изрублены. Жителей грабили, резали, уводили в рабство; половина города исчезла в неволе.
На Авлабарском мосту персы установили икону Пресвятой Богородицы Иверской и принудили тифлисцев глумиться над святыней. Кто отказывался – тот рассекался пополам, и вода Куры, некогда чистая и быстрая, запрудилась телами мучеников, и река потекла, как кровь из раны.
Никто не пощадил ни младенцев, ни старцев, ни женщин. Девочки, едва достигшие десяти лет, и почтенные дамы в покрывалах – все они были розданы сарбазам в качестве добычи. Тифлис, некогда гордый и утончённый, был обращён в прах. Дома сожжены, дворцы разрушены, ничего не осталось, кроме руин и пепла. Царский дворец – срыт до основания. Только ворота, как свидетели прошедшего, стояли посреди безмолвия. Пушечный завод, арсенал, монетный двор – всё стёрто с лица земли.
По дороге за Банными воротами лежали тела мучеников: стариков, женщин, детей – всех, кто не захотел отречься от веры.
А сам царь, измождённый, но не сломленный, с малым остатком верных ему воинов отступил в Ананурскую крепость. И оттуда, в последний порыв гордости и веры, он писал Ага-Магомеду:
«…Я сделаю всё, дабы спасти отечество. Ибо сердца всех грузин полны негодованием и мукою. Знай же, что Императрица Всероссийская, наша единоверная заступница, не потерпит того, что творишь ты с нами».
Тем временем сам Ага-Магомед-Хан, нагой, как первочеловек в час изгнания из рая, предавался мрачному наслаждению в тёплом нутре тифлисской бани. Из глубин земли по глиняным трубам стекалась горячая серная вода, насыщая паром воздух, насыщенный древними запахами тел и пота, и клубилась, поднимаясь к выложенному из кирпича своду, откуда редкие косые лучи света пробивались сквозь отверстия в куполе. Эти тусклые лучи едва озаряли кирпичные стены, стены немые, свидетели вековых бесед, заговоров, банных свадеб и тайных исповедей.
Пол под ногами шаха был выложен плитами серого, пористого камня – камня той самой земли, которую он ныне попрал и осквернил, – из него же был сооружён широкий бассейн, облицованный голубыми изразцами, обвитый мозаичными лентами восточного орнамента. В передней лежали персидские ковры, сукна всех цветов радуги покрывали скамьи с продолговатыми подушками – мутаками, на которых иные когда-то мечтали о любви или толковали о торговле.
Здесь, где прежде весело смеялись тифлисские свахи, устраивая смотрины невест, где до рассвета пировали и заключали купеческие сделки, ныне раздавались лишь стоны и хрип, – не от восторга, но от боли. Слабое тело шаха, безволосое, точно у ребёнка, но исполненное ярости, подвергалось жестокому «очищению»: здоровенные банщики – татары-мекисэ – с деловитой яростью выкручивали ему руки и ноги, колотили по спине тяжёлыми кулаками до тех пор, пока он, скрежеща зубами, не терял рассудка, а с ним – и чувство собственного могущества.
Один из банщиков, грузный и мрачный, как мясник, ловко вскочив шаху на спину, начал топать по ней своими косматыми ногами, будто месил хлебное тесто для похоронной трапезы. Затем, надев на руку мокрый холщовый мешок, раздул его, хлопнул с размаху по пурпурной спине повелителя Персии, прошёлся этим орудием вдоль его искривлённого тела – от жилистой шеи до безобразных, ввалившихся бедер, между которыми зияла пустота, достойная бездны. После чего сбросил измождённого шаха с каменной лавки в бассейн, как сбрасывают обескровленного быка после ритуального заклания.
И вот он лежал в мутной, вонючей воде, сквозь клубы пара вглядываясь в зыбкое отражение своей ненависти. Его тонкое лицо, как вырезанное ножом из воска, сжималось от злобы. В глазах горел тёмный, жестокий огонь, уголья старой вражды не потухли – тлели, дымились, ждали лишь дыхания мщения, чтобы вспыхнуть с новой силой. Он думал об Ираклии.
– Старый лис… – прошептал хан, глядя в тёмную воду, словно ища там лик своего врага. – Ещё дышит… ещё вьётся, как уж на горячем песке… А я ждал, что приползёт просить пощады… Нет, всё держится. Но я сломаю его…
Он сжал кулак – вода разошлась кругами. В его памяти всплывали годы былых унижений: как Ираклий II, несмотря на старость, дерзко не раз обводил мечом его армию, как отбрасывал послов с наглыми ультиматумами, как не склонялся, как всё ещё звал на помощь свою «единоверную» – русскую императрицу.
– Пусть зовёт, – прошипел хан, – пусть зовёт свою Екатерину… До Каспия мне подчинены – а скоро и за Кавказом не останется камня, что не знал бы моего имени…
Его плечи вздрогнули. Не от холода, не от страха – от предвкушения. Он поднялся из воды, тяжело, как восставший из гроба мертвец, и капли мутной серной воды стекали по его хребту, словно нечистая кровь, смывающая следы преступления.
Когда-то, во времена былые, ещё до восхождения звезды Ираклия на политический свод Кавказа, великий властитель Персии Надир-шах, грозный, непредсказуемый, как само божество войны, повелел взять к себе во дворец юного грузинского царевича из древнего рода Багратионов. Якобы – для обучения наукам и воинскому искусству. В сущности же – как заложника, живой щит, живую печать на мирах и договорах, связывавших Персию с северными пределами.
Юноша – мальчишка ещё, но с открытым умом, гибкой речью и гордым взглядом, – скоро покорил сердце шаха. И этот волк, омывший в крови полмира, с удивлением нашёл в себе тень отеческого расположения к юному Ираклию. Он даже пригласил его принять участие в походе на Афганистан. В сражении под Кандагаром, среди копий, стрел и свиста сабель, царевич, которому едва исполнилось семнадцать, уже командовал грузинской конницей и первым ворвался в стены города. Тогда многие увидели в нём не только заложника, но полководца, и даже – предвестника иных времён.
Разорив Афганистан, Надир-шах двинулся в Индию – не столько ради сокровищ, сколь по жажде славы и грабежа. Но юный грузин и здесь отличился: среди драгоценностей, рассыпанных, как сор, среди ковров, сшитых из жемчужин и алмазов, он оставался равнодушен. Не золото, но утончённая красота человеческого искусства пленяла его. Он был аскетичен, немногословен, суров к себе и непроницаем к лести. Слово его стоило веса меча, и даже шах, привыкший к поддакиванию, внимал ему как мудрецу.
Однажды, во время индийского похода, перед войском появился истёршийся от времени каменный столб. На нём был высечен идол и угрожающая надпись: «Да будет проклят навеки со всеми потомками тот, кто переступит сей рубеж». Суеверные персы встревожились, в лагере началось роптание. Солдаты отказывались идти вперёд. Тогда Ираклий, не меняясь в лице, молвил: – Выроем столб и понесём его пред собой. Никто не преступит проклятия, ибо никто не переступит за него.
Шах, поражённый остротой ума и простотой решения, обнял царевича и тотчас приказал исполнить сказанное. Отныне слово Ираклия стало законом. Вслед за этим Надир-шах вступил в Дели – под пение рабов, звон цепей и грохот аркебуз, и, собственноручно, как бы услаждая свою жажду трофеев, отобрал у падишаха Моголов несметные сокровища, среди которых был и алмаз «Кохинур» – камень столь блистающий, сколь и проклятый.
Говорили: кто владеет «Кохинуром», того ждёт гибель, кто надевает его – тот теряет разум. Так случилось и с самим Надиром. Возвратившись в Персию, он будто бы перешёл грань человеческой меры: стал подозрителен, мрачен, не доверял ни жене, ни визирю, ни собственной тени. Мятежи, предательства, заговоры сыпались на него, как сыпется вьюга в безлунную ночь. И, в конце концов, – был он заколот, как бешеный зверь, собственными приближёнными. Умер не своей смертью.
Но за несколько дней до своей гибели – быть может, предчувствуя развязку, быть может, желая оставить завещание – он велел позвать Ираклия. Тот, уже утверждённый царём Кахетии, прибыл в персидский дворец. И стал невольным свидетелем страшного зрелища: на его глазах евнухи оскопляли шестилетнего мальчика – наложника из рода Каджаров, сына некоего Хасан-хана. Мальчик кричал, как ягнёнок, но крик его тонул в ритуальных песнопениях. Шах, казалось, ничего не слышал.
Царевич Ираклий стоял, словно окаменев, перед страшной картиной: кровь, блеск ножа, полная тишина – и глаза ребёнка, наполненные ужасом. Мальчика звали Ага-Магомед. Он дрожал, как осиновый лист, но в глазах его – тех самых, в которых потом, через десятки лет, вспыхнет злоба и ненависть, – уже таилась воля жить и мстить.
Тогда никто ещё не знал, ни Ираклий, ни сам пострадавший от рук шаха отрок, как тесно и трагически сплетутся их судьбы: как однажды Ага-Магомед Хан станет палачом Грузии, а имя Ираклия – проклятием на его устах.
Долгие годы Ага-Магомед оставался в плену, прозванный презрительно Ахта-ханом – Евнух-ханом, как клеймом, наложенным на его память, плоть и душу. Его тело было тщедушно, невелик ростом, но душа – безмерна в своей злобе, как степь в ненастье. День за днём он впитывал в себя ядовитую желчь обиды, и в глубоко впавших глазах его теплился мрак той ненависти, что со временем вырастает в державу.
Он не знал милосердия – да и не просил его сам. Когда судьба подняла его над Персией, он превзошёл в жестокости всех шахов, бывших до него. Каждый, кто ведал унизительную тайну его телесной утраты, был обречён: исчезал бесследно, как тень на знойной стене. Объединив разрозненные тюркские племена, Ага-Магомед повёл их на Персию – как на великую жатву. Он вошёл в Исфахан, захватил Шираз, распяли Керман. Там, в Кермане, в городе, некогда славившемся изяществом своих мастерских, двадцать тысяч мужчин были ослеплены – и каждый день к ногам шаха приносили корзины с глазами. Он пересчитывал их лично, ощупывая, как чекан, трофеи своей мести. Женщины – восемь тысяч душ – были отданы на поругание воинам, остаток обращён в рабство. Из шести сотен отрубленных голов сложили во дворе шахского дворца пирамиду – немую летопись страха и ужаса, видимую за вёрсты.
Насладившись порядком в Персии, шах обернулся к сопредельным землям – к Грузии, к Карабаху. На подступах к Тифлису он поставил за спинами своей армии особый полк – тысячи туркмен. Их назначение было просто: убивать тех, кто отступит. Он знал – страх смерти от своих страшнее смерти от врага.
Царю Ираклию он направил письмо – в нём было всё: угрозы, презрение, надменность. Ответ был краток: «Лучше умереть в бою, чем отдать город евнуху».Это было не дипломатией. Это было плетью по лицу. Шах вспоминал: тот мальчишка, грузинский царевич, видел, как его – сына каджарского вождя – приговорили к вечной немужской участи. В глазах того царевича – Ираклия – застыло нечто хуже жалости: спокойное презрение.
Ага-Магомед возненавидел его. Не как врага – как того, кто стал живым напоминанием о старом унижении.
Он двинулся на Тифлис. И город пал. Был сожжён дотла, предан забвению. Отныне – лишь дым, пепел, стоны. А шах, довольный и утомлённый, спустился в царскую баню у подножия Нарикалы. Ему сказали: воды её целебны, даруют юность и мужскую силу. Он верил. Хотел верить. Он опустился в воду, потом встал, медленно ощупал себя – пустоты его не исчезли… … И тогда лицо его исказилось яростью.
– Принести одежды! – вскричал он. – Немедленно!
А выйдя из бани, приказал:
– Отсечь голову банщику, что видел меня. И стереть с лица земли эту баню – до последнего камня!
Долго в Грузии он не остался. Тишина – мука для кызылбашей. Без войны нет добычи, без добычи – голод. А голодный сарбаз не будет терпеть: он обратит меч на соседа, на вождя, на самого шаха. И вскоре шах ушёл – в Хорасан. Там ждали его узбеки, туркмены – новые жертвы в счётах прошлого.
А в Грузии поселилась чума. И голод. И смерть.
Утром на улицах Тифлиса можно было видеть собак, гложущих человеческие кости. Дым ещё не рассеялся, и в нём слышался плач младенцев.
Боже, какие же тяжкие испытания выпали на долю моего народа, размышлял Александр Чавчавадзе в тишине ночи. Со времен монголов грузины не помнят такого разорения Тифлиса.
Поражение стало для Ираклия ударом не столько военным, сколько духовным. Тяжесть утраты, горечь стыда и внутреннее сокрушение легли на старое сердце грузинского царя. Он удалился в Телави – не как государь, но как кающийся грешник, как монах, прячущий слёзы в безмолвии кельи. Там, в прохладной тени платанов, под мерный звон колокольчика монастырской службы, он проводил дни в посте, молитве и горьком раздумье. Оттуда и было отправлено им последнее письмо верному другу и сподвижнику, Гарсевану Чавчавадзе – письмо, полное скорби и горького мужества:
«Годы мои сочтены, Гасеван. Отныне не подобает мне, да и сердце мое не желает, чтобы я, покорно опустив голову, сидел где-то в углу в присутствии Ага-Магомед-Хана и слушал противный моему сердцу голос скопца, издающий приказы и запреты…»
И всё ж – молитвы, стоны и вопли грузин не пропали во тьме. Из Петербурга, где до сих пор не смолкала память о славных деяниях князя Потёмкина, долетели, наконец, вести. Великая Екатерина, что видела на Кавказе будущий бастион империи, велела привести в исполнение дерзновенный замысел покойного фаворита: отомстить за Тифлис и положить конец владычеству скопца, «ужаса Востока». В узком кругу приближённых она объявила: «Надлежит опрокинуть скопище Ага-Магомед-Хана поражением и преследованием, искоренить властителя сего, если дерзнёт он до конца противиться пользам и воле нашей». И командование возложено было на юного и блистательного графа Валериана Зубова.
В кратчайший срок были сформированы две пехотные и две кавалерийские бригады, и с лязгом, грохотом и сожжённым порохом двинулось вперёд русское воинство, как весенний разлив, затапливающий всё на своём пути. Земля дрожала от грохота пушек, ядра со свистом и рёвом рассекали воздух, знамёна Императрицы развевались над дымом и пеплом захваченных крепостей.
Одна за другой пали ханства Казикумыкское, Дербентское, Бакинское, Кубинское, Ширванское, Карабахское, Шекинское, Ганжинское. Победоносное русское воинство, не встречая сопротивления, пересекло Куру, прошло Муганскую степь, и, подобно лавине, появилось в самом Гиляне, у подножия персидских гор. Казалось, сам Ага-Магомед-Хан, «лев львов», должен был выйти против Зубова – и кто знает, чем бы окончилась та встреча двух миров…
Но история – капризна. 6 ноября 1796 года императрица умерла. И с её кончиной всё изменилось. Воцарился Павел Петрович – человек иной воли, иного ума. Он отверг все порядки материнского царствования. И первой своей государственной мерой повелел: прекратить персидский поход. По личной нелюбви к роду Зубовых, он отозвал Валериана, предал его опале, и, будто велением рока, приказал армиям немедленно покинуть завоёванные земли и вернуться в прежние границы.
Так рухнул великий замысел. И узнав о поспешном отступлении русских, Ага-Магомед-Хан ободрился. Он вновь собирался в поход – на Грузию, на Тифлис. И снова земля вздрогнула от шагов его сарбазов.
Но не всегда меч шаха достигает сердца врага.
В одну из ночей Рамадана, когда хан покоился в шатре, усталый и удовлетворённый, его ждали двое слуг – те самые, чью казнь он отсрочил до утра из почтения к святому посту. И, как часто бывает, милость оказалась губительной. Когда сон овладел телом тирана, слуги вошли и, не проронив ни слова, вонзили кинжалы в его тело. Так окончил жизнь Ага-Магомед-Хан – в собственной постели, от руки собственных людей.
Смерть тирана породила смятение. Армия, лишённая предводителя, обратилась в бегство. Поход на Тифлис был отменён. И над развалинами некогда сожжённого города забрезжил свет. Грузия была спасена.
А на заре, под седыми стенами Телавского монастыря, старый царь Ираклий, склонив голову, долго молился – о душе врага, о судьбе Отечества, и о том, чтобы Господь даровал грузинскому народу мир хотя бы на одно поколение…
Князь медленно поднялся. Склонившись над подсвечником, зажёг свечи в высоких золочёных светильниках, отливавших мутным блеском в сумерках зала. Затем, тяжело ступая в чёрных, чуть поскрипывающих сапогах, подошёл к камину. Над мраморной его аркой висел портрет отца – грозного и величавого Гарсевана Чавчавадзе, изображённого в генеральском мундире, при орденах и знаках отличия, коими жаловали его монаршие руки в награду за верноподданническую преданность.
Князь привычно взял железную кочергу, по-хозяйски разворошил угли, пригасшие в золе, и бережно подбросил пару сухих поленьев. Пламя тотчас взметнулось, зашипело, затрещало – с живой жадностью пожирая дерево. Отблеск огня заиграл на стенах, вспыхнул на лакированной мебели, бросил колеблющиеся, почти живые тени на портрет отца. В этом неестественном свете лицо Гарсевана потемнело, черты его словно сжались в немом укоре, а глаза, освещённые косым пламенем, казались глядящими прямо в душу сына.
Князь отвёл взгляд. Мысли его поневоле вернулись к прошлому.
Да, – думал он с горечью, – участь отца его, Гарсевана, всегда оставалась щекотливою и трагично двойственной. Он знал: Россия, приласкав Грузию, не пощадит в ней престола её царей – спишет их на свитки истории. Но иного выхода не было. Отец ясно видел: без великодержавной опоры гибель неминуема – и от турка, и от перса, и от внутренних раздоров. Выбрав меньшее из зол, он вверил страну покровительству Екатерины – и остался верен Ираклию до последнего издыхания. Часто повторял: – Малому народу в одиночку не выжить. Нужен ему сильный союзник, дабы, укрывшись под щитом великой державы, он мог сберечь своё «я», свою душу…
Так и умер он в Петербурге – чужой столице, на чужбине, где небо низко и воздух тяготит грудь. И он, сын его, сам возглавил траурную процессию, чтобы проводить тело отца в Александро-Невскую лавру, в родовой склеп, под тяжёлую гранитную плиту вечного молчания.
– Может, прав был отец… а может, и нет… кто скажет? – пробормотал князь. – Что было бы с нашим отечеством, окажись оно провинцией Турции или Персии?.. Даже в такой день, когда жду наследника, спрашиваю себя: когда же я был прав? Тогда ли, когда сражался рядом с царевичами, свергнутыми и униженными, против русского государя? Или тогда, когда, уже в строю имперской армии, подавлял восстание кахетинцев, своих соотечественников? За то восстание мне был вручен орден Святого Владимира… но ведь не даром, нет – кровью платил я, кровью братской…
Он замолчал, тяжело опустившись в кресло.
– Выходит, два Чавчавадзе борются во мне, как в чаше, наполненной разнородными винами… – выдохнул он глухо. – Не знаю. Не знаю… Одно лишь скажу с уверенностью: и тогда, и потом – я был искренен. Верил. И шёл за правдой, как понимал её.
Из соседней комнаты вдруг донёсся пронзительный, почти животный вскрик – такой, что Александр, словно поражённый током, вскочил на ноги. И тут же, следом за криком – другой, совсем иной: негромкий, прерывистый и живой. Первый крик ребёнка, смутный и решительный возглас новой жизни, раздавшийся в тускло освещённом доме.
– Слава Богу… – прошептал князь и, обессилев от тревоги, подошёл к окну.
Снаружи всё стихло. Ветер улёгся, как взбешённый зверь, насытившийся буйством. Снег перестал падать. Над Тифлисом небо прояснилось, последний облачный вал растворялся в вышине, а за ним вставал холодный, но чистый свет. Дом казался остановившимся в ожидании.
Послышались быстрые, нетвёрдые шаги, затем – скрип двери. Александр резко обернулся.
– Поздравляю вас, князь, поздравляю с новорождённою! – проговорила повивальная бабка, вбежавшая в комнату, с лицом, сиявшим от облегчения и радости.
– Как? Девочка? – переспросил он глухо, словно ожидал иного.
– Девочка, князь… Маленькая, розовая, с тонкими ноготочками… Красавица! Точь-в-точь мать. Слава Богу, здорова. Дай ей Господь счастья…
Но на лице князя скользнула тень. Брови его сдвинулись, взгляд помрачнел. Он сдержал досаду – ту самую, что подчас приходит не от злобы, но от неосуществившегося ожидания. И, будто ища спасения от собственных мыслей, решительно направился в спальню.
В комнате было тихо. У изголовья – бледная, измученная Саломэ, но в глазах её уже блестело другое – тихое, материнское счастье. А возле неё, на подушке, аккуратно запелёнутая в белоснежный свивальник, дремала новорождённая. Её крохотное лицо казалось не земным – почти прозрачным, с едва намеченными чертами, как у спящей феи.
Князь опустился на колени у ложа жены, приник к её руке и долго держал её в ладони, не находя слов. Потом осторожно взял младенца на руки. Он смотрел на дитя пристально, как смотрит воин на знамя, впервые вручённое ему перед боем.
В это мгновение в комнату неслышно проскользнула старшая дочь, Нина. Она подошла, как во сне, и, ничего не сказав, тихо прижалась к груди матери, закрыв глаза. Саломэ обняла её обеими руками – дрожащими, утомлёнными, но полными бесконечной нежности.
За окнами вновь выплыл из-за облаков бледный месяц – тонкий, как бритва, серп, повисший в серебристом небе. Последняя звезда, будто задержавшаяся для прощания, затрепетала и исчезла. За горами уже разгоралась аловатая полоска зари, и ветер, став почти ласковым, прошуршал по крышам, касаясь мокрой листвы и тёмных кустов, словно утешая их ночные страхи.
Перед самым рассветом дом Чавчавадзе затих. Всё живое в нём заснуло – и мать, и дети, и даже собаки внизу, у порога. Один лишь князь, приученный к воинской выправке, поднялся с первым светом. Он вошёл в кабинет, открыл старый фамильный молитвенник и, помедлив, начертал имя: Екатерина. Так нарёк он дочь – в знак глубокой почтительности к своей крестной – великой государыне Екатерине Второй, чьё имя и судьба были для него сродни обету.
Глава 3
Семья Александра Гарсевановича Чавчавадзе была в Тифлисе в уважении столь глубоком, что ни один порядочный грузин не проходил мимо их дома без теплоты в сердце, как не проходят мимо родного очага. А всякий русский человек – занесённый ли сюда службой, сосланный ли судьбою, или, напротив, стремящийся к этим горам за вдохновением – в стенах дома Чавчавадзе, как по мановению чуда, вновь обретал дыхание родины.
Пока строился их собственный, просторный дом – с колоннами и балконами, с видом на обрывистые склоны и долину Куры, – князь с семейством своим: супругой Саломэ, детьми, старой матерью Мариам – снимали небольшой каменный флигель в глубине сада у вдовы Прасковьи Николаевны Ахвердовой.
Дом Ахвердовой, увитый плющом и наполовину скрытый тенью фруктовых деревьев, стоял под горой, неподалёку от Сололакского ручья, чьё журчание напоминало шёпот младенца. Вокруг – тенистый сад, в котором росли старинная яблоня, величественная груша, пунцовый гранат, смолистая слива и сочный виноград. Ветви деревьев склонялись друг к другу, будто советуясь, и в их задумчивом шелесте слышалась какая-то древняя восточная сказка. А вдали, за извилистой лентой Куры, тонкой серебряной трелью заливался соловей – певец без отечества, но с душой, схожей с душой этого города.
То было благословенное время. Время, когда рождался новый Тифлис – город, будто сложенный из разноцветных стёкол, обточенных морем и временем, склеенных тончайшей вязью случайностей и судеб. Не было в нём беспорядка, как могло бы показаться, – напротив, во всем чувствовалась неуловимая, живая гармония: стройное сосуществование несхожих, а порой и враждебных начал.
Персидское и армянское, грузинское и русское, тюркское и курдское, греческое и еврейское, французское и немецкое, казачество и кавказская вольница – всё это сливалось в ослепительный узор Тифлиса, в его пышную красоту, где соседствовали нищета и роскошь, бесхитростность и притворство, произвол и правосудие.
Вслед за купцами ступила сюда европейская мода, европейская одежда, светские манеры и приёмы, фортепиано и разговоры – всё это стремительно вошло в дома и судьбы. Восточные инструменты умолкли, и вместо шумных карачохельских кутежей пришли бальные залы и мазурки. На лице города проступили белила и румяна – словно он, этот древний Тифлис, сам пожелал молодиться перед новой эпохой.
Но, как всегда бывает в пору перемен, мода опередила смысл. За внешней роскошью и новизной не все успевали уловить дух перемен. Так разгорелся спор – настойчивый, иногда беспощадный – между стариной и новизной, Востоком и Западом. Между теми, кто хотел сохранить родовое древо нетронутым, и теми, кто стремился пересадить его в чужую землю, под иное небо.
Прасковье Николаевне Ахвердовой, в девичестве Арсеньевой, минуло сорок пять лет. Родом из Петербурга, она получила там блестящее образование – с гувернантками и наставницами, с музыкой, языками и Шампионским садом. Но судьба привела её в эти южные края, и, несмотря на сдержанность нрава, Прасковья Николаевна решилась на то, что многим показалось бы странным и неприличным: в тридцать два года, уже не в поре первой юности, она вышла замуж за армянина, генерала Ахвердова – вдовца, широкоплечего, с орденами и двумя малолетними детьми.
На неё посматривали с удивлением – кто-то снисходительно, кто-то с тревогой, но спустя годы стало ясно: брак оказался счастливым и достойным. Вскоре у неё родилась собственная дочь, и жизнь потекла в заботах и хлопотах, не лишённых гармонии. Через пять лет после свадьбы генерал скончался, оставив вдове и детей, и дом, и состояние. Прасковья Николаевна, не склонная к жалобам, взяла в свои руки управление имением, воспитание детей, и, по общему мнению, управлялась с этим лучше любого мужчины.
Петербург, разумеется, не забыл её: там остались родня, друзья, гимназические подруги и танцоры минувших балов. И всякий петербуржец, занесённый в Тифлис – по службе ли, по ссылке или в поисках приключений, – первым делом спешил к ней. А в её доме и вправду принимали всех радушно, но непременно с одним условием: чтобы гость умел хотя бы сносно говорить по-французски.
Вот скромный, вечно неловкий Кюхельбекер, постукивающий в калитку с видом заговорщика, – старинный друг, с которым у Прасковьи Николаевны были особенно тёплые отношения; вот сам Грибоедов – то молчит, то вдруг садится за фортепиано и играет часами. То приезжие офицеры, знойные, шумные, жаждущие не только хлеба и соли, но и просвещённой беседы, – и всем хватало места, и всем находилось дело.
Они разглядывали восточную резьбу на дверях, касались ковров, ещё сохранивших мягкость былого богатства, и с жадностью перебирали книги в старинных шкафах: Саади, Гафиз, Шекспир, Гёте, новые английские журналы, газеты с гравюрами. Самой хозяйке принадлежала вся эта гармония – с её наблюдательностью, живым умом, образованностью, обаянием и редким талантом поддерживать разговор – с кем угодно, о чём угодно.
Но более всего в доме Ахвердовой было детей. Дом звенел от их голосов. Кроме собственной дочери, под её попечением находились племянницы покойного мужа – Анна и Варенька Туманова, дальняя родственница. А ещё – дети Чавчавадзе: Нино, Катя и Давид. Дома Ахвердовой и Чавчавадзе, по существу, давно слились в один – как и семьи. Ведь мать генерала Ахвердова была родной сестрой тёщи Александра Гарсевановича.
Княгиня Саломэ, жена Александра, страдала от постоянных недугов, – как она сама выражалась, «рюматизма», – и частенько лежала подолгу в постели. Прасковья Николаевна, не дожидаясь просьб, добровольно взяла на себя почти все материнские заботы. Она была строга, но справедлива, терпелива, но наблюдательна. Успевала давать детям уроки французского, музыки, – кого бранила за нерадение, кого хвалила за усердие, – и при этом умела сохранять ту самую золотую середину: не потакать в важном и не притеснять в пустяках.
Так жила она – в нескончаемой череде обязанностей, бесед, забот, но ни на миг не теряя достоинства. Дом её стоял, как маяк, для всех, кто искал света среди пёстрого многоязычного и многоликого Тифлиса.
Старшей дочери Александра Гарсевановича, Нине, было всего шесть лет, когда Прасковья Николаевна Ахвердова, человек светских правил и строгого вкуса, вплотную занялась её воспитанием. Девочку обучали в духе европейского образца: француженка поправляла произношение, Прасковья Николаевна следила за осанкой, за манерами, за книгами в руках и даже за тем, как Нина благодарит за угощение. Она понимала: девочке предстоит жить в мире, где изящество должно сочетаться с достоинством, доброта – с умом, а речь – с благородным, пусть сдержанным, чувством.
Вслед за Ниной подросли и другие дети Чавчавадзе – неугомонная выдумщица Катя, с глазами, полными света, и курчавый упрямец Давид, чей нрав требовал твёрдой руки. Все они, за исключением младшей Софьи, рождённой уже после возвращения Прасковьи Николаевны в Петербург, воспитывались в этом добром, строгом и просторном доме, где каждый уголок дышал культурой, знанием и терпением.
Но Нина… Ах, Нина занимала в сердце Прасковьи Николаевны место особое. Эта девочка, и в младенчестве отличавшаяся какой-то глубокой чуткостью, чем старше становилась, тем больше пленяла. Не только своей красотой, стройностью, тихой статью, – нет. В её лице, тонком и смуглом, с ясной линией лба и тёмными, бархатными глазами, таилась тень печали, глубокой, непонятной, будто доставшейся ей от прежних времён. И эта печаль придавала её облику особенную нежность. Нина была тиха, скромна, совершенно лишена девичьей надменности, которой порой страдают любимцы судьбы. Она словно несла в себе тайное тепло, которым умела незаметно согреть каждого, кто оказывался рядом.
Из чавчавадзевского флигеля она день за днём переходила по выгнутому деревянному мостику через журчащий ручей – лёгкая, как тень, с тетрадками под мышкой или с корзиночкой для сбора яблок. И всякий раз, ступая в дом Ахвердовой, будто возвращалась в зачарованное детство. Всё здесь было ей знакомо и бесконечно дорого: витражи в коридоре, отбрасывающие на стены цветные блики; белые камины с ровным, мягким блеском кафеля; клетка с соловьём на балконе, что начинал петь, едва солнце касалось резного карниза.
В доме пахло – чем-то неизменно сладким и успокаивающим: спелыми яблоками, сушёной ванилью, и непременно – кофе с корицей, сваренным в турке так, как умела лишь Прасковья Николаевна. В большой гостиной – миниатюры в золочёных рамках, акварели, писанные самой хозяйкой, – с тонким вкусом и ловкой рукой. Меж окон, в узком простенке, тикали высокие часы с розами на эмалевом циферблате; и, пробив очередной час, они играли нежный, немного грустный менуэт Боккерини, словно откуда-то из другого, ускользающего века.
А в глубине гостиной стояло фортепиано – массивное, тёмное, с ножками в виде львиных лап, упирающееся в паркет, будто в землю. Оно было вторым по счёту инструментом такого рода во всём Тифлисе, и на его пюпитре всегда лежали нотные тетради – то рукой Грибоедова переписанные, то Прасковьей Николаевной оставленные.
Этот дом был не просто приютом. Он был очагом – редким, одухотворённым, где всё говорило о том, что в человеке ценится не положение, а просвещённый ум, не громкое имя, а тихая, теплая душа. И в таком доме росла Нина – дитя света и печали, предназначенная судьбой для тропы, где красота, страдание и благородство будут сплетены воедино.
Открытое фортепиано, словно ожившее, безмолвно манило. Его лакированный корпус мягко поблёскивал в утреннем свете, а клавиши – будто приоткрытые губы – ждали прикосновения. Нина не устояла: грациозным движением опустилась на край стула, и, не нажимая на клавиши, проворно скользнула по ним пальцами, как бы отпуская на волю капризных музыкальных духов, дразня и разогревая их.
Дом тем временем наполнялся живым шумом: топот детских ног пробегал этажом выше, чьи-то звонкие голоса сливались в радостный гам, где-то с глухим эхом хлопнули тяжёлые двери, и от лестничного пролёта донёсся знакомый визг – кто-то, видно, снова съехал по отполированным перилам.
В зал, не спеша, вошла Прасковья Николаевна.
Её лицо, ещё сохранявшее правильные черты и ту особую светлую строгость, какую дарует зрелость, смягчилось при виде Нины. Глаза её засветились сдержанной, но глубокой радостью.
– Доброе утро, деточка, – сказала она просто, с тихой теплотой.
Нина вскочила, подошла к ней, на мгновение прижалась к её плечу. В этом движении не было суеты – одно лишь чистое, почти дочернее чувство.
Прасковья Николаевна с лёгкой улыбкой отошла на шаг и внимательно вгляделась в свою воспитанницу. В памяти невольно промелькнули года.
– Что делает время! – подумалось ей с лёгкой грустью. – Взрослая… да ведь уже настоящая барышня!
Светились глаза – большие, тёмные, как миндаль, с глубокой тенью, таившейся под ресницами. Коротко подстриженные волосы – цвета зрелого каштана – вились у висков. Маленький, правильный нос, свежие, уже очерченные губы с лёгкой припухлостью в уголках… Тонкие плечи, ладные руки… И те две родинки – одна на мочке уха, под круглой серёжкой, вторая – во впадинке на груди…
– Подумать только – почти невеста!
И в самом деле, стройная, с лёгкой полнотой юности, но гибкая, грациозная, Нина казалась старше своих шестнадцати лет. В ней была та редкая, врождённая утончённость – не жеманство, не манерность, а природная благородная сдержанность, сквозившая в каждом её движении, в осанке, в медлительной походке, где было что-то от кошки и от королевы.
– Какие прихоти природы! – мелькнуло в мыслях Прасковьи Николаевны. – У одних родителей – да такие разные дети…
Вот Катенька, пылкая, звонкая, в свои двенадцать шумит, как целая орава. Певунья, озорница – разносится её смех по всем этажам, как колокольчики на ветру. Она-то и съехала, наверно, по перилам, не в первый и не в последний раз. Словно ветер врывается она в каждый угол дома.
А Ниночка… кроткая, ясная – будто лунный свет в тиши. С детства любила уединяться: заберётся с ногами в большое отцовское кресло, обложится шёлковыми мутаками, возьмёт томик Вольтера или «Мизантроп» Мольера – и исчезает для всех. А потом бежит к отцу, с нетерпением спрашивает, что он думает о прочитанном, ловит каждое его слово.
Катенька – буря, Нина – тишина. Та разливает – эта собирает. Катя изображает ястреба, гоняющегося за цыплятами, участвует с мальчишками в играх, «берёт в плен шаха», смеётся, кричит, падает, не унимается. А Нина предпочитала шарады, загадывала ребусы, сидела с книгой, и всё – в полголоса, всё – как в полусне.
И всё же характер у неё был: в её молчании – внутреннее ядро. Она умела дать отпор, когда требовалось. Прасковья Николаевна ясно помнила тот случай, когда престарелый князь Гелашвили, с позолоченным тростником и масляной ухмылкой, осмелился отпустить комплимент, слишком откровенный для светской беседы. Нина тогда взглянула на него так… холодно, спокойно, словно глянула сквозь и мимо, как на прозрачную, неприятную тень. Слов не потребовалось: он поперхнулся, отступил, и больше в их дом не показывался.
Глава 4
Нет, теперь он знал это окончательно: не может он, Грибоедов, жить без Кавказа – этого скрещения миров, где пересекаются ветры из прошлого и зарницы будущего, где каждый камень дышит историей, а каждый поток – преданием. Через эти ущелья, сквозь снежные хребты и знойные долины проходило, кажется, всё человечество: от племён, затерянных во мраке допотопных времён, до сынов новых веков. От Ковчега Ноя, что вознёсся на седоглавый Арарат, – до всадников Тамерлана, сокрушавших города.
Здесь прошли этруски и хазары, сарматы, мидийцы, аланы и авары, греки, готы, арабы, татары, римляне, ассирийцы, монголы, турки и персы. Проходили – и оставались: ложились, как слои в мраморе, создавая переливчатую ткань народов, языков, богов и мечей. Сменяя друг друга, властители несли на копьях алчные стремления и невиданные страдания, а с ними – неведомое искусство, замысловатые строения, кровавые законы и блестящую одежду из тысячелетий.
По одну сторону Кавказского хребта – воинственные, жестокие и гордые чеченцы, лезгины, аварцы и прочие, имя которым легион. По другую – великие потомки царицы Тамар и Тиграна Великого. А ещё дальше, подобно двуглавым орлам с подломанными крыльями, простирались утомлённые, но всё ещё страшные Персидская и Османская империи – два дряхлеющих хищника, что в смертной схватке сжимают между собой южные склоны Кавказа, душат, рвут, поглощают всё живое, – и в то же время рассыпают драгоценные жемчужины Востока. Там всё – крайности. Там рабство цветёт так же пышно, как гранат в садах Исфахана. Там человеческая жизнь – прах под ногами сатрапа. Там прекраснейшая дань – девочки и мальчики, уводимые в гаремы, в сераль, в неволю сладострастия. Там, рядом с нищетою горцев Дагестана, сады Шираза, мозаики мечетей Тавриза, а в Тейрани – покрытые изразцами дворцы, где ветер играет с тяжёлым шёлком – роскошь, неизвестная Европе, изнеженность и сладострастие, неведомые даже Риму в эпоху его пышного разложения. И равнодушное восточное изуверство: человек не стоит ровным счётом ничего, обмануть или даже убить неверного, гяура, – значит приблизиться к священным вратам Джаханнама, где тебя ожидают цветущие сады и вечно юные и прекрасные гурии.
С жадностью юноши вчитывался он в книги, запоем изучал хроники, сказания, родословные, надписи и предания, глотал, как воду, стихи Востока. Его влекла эта земля, где ночь тиха, как шелковый плат, а день полон меда и вина и крови.
И вот он – снова в Тифлисе, городе, сложенном из балконов, теней и переулков. Каменные улочки, как ящерицы, вьются кверху; базары, бани, тени платанов, голоса – всё живёт, поёт, взывает к поэту, к мыслителю, к пилигриму. Кто, кроме него, понял бы, раскрыл бы, полюбил бы эти пленительные прелести, эту сказочную обитель, затерянную в горах, как драгоценный перстень в складках старинного кафтана?
Он и сейчас не может забыть того октябрьского утра 1818 года, когда по пути из Моздока в Тифлис впервые въехал в Дарьяльское ущелье, что, как чугунные ворота, заперло Север и Юг. Грозный, молчаливый перевал, где облака висят, как пелена траура, где каждое дерево – будто свеча над гробом былого величия. Он стоял тогда в седле, цепенея от холода и благоговения, и сердце билось в груди с тем трепетом, с каким бьётся оно у влюблённого, впервые узревшего свою избранницу.
То было ущелье, пробитое в граните веков, узкая щель меж каменных исполинов, чьи вершины, хмурясь, утыкались в небеса. Свет с трудом просачивался сквозь тучи, мох и пыль времён, а дно, покрытое вечной тенью, казалось недосягаемо для ока смертного. Вдали – древний храм на Казбеке, где снега, словно ангельские покрывала, розовеют в отблесках лазури и, играя с тучами, мерцают облачною белизной.
Вот он пустился вперёд, одинокий, но исполненный восторга, как паломник, вступающий на землю обетованную. Позади, торопливо, с брызгами грязи и ритмичным постукиванием копыт, шёл казачий отряд – десяток всадников, угрюмо, но верно сопровождавших его. Снег, как полотно, навешен в складки. Шумный Терек гремел внизу, срываясь с утёсов, словно крик необузданной стихии. Дорога, обледенелая и крутая, вилась по косогору. Они пробирались верхом через стремнины, и не было вокруг селений, кроме редких осетинских саклей, прижавшихся к скалам, как гнёзда ласточек. Всё выше и выше – пока не достигли они вершины Крестовой горы, где повстречали персидский караван. Ветры с Востока трепали покрывала мулов, и лошади персов глухо стучали подковами по камню. Грибоедов, выбившийся из сил, падал на землю, но вставал, поражённый величием пути, его суровой, необъятной поэзией.
Далее – спуск, крутой и опасный, в долину Койшаури. Там открылась ему Ананурская крепость, над бурным Арагви, где среди волн скрывались форели, серебряные, как сны. Вокруг – пашни, целые поля всходов, башни и хаты, руины древних замков, черепичные крыши монастырей, и стада коз, овец, буйволов. Арагва, как и Терек, журчит шумно, весело. А дорога? – как сад Эдема: грушевые деревья, дикие яблони, ароматные дыни…
«Да, – шептал он, – всё здесь сотворено для человека. Для радости, для счастья…»
Сам Тифлис стоит на высоких обрывистых каменных берегах, украшенных древней крепостью, старинными церквями и дворцом. Здесь на улицах дрожки скользят по изломанным мостовым, между домами с балкончиками, как клетками для певчих птиц, и глухими стенами, что вдруг раскрываются в распахнутые ворота, ведущие в дворики, полные лестниц, людей и скота.
Грибоедов радовался, будто ребёнок, восточному виду города – ведь как же было бы обидно, проехав три тысячи вёрст, увидеть нечто обыкновенное! Ну, право, что за роскошь этот Тифлис, где за время нескольких своих пребываний прожил он около четырёх лет и всегда находил вдохновение – то были годы его напряжённого творческого горения!
Змейками вьются улочки, как лозы виноградные, подступая к солнцу, с названиями словно из грёзы: Винный ряд, Угольная, Армянский базар, Башмачный, Сионская, Банная, Ватный ряд… Всё кипит и шумит, звенит и поёт. Вдали, со скромного минарета, всхлипывает муэдзин, а купол Сионского собора будто пылает огнём, отражая солнечные лучи, от которых всё окрест словно окутано парчой.
Чуть поодаль – улицы узкие, тёмные, с удушливым запахом кожевенников: таков Татарский мейдан – самая гулкая, самая неистовая часть города. Здесь кричат торговцы, звенят весы, ворочаются верблюды, утомлённые, тяжело навьюченные. Не выпряженные буйволы лежат прямо на земле, жуя сено с той ленивой философией, что присуща Востоку. А рядом – ослики с перемётными сумами, откуда выглядывают глиняные головки кувшинов с мацони, словно из мешка сама жизнь смотрит.
Вот он бродит один среди лавок, что, как диковинные наросты, выпирают из глиняных и каменных жилищ, наполовину вросших в землю, с навесами из досок и холста, кривыми, точно приросшими к телу улицы. Торговые ряды тут тесно сбились друг к другу, так что прохожим остаётся лишь боком тесниться вдоль проезжей части, уступая путь навьюченным мулам, неторопливым ослам, да телегам с громоздкими мешками.
Сюда стекается самый разнообразный люд – греки, армяне, татары, грузины, персы, – и звуки их речей, звон меди, глухой гул голосов сливаются в один восточный гомон. Над всем этим – лязг сотен весов, уравновешенных на коромыслах с блестящими чашами, висящими на тонких цепочках, – и вся торговля кажется не делом, а неким шумным, нестройным ритуалом, древним, как и сам этот город.
– «Что же ты ищешь здесь, странник?» – подумал он, остановившись у полутёмной лавки, где висели сбруи, кинжалы, шерстяные кушаки. – «Сувенир для души? Напоминание о здешнем буйстве красок, запахов, лиц? Или попросту оправдание для самого себя – не зря, мол, прошёлся, не зря заглянул, оставил здесь пару серебряных монет и унес частицу Востока в кармане…»
Он подошёл ближе, его взгляд упал на серебряную трубку с выгравированным замысловатым узором. Вещь была не новая, но ухоженная: древесина мундштука потемнела от времени и рук, а серебро сияло, как зеркало, лишь с налётом благородной патины.
– Интересная вещица, – молвил он.
Старик-лавочник, сухощавый, с белёсой бородой и глазами как миндаль, поднял голову. Он медленно, с достоинством, снял трубку с крючка.
– Старая работа. Серебро по Шушинской технике, – ответил он по-русски с тягучим акцентом, словно разворачивая товар не только руками, но и голосом. – Служила много лет одному доброму карачохели. Умер – теперь трубка ждёт нового хозяина.
– И чего же она стоит? – спросил он, невольно улыбнувшись: старик торговал не вещами, а судьбами.
– Для тебя, ага́, – произнёс старик, приметив в нём приезжего, но сдержанного, не из тех, кто торгуется ради крика, – три рубля серебром. Возьми, почувствуй вес – это не подделка.
Грибоедов взял трубку: она была тяжела для своей величины, тёплая, будто хранила тепло ладони прежнего владельца.
«Сколько у этих людей вкуса и достоинства в обыденном предмете… Какой у нас русский чиновник станет курить из такой?»
– Беру, – коротко сказал он и вынул из кармана мешочек с мелочью. – И кисет к ней подбери.
Старик кивнул, снял с полки кисет, вышитый золотом на бордовой парче, с завязками из шёлка. Он был туго набит свежим табаком, который тут же пробрался в ноздри густым, терпким ароматом.
Рядом подмастерье – мальчик лет десяти, с огромными чёрными глазами и курчавой шапкой волос – заглядывал в глаза покупателю, ловя каждый жест. Ему не нужно было слов: он уже вынес из лавки маленькую коробочку с древесной золой и стал молча начищать серебро уголком старой ткани.
Он попрощался с лёгким поклоном, трубка теперь лежала у него за поясом, кисет – в кармане, а на губах осталась странная улыбка: грусть и благодарность вперемешку. И, уходя вглубь рыночных рядов, он всё ещё чувствовал в пальцах тяжесть серебра – не как товара, но как свидетельства того, что живое искусство всё ещё дышит, существует, даже в этом вихре времени.
Прямо на улице портные, ловкие и многословные, будто базарные глашатаи, выискивают себе новых клиентов, едва завидят прохожего в мятом камзоле или поношенной сорочке. Один из них, широкоплечий, с угольно-чёрными усами и серебряным напёрстком на большом пальце, подскочил к нему из-за стойки, за которой только что усердно гладил что-то своим угольным утюгом – чад от него тянулся к небу, как от дымящегося вулкана.
– Э-эй, постой! – воскликнул портной, – снимай свою старую сорочку! И, не жалей, бросай в духан – пусть ею полы трут! Такой уважаемый человек, как ты должен выглядеть достойно.
Он уже что-то вытаскивал из вороха складок – ослепительно белую, крахмальную сорочку с широкой отделкой по вороту.
– Вот, батоно, бери эту, примеряй! С левого плеча шьём, по-тифлисски, чтоб сидела, как влитая. Не жмёт же нигде? А? Ну, тогда носи на здоровье, генацвале!
Грибоедов, улыбнувшись, приподнял бровь.
– Сколько возьмёшь? – спросил он, пока портной завязывал кисейный мешочек с серебряными пуговицами.
– Для такого красавца, как ты? Пара шаури! Да и то, скажу жене, что отдал за даром. Возьми – носи с радостью! Как сносишь – приходи ещё! И друзей приводи! Все довольны будут!
Он расплатился и, выйдя на улицу, почувствовал, как свежая сорочка приятно охладила плечи, точно влажное полотенце в полуденный зной.
Дальше – толпа. В тесном кругу пляшет медведь, гремя цепью, кланяясь в такт дудочке, а неподалёку – человек в тюрбане, перс, обвивший себя змеёй, шепчет ей, шевеля губами. Та извивается по его плечам, как чёрный ожерелье, и, кажется, внимает.
Вот и цирюльник, с ухватками актёра и ловкостью гильотинёра.
– Князь джан, зарос, как кочевник! – восклицает он, хватая Грибоедова за подбородок. – Постричь, побрить, кровь пустить? Усталость сниму, лицо освежу, от дурной памяти избавлю!
Он уже откупорил банку, где плавали пиявки, шевеля толстыми телами в мутной воде.
– Сегодня не до пиявок, – отшутился Грибоедов, – пожалуй, только виски подравняй и пыль с подбородка сними.
Цирюльник орудует бритвой, как музыкант смычком, и вот – зеркало, улыбка, поклоны. Глядь, уже новые клиенты наготове, один другого важнее.
Пахнет хлебом. Там, за поворотом, шоти, длинные, золотистые, с хрустящей коркой, извлекаются из печей-тонэ длинными железными щипцами. Пекари поют, тянут мелодии в унисон, словно печь – их инструмент, а хлеб – симфония.
А за хлебом – шашлыки. Мангальщик, краснощёкий, вспотевший, как сражающийся на дуэли, вращает шампуры. Мясо – обжигающее, румяное, с соком, что капает и шипит на углях. Дым душист, как благовония в храме.
– Попробуй, дорогой! – говорит повар, подмигивая. – Мясо от быка, что рос на травах, под горным солнцем. Да с баклажаном, да с зеленью – никакой вельможа не устоит!
– Уговорил, – отвечает Грибоедов и садится на низенький табурет у складного столика. Ему подают шампур и глиняную чашку с кахетинским вином, тёплым, терпким, красным, как гранатовый сок.
«Вот оно, настоящее. Без официантов, без петербургских изысков – зато с душой. Как и всё здесь. Всё в Тифлисе пахнет жизнью – пыльной, влажной, душистой, виною, потом, жаром, – но настоящей».
Он пил, ел, жевал с хрустом корку шоти, а потом вытер губы платком, расплатился, не торгуясь, и, в приподнятом настроении, пошёл дальше.
«Только бы не забыть этот дым, этот голос, этот хлеб. Только бы унести с собой!» думал он.
А впереди, как и положено в Тифлисе, – новое чудо, новый собеседник, новая история.
Винные погреба, духаны, харчевни, чайханы – «утром – чай, вечером – чай, душка моя, не серчай!» – здесь они друг на друге, друг над другом, друг в друге, как матрёшки. Из открытых окон тянет то терпким ароматом кахетинского вина – густого, как вечерняя тень, – то молодым вином, словно роса в виноградной чаше. Белое, чёрное, кислое, сладкое, сухое – настроение можно выбирать, как сорт, по погоде или по сердцу. А к нему – то чача, что обжигает гортань и гонит кровь по жилам; то квас, прохладный, с пузырьками; то чай, тянущийся, как восточная беседа; то лимонад, с пузырьками счастья. И всё – чтоб запить, да и просто порадоваться.
«Но остерегись, друг мой: прежде чем спорить с торговцем или распускать язык, сунь руку в карман – слышишь ли ещё звон шаури? И абази – целы ли, не испарились, как вечерний зной?»
Жизнь тут, в отличие от ленивой Европы, не ждёт солнца в зените. Она просыпается вместе с первыми петухами, ещё в полумраке, и уже кипит, бурлит, звенит, гремит.
Стук молотков – это кузнец на углу кует подкову, звенит железо, искры летят. Где-то хрипит шарманка, криво выводя «Сулико». Дудук плачет, зурна смеётся, бродячий музыкант бренчит на сазе и напевает в полголоса: – Ай, Тифлис, моя тоска…
С базарной площади разносятся крики:
– Картофель молодой, как щека невесты! – Груши! Груши! Груши, сладкие, как сердце моей тёщи!
Кинто – эти неугомонные, в шароварах, похожих на паруса, – бегут, балансируя на голове круглые подносы с айвой, инжиром и виноградом. Один, не удержав равновесия, вскрикивает, поднос валится, фрукты катятся, и толпа расступается с криками и смехом.
«Что за город, что за музыка! Всё одновременно: дудка и петух, шарманка и кашель, спор и песня. Даже ругань тут – с мелодией. Даже злоба – с приправой!»
Вот идут персы – в чалмах, с рыжими бородами, будто огонь на щеках. У одного – табак в бумажных свёртках. У другого – пудрёные розы, пахучие, как стихи. Лезгины в бурках, как тени гор, несут в мешках орехи и сушёные ягоды. Курды спорят с татарами, торгуясь за цену фиников. Турки жмут друг другу руки, переговариваются с прищуром – не понять, торгуют или судачат.
– Пахлава, как у мамы! Сладкая, как первый поцелуй! – кричит юнец у лотка, и Грибоедов, не удержавшись, берёт кусочек, откусывает – липко, медово, как сам этот город.
А впереди – ещё одна чайхана, с низкими подушками, игрой нард, шёпотом стариков, бесконечным кипением самовара…
Весь этот ярмарочный, гудящий и пахнущий вином квартал, словно волна, доходит до границы – и внезапно стихает. Шум оседает пылью у подошв Штабной площади, вымощенной ровным камнем. Здесь уже и не кричат, не суетятся, не спорят – здесь ходят. Медленно, выверенно. Под каблуком – эхо. Над головой – строгая синева.
Сразу за площадью – здание Штаба командования войск Кавказского военного округа, чёткое, симметричное, будто сошедшее с линейки чертёжника. Дальше – Духовное училище, с резными наличниками, звонкими мальчишескими голосами и запахом чернил и ладана. А за ними, как вершина пирамиды – дворец главноуправляющего на Кавказе, точно вставленный в пространство, как драгоценный камень в оправу. Здесь, на широком кресле из слоновой кости, с резной спинкой, обтянутой алым бархатом с бахромой золотой, восседает сам Ермолов – лев Кавказа, холодный, усатый. Его глаза – не глядят, а оценивают. И под этим взглядом горы смиряются, границы двигаются, судьбы ломаются, как прутики.
«А кто ты, пёстрый Тифлис? – мог бы спросить он. – Рынок или столица? Восток или Европа? Где твоя душа, за базарной лавкой или за французским камином?»
Он, Ермолов, повелел – и вот уже на левом берегу Куры, там, где когда-то было поле, появилась немецкая колония. Чистые дома, крыши в черепице, огороды, где в изобилии молоко, масло, картофель. И пиво. Всё аккуратно, как на гравюре. Колонисты поставляют продовольствие с такой точностью, словно будто маршируют.
А в это время город растёт, поднимается вверх – на Мтацминда, и стекает вниз – к Куре, как водопад улиц. Появляются здания с колоннами, карнизами, лепниной, аттиками – ренессанс и ампир, словно приехали из Парижа в чемодане. Уже не глинобит, не саманный, а камень, штукатурка, мрамор.
На проспекте – витрины магазинов, афиши театров, вывески на французском, немецком, русском. Здесь – банк с тремя конторскими окнами и часами, где стрелки не спешат. Здесь – доходные дома, в которых живут портные, чиновники, гувернантки. Здесь же – модники в цилиндрах, дамы в крепдешине и кашемире. Приглядись к прохожему – ты не отличишь его от парижанина: тот же воротничок, та же остроносая трость, те же приподнятые брови.
«Это ли Тифлис? – думаешь. – Или сон в стиле Парижа, с привкусом кахетинского вина?»
Пока в старом городе карачохели запивают тоску вином, закусывая сыром, и слушают в трактире дудук, здесь, за фасадами с лепниной, в гостиной с зеркальной дверью, аристократ в сюртуке потягивает французский коньяк. Шансон звучит едва слышно, и серебряная ложка стучит о фарфор так деликатно, будто извиняется.
«Кавказский Париж» – именно так называют тифлисцы свой город. И если тебе выпало счастье попасть сюда – по воле судьбы, по службе или по любви – знай: ты уже не уйдёшь прежним. Он в тебе останется. В голосе. В походке. В снах.
Прибавляя шагу, Грибоедов спешил сейчас к своему другу – князю Александру Чавчавадзе. Тот хоть и был лет на девять его старше, разница в возрасте не мешала, а скорее помогала: с ровесниками Грибоедов чувствовал себя чужим – уж слишком холоден был к пустой болтовне, слишком взыскателен к уму и душе. А с Чавчавадзе – дело другое: поэт, воин, философ и эстет, он понимал его с полуслова.
Их знакомство началось буднично, с фортепьяно. Грибоедов тогда метался по Тифлису в поисках приличного инструмента – свой ещё не прибыл. Кто-то порекомендовал гостеприимный дом в Сололаки. И вот – открылись двери, в полутени цветущих персидских роз он услышал ласковый голос Прасковьи Ахвердовой, и на рояле, в прохладе гостиной, положенной коврами, впервые за долгие месяцы сыграл не ради публики, а – для себя.
«Вот дом», – подумал он тогда. – «Здесь не спрашивают, где твоя должность и чин, здесь слушают музыку. И даже – молчат правильно.»
Он возвращался сюда снова и снова – не только ради инструмента. Здесь ему не напоминали о его прошлом дуэлянта и странного чиновника, здесь видели в нём поэта и музыканта. В нём угадывали драматурга, которому было тесно в тесных комнатах Петербурга. Здесь – в Тифлисе – он впервые почувствовал, что его понимают.
Лето 1826 года стояло знойное, как пар из медного таза. Днём город замирал: ставни закрывались, люди отступали в тень, на балконы, оплетённые виноградом, где в зелёной глуши звенели только мухи да изредка капала вода. Налитые солнцем, ещё не вызревшие гроздья напоминали: осень идёт, тиха и торжественна, как грузинская песнь на закате.
Грибоедов шёл улицей, слегка щурясь, задумавшись о письмах, которые ещё не написал, о нотах, что звучали в голове, но не ложились на бумагу. И тут вдруг, вынырнув как из воздуха, к нему приблизился невысокий человек с выразительным лицом:
– Гаспадин дарагой! Купи землю! Харошая земля, прямо с Мтацминда!
Грибоедов вздрогнул, очнулся от своих дум. Перед ним стоял кинто – торговец и полугородской философ – рядом послушно топтался ослик, нагруженный мешками земли, а сверху, на дощечке, лежали букеты цветов.
Кинто с живым интересом разглядывал иноземца: высокий, в чёрном сюртуке, цилиндр – блестит, как ночное зеркало. Белоснежный воротничок туго перехвачен шёлковым галстуком. А лицо – строгое, как у судьи. Тонкие очки, карие глаза, нахмуренный лоб, складка меж бровей, упрямый подбородок.
– Земля, дарагой! Не хочешь землю? – А для чего мне земля? – рассеянно спросил Грибоедов, продолжая рассматривать ослика.
Кинто, не растерявшись, закатил глаза:
– Ва! – Ва! Как это для чего? Для цветов! Для души! Для жизни! Вот возьмёшь горсть, посадишь розу, и будет тебе счастье, как у шаха.
– Нет, землю я куплю потом, когда буду уезжать, – сказал Грибоедов тихо. – Чтобы всегда носить с собой Грузию – в кармане…
Он указал на пурпурно-красные розы.
– А пока – отсчитай-ка мне эти розы. Сколько там?
Кинто вздохнул трагически:
– Э-э-э… что розы… розы все покупают. А вот земля… – бурчал себе под нос кинто, с изысканностью рыцаря отбирая цветы. А ослик жевал верёвку, устав от философии.
И вот он уже в Сололаках, у знакомого дома. Двери отворились без промедления. Грибоедов бросил швейцару цилиндр и перчатки и шагнул в просторную приёмную, обставленную с благородной простотой и вкусом. Здесь даже в знойный полдень сохранялась приятная прохлада: тяжёлые шёлковые портьеры смягчали солнечный свет, ковры глушили шаги, а на стенах, в резных багетах, висели литографии с видами Парижа и Дрездена.
Хозяин этого дома – обаятельный князь Александр Гарсеванович Чавчавадзе – неизменно восхищал его своей натурой: в нём Грибоедов почитал не только друга, но и редкое явление эпохи. Раненный под Лейпцигом, адъютант Барклая-де-Толли, он вступил с победоносной армией в Париж и там удостоен был золотой сабли – «За храбрость». Тридцатидвухлетним полковником он вернулся в родную Грузию, где вскоре возглавил Нижегородский драгунский полк, квартировавшийся неподалёку от Цинандала, в Караагаче. А в недавнюю войну с Персией, показав себя блистательным военачальником, был произведён в генералы и назначен губернатором Армянской области.
Но более всего пленяла Грибоедова в нём глубина и широта ума, светлая мысль и любовь к знанию. Князь был страстным библиофилом: редкие тома, привезённые им из Парижа, бережно хранились в застеклённых шкафах. Он знал наизусть Саади и Гафиза, свободно владел немецким и персидским, перевёл на грузинский язык элегии Пушкина, «Федру» Расина, «Альзиру» Вольтера, и грезил мечтою – открыть русскому читателю «Витязя в тигровой шкуре». Стихи собственного сочинения он никому не показывал, но Грузия их пела – без ведома, кто был автор: князь не печатал под своим именем ни строчки.
В радушный дом Чавчавадзе людей тянуло как магнитом. Однажды зашедший сюда человек на годы прикипал душой, становился своим. А когда сиятельный князь бывал в Тифлисе, дня не проходило, чтобы за обеденным столом не сидели двадцать-тридцать «случайно забредших», всякого разбора. Лейб-гусары, чиновники, музыканты, жители гор, а также русских – ссыльных и нессыльных, которым к этому очагу тянуло потому, что возле него легко дышалось, было уютно, велись честные разговоры и высказывались независимые суждения…
– Ну как, Сандро, что там, в Петербурге?.. – тревожно спросил хозяин. Он называл его на грузинский манер «Сандро».
В Тифлисе только недавно стало известно о судьбе декабристов, и Чавчавадзе был очень огорчен.
– А я надеялся, любезный мой друг… Так трудно дышится…
За стёклами очков затуманились умные глаза.
– Я разделяю их мысли, идеи, но…
– Да! Ты всегда скептически относился к их затее…
– Пойми, друг мой Александр, сто человек прапорщиков не могут изменить весь государственный быт России… Народ не принимал участия в их деле, народ для них как будто и не существовал… А без народа такие дела не творятся…
– А сам-то как, Сандро? Всё в порядке? – тревожно спросил хозяин.
– Чудом, мой дорогой друг, чудом. И если бы не проконсул Кавказа…
– Ермолов?
– Он самый! Предупредил меня вовремя, рискуя собственной головой. А то и я хлебнул бы Сибири… Да ещё, надобно сказать, и кузина моя, Елизавета Алексеевна, изрядно подсуетилась; благодаря заступничеству её мужа, графа Паскевича – не повесили и не сослали на каторгу…
Он замолк. На губах его блуждала неясная улыбка, но глаза сверкали напряжённым огнём. Мысли его уносились в северную столицу, где, в заиндевелых парадных залах, звучали иные слова, иные клятвы. В памяти всплывали лица, события, разговоры… разговоры…
Глава 5
В Петербурге, в те метущиеся, нервные годы, когда мысли об устаревшем порядке грызли души молодых, несломленных, – Грибоедов сблизился с людьми, чьи имена нынче произносились шёпотом. Бестужев и Рылеев… Связь между ними была не только дружеской, но – исподволь – клятвенной, хоть и негласной. Все трое когда-то начинали с кавалерии, не снискав орденов, зато прослыв храбрыми дуэлянтами, и ещё – людьми слова. Их объединяла тяга к литературе, страсть к спору, а главное – непереносимая тоска по свободе. Свободе, которую в России топтали, как весеннюю траву, сапогами страха, указов и плетей.
Но в решительности, в готовности к действию, к жертве, он отставал от них. Они уже жили в какой-то неведомой ему глубине заговорщической уверенности. Он всё ещё был снаружи – сторонний свидетель, притянутый тяжестью мысли, но не втянутый в тайные узлы.
Они – и ещё несколько лиц, с разной степенью убеждённости и отваги: Одоевский, Каховский, князь Оболенский… Даже шалопай Лев Пушкин, младший брат Александра, появлялся порой на сходках, привозя вести об опальном поэте, об его деревенском уединении в Михайловском, где он, будто изгнанник из собственной судьбы, сочинял главы «Онегина».
А весной, как тень прошлого, в Петербург явился Кюхельбекер – без места, без надежды, но с тем же беспокойным огнём в зрачках. Всё это собрание, пёстрое и пылкое, собиралось у Рылеева на Васильевском, у Оболенского в казармах, но чаще – у Одоевского, чья квартира была просторна, и где сам воздух будто дрожал от обсуждений, предчувствий и печатных листовок.
Грибоедов вошёл в этот круг, как человек входит в реку, сначала по колено, а потом уже плывёт. Он слушал, смотрел, говорил – и, не замечая, стал своим. Он не был слепым последователем, но уже и не оставался равнодушным. Он чувствовал, как сама история подступает к ним, ещё не обнажив своего лезвия.
Иногда в словах Рылеева пробегал ток, от которого мурашки поднимались на коже. Как-то раз он услышал, как тот, склонившись к Бестужеву, произнёс с тихой яростью:
– Мы должны действовать. Медлить – значит предать. Я уезжаю на юг. Собирать голоса, сердца, штыки…
– Немедленно. В свои части. В армию. Узнавать настроение. Войско и народ… И – прокламации. Им нужны слова. Им нужны смыслы…
С этого дня в квартире Рылеева двери не закрывались. Там, в тихом доме с облупленной штукатуркой, родился тайный штаб восстания.
И всё же: открывать ли Грибоедову всю глубину замысла? Обсуждали. Спорили. Рылеев склонялся к откровенности – он верил в его ум, в его силу слова. Одоевский и Бестужев возражали. Опасались. Талант его был слишком ценен, чтобы пожертвовать им в случае провала. Он не имел солдат. Но он имел кое-что другое – нечто, что в определённый миг могло оказаться ценнее батальона.
Связи. Люди. Возможности. Столыпин-старший, тот самый, друг Сперанского, мог стать звеном между мыслью и властью. Мордвинов – человек редкой независимости и убеждений. Дмитрий Столыпин – генерал-просветитель. А там, кто знает, может, и сам Сперанский, этот каменный либерал, подал бы руку.
– Если бы Грибоедов смог склонить этих троих… – с надеждой говорил Рылеев. – С ним – дипломатия. С нами – армия.
Слово и сабля. Разум и решимость. Всё сходилось в одной точке, и эта точка – была Россия.
Время ходило кругами под окнами.
Пахло свинцом и типографской краской.
Ещё важнее всех прочих связей казалась им его дружба с Ермоловым – грозным кавказским идолом, косматым, непокорным, подчас резким до неистовства. В самом деле, кто, как не он, мог бы, подняв знамя восстания на дальних хребтах Кавказа, двинуться с отборным войском на Петербург, прокладывая путь не словом, но саблей? Заговорщики в нём видели фигуру почти мифическую – дикаря с манерами вольтерьянца, полководца с речами трибуна, дерзкого крикуна, не боявшегося грубить и министру иностранных дел, и самому государю-императору. Он бросал вызов не только персидским ханам, но и высочайшей канцелярии; он покровительствовал ссыльным, не терпел чинопочитания и слыл за человека решительного и одинокого.
Они шептались о нём при свечах, в тени штофных портьер, за закрытыми ставнями Одоевского, Рылеева или у Оболенского в казарме: «А если Ермолов – если он поднимется? Он ведь пойдёт! С юга! Прямо через Владикавказ на столицу!» Эти разговоры велись за спиной Грибоедова, но он их чувствовал кожей, чутко уловив тот едва ощутимый трепет, когда упоминают имя, слишком близкое к настоящему замыслу.
И вот наконец Рылеев, после долгих колебаний, решился заговорить откровенно.
– Послушай, Александр Сергеевич… – начал он, ступая к окну и отворачиваясь, словно стыдясь своей горячности. – Мы не можем больше ждать. Время уходит. Надо действовать.
Грибоедов молчал.
– Мы не просим тебя поднимать знамя, не просим шпаги… но, может быть, твоё слово, твои связи, твой ум… – Рылеев запнулся. – Нам нужно понять: пойдёт ли Ермолов? Или хотя бы – не станет ли мешать?
– Ермолов? – тихо переспросил Грибоедов. – Вы не знаете его. Он – лавина, да, но лавина, не тронутая с места. Всё, что вы видите – лишь его шум и тяжесть. Он слишком умён, чтобы жертвовать собою понапрасну. И слишком честолюбив, чтобы вторить чужим мечтам. Он не пойдёт. Разве что, если всё уже решится без него.
Рылеев сжал губы.
– А ежели мы всё же решим? Если замысел созреет?
– Тогда, быть может, и он решится. Но только на уже разгоревшемся костре. Не будет он поджигателем.
После этой беседы Грибоедов долго сидел в одиночестве. Письменный стол был завален бумагами, письмами, газетами – ничто не интересовало, всё раздражало. Он чувствовал странное облегчение. Эти люди, эти юные заговорщики, не имели ни военного плана, ни ясной программы. Они говорили о цареубийстве, о Временном правительстве, о Манифесте к русскому народу, как о предисловии к пьесе, чья основная часть ещё не написана.
Он вспоминал Муравьёва – бывшего соученика, вечно с ознобом в голосе, полным высоких понятий. Тот принялся было писать Конституцию, по-английски строгую, но едва женился – и остыл. Рылеев – горяч, но не ясен. Бестужев – умён, но не терпелив. Одоевский – романтик с пороховой душой. Кто же поведёт их?
Грибоедов чувствовал: он сам не способен идти с ними. У него не было солдат, не было конспиративных собраний, он не умел командовать, не хотел проливать кровь. Но и остановить их не мог. Как? Призвать к смирению? К терпению?
Что он скажет Бестужеву, Рылееву, Одоевскому? «Ждите, коли придут лучшие времена»? Но разве не сейчас они? Разве не в эту минуту тьма сгустилась до предела? Или взывать к милосердию перед жестоким законом, взывать, как Чацкий в своем гневном монологе, к тем, кто не слышит?
Нет. Эти слова были бы не только бессильны – они были бы подлы. Они сделали бы его предателем не их дела, но их веры. Он мог уйти в сторону, промолчать, исчезнуть. Но не уговаривать. Не поучать. Они были правы в своём отчаянии – даже если обречены.
И всё же, всё же…
Размышления Грибоедова прервал голос Одоевского, вошедшего без стука:
– Ты знаешь, что Рылеев сегодня сказал? Стихи прочёл вслух – те самые. Помнишь?
И Одоевский процитировал, тихо, словно молитву:
«Известно мне, погибель ждёт Того,
кто первый восстаёт
На утеснителей народа…»
– Он ведь знает, чем всё это кончится… – сказал он.
Грибоедов долго смотрел на него и ничего не ответил.
Задолго до роковых событий, за кружевом светских разговоров и тенью свечного света, друзья Грибоедова поведали ему о том, как Париж – ослепительный, расшатанный бурями революции и вновь приглаженный Бурбонами – встретил их, русских офицеров, с распростёртыми объятиями. Победители Наполеона, юные освободители Европы, они ступили на мостовые столицы мира, как герои греческой трагедии, несущие на себе отблеск славы и мрачную обречённость.
Французские прелестницы – из тех, что танцевали на балах при Директории и пережили Термидор – обольщённые, пленённые, вновь обрели надежду в лице русских. И те, весёлые, пылкие, с сабельной выправкой и разбойничьим блеском в глазах, не отказывались от восхищения, легко окунались в водоворот наслаждений: балы, винные подвалы, мадемуазель в полумраке будуаров, разговоры под музыку Лагарпа и Мейера, дуэли на рассвете в Булонском лесу.
Среди иных забав они, смеясь, наведались и к знаменитой мадемуазель Марии Ленорман – та, что слыла Чёрной Марией и снискала себе славу пророчествами, касавшимися Марата, Сен-Жюста и самого Робеспьера. В её парижском салоне – под сводами, пропитанными ладаном и лживым очарованием оккультного – гостей встречали и зеркала в золочёных рамах, и шар из горного хрусталя, и замысловатые ножи, и платки, и засушенные травы, и чаша с воском, будто бы плывущая между мирами.
Там однажды оказался и Сергей Муравьёв-Апостол – совсем ещё юноша, едва восемнадцатилетний, но уже обагрённый славой боёв и ран. Придя в салон, он с весёлым вызовом в голосе спросил гадалку:
– Ну что ж, мадам, поведайте-ка мне мою судьбу?
Ленорман, поглядев на него исподлобья, развела руками и устало молвила:
– Ничего.
– Хоть слово! Ради забавы! – настаивал Муравьёв.
Тогда она вздохнула и, словно с усилием, произнесла:
– Вас повесят…
Смех его мгновенно стих. Он вскинул голову, рассмеялся сквозь недоумение и ответил:
– Что вы, мадам! Я – дворянин! У нас в России не вешают дворян!
– А для вас, молодой человек, император сделает исключение, – пророчески и печально произнесла она.
История эта с шумом разнеслась по офицерской среде, обсуждалась в клубах, на вечеринках, в курилках и кавалерийских казармах. Но посмеивались больше, чем верили. Шутка, мол, недурна, да и прорицательница, вероятно, перегрелась на ладанах и свечах. А вскоре к ней пошёл Пестель – трезвый, уравновешенный, рассудительный. Вернулся он с весёлым лицом:
– Ну, сумасшедшая эта мадемуазель, боится русских, вот и болтает всякое. Представьте, предсказала мне верёвку и перекладину!
А вот Рылееву не повезло. Когда он протянул гадалке ладонь, та лишь взглянула – и со вздохом оттолкнула её:
– Я не скажу вам ничего!
– Почему? – спросил он, удивлённый.
– Не хочу.
– Я настаиваю! – сказал он, вставая. – Я требую!
Мадам Ленорман сдалась, вздохнула тяжело и выговорила, словно через силу:
– Вы умрёте не своей смертью…
– На войне? В дуэли? – уточнил поэт, всматриваясь в её потемневшие глаза.
– Хуже. Гораздо хуже, – отвечала она, отводя взгляд. – И не спрашивайте более. С меня довольно…
Смеялись, разумеется, и над этим. Кто всерьёз станет слушать колоду засаленных карт и старушку с причёской времён Тюильри? Сколько было предсказаний с младенчества, а вот – живы, полны сил, танцуют, пишут стихи, ведут диспуты и дуэли. Хотя иногда, в тишине ночи, когда сердце начинало стучать громче и у окна вилась французская гарь, – кто-то один, а может, каждый из них, вспоминал вдруг сказанное, и будто бы холодок проходил по коже.
Да, то было племя, которое не страшилось умирать. Но что страшнее: смерть – или пустая, ничем не наполненная жизнь?
А он, Грибоедов, шёл навстречу судьбе – не с упоением, как юноша, бросающийся в пламя славы, но с открытыми глазами и надеждой, ослабевшей, как иссякающий огонь в лампе. Ему оставалось одно – сделать выбор: стать плечом к плечу с друзьями или, отринув всё, что с ними связывало, уйти в одиночество, подобное монашескому. Но первое, что он сделал, – отказался от формального членства в тайном Обществе, без колебаний, с холодной решимостью. Он знал цену подчинению – ещё с тех лет, как сбросил ярмо матери, властной, деспотичной, не терпящей ни возражений, ни слабости. С тех пор он строил свою жизнь так, чтобы никогда, ни при каких условиях, не стать винтиком в чужом механизме.
Даже в армии он оставался почти вне контроля, подотчётный лишь по форме. Принадлежал – но не подчинялся. Генералу – только на бумаге. Нессельроде и Ермолову – постольку, поскольку позволяла совесть. Инструкции, присылаемые из столицы, он толковал свободно, как художник читает нотную партитуру: изменяя, пропуская, импровизируя. Иногда он вовсе шёл наперекор – сталкивал Турцию с Персией, словно холодный шахматист, выставляющий фигуры на поле, где за каждым движением – кровь. И вся ответственность за исход всегда ложилась на него одного.
Тем более он не собирался становиться пешкой у Рылеева или Оболенского. Он слишком хорошо знал цену человеческому воодушевлению – оно бывает ослепительно, но кратко. Впрочем, отказ подписать какую-либо бумагу был жестом скорее символическим: Рылеев, будучи предусмотрителен, тут же сжигал подобные списки – чтобы в час поражения не выдать ни одного имени.
И всё же – он не мог порвать с ними. Да и не хотел, как бы ни уверял себя в обратном. Эти связи – связи юности, мечты, общего дыхания и книг, – прорастали в нём, как корни в камне. Он пытался их рвать – они обвивали душу ещё крепче. Он упрекал себя, допрашивал, терзал:
– Ты всё ещё с ними?
И сам же себе отвечал:
– Я с ними не по привычке. По совести. Мы росли, как братья, на одних книгах, на одном воздухе. Мы верили в Отчизну не как в землю, а как в путь. Я не могу иначе…
Он был ровесник – и в то же время старик среди них. Не по летам, но по усталости, по трещинам на сердце. Они – пылкие, стремительные, живые. Он – трезвый, как судья. Они горели, вспыхивали, бросались в бой, словно пламя свечи, готовое спалить всё – и себя в том числе. А он будто бы знал: в России за всякой страстью следует цепь. Кандальная или золотая – но цепь.
И всё же они любили его. Именно за это – за ум, холодный среди жара сердец. За взгляд, в котором не было восторга, но было мужество.
Иногда, в редкие часы одиночества, он стоял у окна, глядя в серую даль, в сизые облака, за которыми не было просвета:
– Что это за судьба у нас? – говорил он себе полушёпотом. – Мы родились в громах Бородина, мы росли под марш Суворова, мы учились по книгам Франции… и теперь сидим в канцеляриях, как писцы на чужом пергаменте, переписывая никому не нужные слова…
Он прошёл всё: порох, кровь, сцену, вдохновение. Потом – маска дипломатии: церемонии, фанфары, слова, в которых терялась суть. Потом – «Горе от ума». И вместе с ним – борьба, слава, недоумение и запреты. Петербург, балы, театр, книги, дуэли – не шпаг, но взглядов. Он был в самом центре жизни. Но никогда не изменял искусству – оно было исповедью, оружием и утешением.
А они? Те самые друзья, стройные, как тополя, плечистые, с ясным пламенем в глазах – уже прошли всё: кровь, смерть, победу… и пустоту.
– Скажи мне, Александр Сергеевич, – воскликнул как-то один, – чему мы учились? Где парламент? Где закон? Где Отчизна, которая бы нас услышала?
– В книгах, – коротко ответил он.
– Но разве можно жить в книгах?
– Можно. Если всё остальное – тень.
Что могла дать им Россия? Аракчеевская, косная, тяжёлая, как чугун, закованная в свои же страхи? Ни свободы, ни права, ни даже чести. Только подчинение. Только казённое дыхание. Герой, ещё вчера спасавший Отечество, теперь пахал землю и отдавал честь фельдфебелю.
Они были рождены для поступка. А им досталось ожидание. Они были воспитаны на свершении – а им осталась служба.
Поколение, выросшее под гром пушек, внезапно осознало: жизнь прошла мимо, так и не начавшись. Россия, пробудившаяся под Бородином, вновь провалилась в сон – тёмный, тяжёлый, беззвучный.
– Скоро, – говорил один на собрании, – у нас не останется выбора. Мы не мятежники – мы солдаты, которым не дают сражаться. Мы не мечтатели – мы люди, которым запрещают дышать.
И правда: поколение героев, зажатое, не находя выхода, рвалось наружу. В действие. В историю.
А он – Грибоедов – слушал. Молчал. И если пытался удержать – то всё реже. Он понимал: в этот век не остановить того, кто заглянул в бездну и увидел не страх, а зов.
Глава 6
В середине января 1826 года, вскоре после того, как до Кавказа донёсся первый глухой отклик петербургского грома, – донёсся в виде обрывков новостей о декабрьском восстании, переданных через фельдъегерей, случайных офицеров и полунамёками из телеграфных строк, – в крепости Грозная был арестован Грибоедов.
День тот выдался зябкий, с хрустом замёрзшего ветра, который резал лица, свистал в амбразурах, будто предупреждал о чём-то неотвратимом. У стен крепости поникли флаги, часовые на постах укутались в шинели, сжимая ружья ледяными руками. В тягучем, пустынном сумраке зимнего вечера всё замерло, будто сама крепость дремала под пледом снеговых облаков. Лишь в казармах потрескивали печи да редкие голоса доносились из-за дверей.
И вдруг – шаги. Не разбойничьи, не горские – ровные, отмеренные. И голоса: русская речь, сдержанная, внятная. Не скрываются, не крадутся. У ворот их уже поджидали.
В наместнических покоях было жарко от печей и свечей, и пахло воском, бурдюком и картами. Генерал Ермолов сидел в своём кабинете, как во временной столице – посреди огромного Кавказа, вытянутого между горами и империями. Он был велик, грузен, и при всём этом – неукротим. На нём – распахнутый архалук, через грудь – вьются пепельные волоски, похожие на завитки тонкой стружки. Лицо большое, тяжёлое, как барельеф, но глаза – как две точки напряжённого веселья, из тех, что смеются раньше, чем рот.
На столе – ворох бумаг, ведомостей, карт. По стенам – Кавказ, растянутый на пергаменте: линии наступлений, пятна аулов, кривые хребтов, как раны. На одном из стульев валялась шпага. За спиной – лампа, отбрасывающая дрожащую тень на воротник.
– Кавказ, – сказал он вдруг, не поднимая головы, – это не край, это судьба. Это то место, где Россия видна до дна. Без Кавказа Россия как слепец без трости. Пётр Первый это понимал, Екатерина Вторая понимала, Ираклий грузинский понимал, а как дошло до Аракчеева, так крышка. Поэтому и держат меня здесь, на отдалении. Чтобы не путался. Чтобы не говорил. А я ведь скажу. Я всё скажу! Потому что, Александр Сергеевич, – он вдруг повернулся к стоявшему у окна Грибоедову, – я, как Кутузов, не царям служу. Я – России.
Он приподнялся, шумно вздохнул и пересел к ломберному столику. Взял карты. Карты были пёстрые, заморские, с золотым отливом. Пальцы у проконсула были широкие, в рыжеватой шерсти, и двигались медленно, точно над сабельной рукоятью. Пасьянс раскладывался как судьба – запутанно, тревожно.
– Эту – сюда. А эту… – он нахмурился, – червонную даму-то куда девать? Нет, опять напутал. Александр Сергеевич, а Александр Сергеевич?
Грибоедов стоял, прищурившись, с трубкой во рту. Он смотрел не на лицо Ермолова – на руки. Руки у наместника были тяжелые, как гири, и всё же в них была странная ловкость, как у бойца. Он смотрел – и думал, как эти пальцы могли подписывать приказы на выжженные аулы, и при этом с тем же движением, точно играючи, раскладывать пасьянс.
– Ну, вот и всё, – буркнул генерал. – Напутал, видно. А может, карты лгут?
В этот момент вошёл офицер адъютантской службы и, не осмелившись заговорить вслух, подал записку.
– От министра? – Ермолов уже не смотрел на карты. – Из Петербурга? Сейчас же пусть входит. Пусть идёт.
Он говорил медленно, тоном, в котором угадывалась и насмешка, и нетерпение, и равнодушие к любым вестям, кроме вестей о войне.
Пасьянс рассыпался. Листья карт рассыпались, будто пали осенние перья.
– Ну вот, – сказал он, – не складывается. И выглянул в окно, где зимняя мгла уже поглощала горы.
Тишина повисла над комнатой.
Всё шло своим чередом.
Только пасьянс, увы, не сошёлся.
Холод с улицы вполз в комнату вместе с фельдъегерем: тот входил в комнату, как входит человек, несущий не письмо, а волю. Его шаг был чеканным, лишённым человеческой нерешительности: так ступают не по полу, а по уставу. За три шага до генерала он резко остановился, поднял правую руку в коротком, отточенном приветствии, будто рубанул воздух. Потом так же отточенно – всё это было похоже не на движение, а на жест военного устройства, – расстегнул пряжку на чёрной фельдъегерской сумке и двумя пальцами, будто щипцами, извлёк плоский пергаментный конверт. Шагнул вперёд и протянул его Ермолову, не изменив выражения лица.
Ермолов молча принял пакет. Повернулся спиной к окну, поднял сургучные печати на просвет, быстро, чуть небрежно, как человек, привыкший к бумагам и к опасности, разорвал обёртку наискось и развернул письмо. Глаза его сразу налились вниманием, и стало ясно, что он читает не глазами, а головой. Широкий лоб его плотно сдвинулся, брови нависли. В наступившей тишине слышно было только, как потрескивает фитиль в свече.
Сзади стоял Грибоедов, вынув трубку изо рта. Он уже видел, что письмо – предписание. Его имя, написанное чужой рукой, вдруг ударило в глаза, как неожиданное зеркало. Он прищурился, чуть нагнулся, и текст проступил перед ним, строчка за строчкой, выпукло, будто вырезанный по линейке:
«По воле Государя Императора покорнейше прошу Ваше Высокопревосходительство приказать немедленно взять под арест служащего при Вас чиновника Грибоедова… со всеми принадлежащими ему бумагами… употребив осторожность, чтобы он не имел времени к истреблению их…»
Формулировка была суха, бесстрастна, как рассудок полкового дьяка. Но эти ровные строчки, выведенные с усердием и безучастностью, обрушились на Грибоедова не хуже выстрела.
Он не испугался – нет, страха не было. Но не было и удивления. Так ждут: ждали не столько повестки, сколько формы, в какой она явится. Всё оказалось просто и буднично. И всё же он представлял себе этот момент по-другому. Барабаны, тревога, резкий приказ, взмах сабли – а не вот это вот: воск, бумага, аккуратный почерк и слова, как из инструкции.
Он на миг застыл, как остуженный самовар: молчал, сжав губы, глядя на плечо генерала. Потом шагнул в сторону – к свету. В голове билось: бумаги, бумаги!
Тем временем Ермолов, дочитав, аккуратно сложил предписание вчетверо, вложил обратно в конверт, будто пряча не бумагу, а мысль, и положил его в карман. Затем, чуть откинув голову, расправил ворот мундира, выдохнул – не как человек, уставший, а как человек, решившийся.
– Ну, – сказал он, сухо и обыденно, – а доехали-то как? В дороге долго были?
Голос его звучал спокойно, может быть даже равнодушно, как если бы спрашивал про улов рыбака. Фельдъегерь начал докладывать. Его голос доносился будто из-за стеклянной перегородки. А Грибоедов вдруг увидел его ясно, до мелочи: плешь над лбом, узкое, нервное лицо, длинный нос, губы – вывернутые наружу, как у карпа, и белый шрам, под самым левым глазом. «Били его… за что же?» – мелькнуло.
– Нет, это недолго, – снова сказал Ермолов, поворачиваясь к фельдъегерю. – Две недели – это ещё по-божески. Ну, ладно. Коли не устали, расскажите нам, что там в Петербурге стряслось?
И вдруг стал медленно собирать карты со стола. Только теперь – уж слишком медленно. Сосредоточенно, как будто карты могли дать разгадку, как будто дама червей, случайно попавшая в середину, могла нарушить всю расстановку.
Грибоедов, не дожидаясь, отошёл к креслу, опустился, положил руки на подлокотники. Через секунду вскочил, как бы услышав зов изнутри. Мысль – резкая, как сквозняк:
«бумаги!»
Вот оно. Главное. Не арест. Не Петербург. Не суд. А бумаги. Те, что в ящике. Те, что – черновики писем, наброски, стихи… Он был глуп, непростительно глуп, что не подумал об этом раньше. Секунда – и уже поздно. Или ещё можно?..
Он посмотрел на окно. Потом – на дверь.
И тут ему показалось, будто все взгляды в комнате, даже равнодушный взгляд свечи, уже держат его на прицеле.
Он стоял, вытянувшись у стены, и усмехался. В усмешке его не было радости – то была маска, плохо скрывавшая напряжённое ожидание, непрошеную тревогу. И вдруг вновь долетел до него голос фельдъегеря, чёткий, сухой:
– Против императора восстали войска. Были рассеяны картечью. В Петербурге – сумятица, тревога. Аресты – повальные. Захвачено множество знатных лиц. В бунте оказались замешаны даже офицеры из гвардейских полков.
Он не выдержал. Глаза его блеснули за стёклами очков. Он сделал порывистый шаг к столу:
– А кто? Кто они, эти? Их имена!
Фельдъегерь ответствовал сдержанно, как человек, которому уже довелось много рассказывать в дороге:
– Много. Говорят, все казематы в Петропавловской крепости заняли. Князь Трубецкой сам повинился. А взяли Бестужева, с ним два брата. И ещё есть братья Муравьёвы, Раевские… Одоевский, Рылеев. Солдат – так прямо с площади. На Петровской площади у Сената мятежники строились: московцы, лейб-гренадёры, матросы гвардейского экипажа. Там и статские стреляли. Один, Каховский по фамилии – так он графа Милорадовича из пистолета убил, когда его превосходительство уговаривать московцев прискакали… Муравьева-Апостола, тяжело раненного, захватили на поле боя, его младший брат Ипполит, не желая сдаваться, покончил с собой. Пестель арестован. Якубович, ранее разжалованный приказом Его Императорского Величества в солдаты, ходил по площади от одной стороны к другой и предлагал свою помощь государю. После он тоже был схвачен, так как оказался изменником…
Слова эти разрывали душу. В сознании Грибоедова проносились обрывки образов, лиц, голосов. Он силился представить себе – не понаслышке, а вживую – как стояли они, его товарищи, на площади перед Сенатом, как вели полки на штыки, как молчали под пушечным залпом. Он знал их – каждого. Знал походку, интонацию, гнев, мягкость. Знал, чего ждали они, и знал – чего не хватило. Всё оказалось именно так, как он однажды предчувствовал. И всё же… всё же казалось: недостало самой малости, одного жеста, одного слова, – и история могла бы отвориться иным путём.
– А этот немец, из учителей, как его… Кюхельбекер, – продолжал фельдъегерь с тенью недоумения в голосе. – Так тот, с заряженным пистолетом, искал по городу Его Императорское Высочество великого князя Михаила Павловича.
– Вы слышали, господа? Кюхельбекер! – воскликнул вдруг Ермолов, на сей раз искренно, с удивлением и какой-то странной, едкой веселостью. – Наш Вильгельм Карлович… Да он же у меня в канцелярии лет пять назад служил. Помните?
Он начал поворачиваться на кресле в сторону Грибоедова, но вдруг будто спохватился, соскользнул с подлокотников и вскочил неожиданно легко. Под ним скрипнули и замерли пружины.
– Спасибо за рассказ, – сказал он, глядя прямо на курьера и любезно кивая. – Спасибо, голубчик. Очень хорошо всё рассказали. Вы, чай, устали с дороги, так я вас больше и не держу.
Он обернулся к адъютанту:
– Устрой его. Накорми, напои. Как следует, по-военному.
А затем, чуть приглушённо, как бы между прочим, сказал в сторону свиты:
– А вы, господа… к вечеру пожалуйте ко мне на обед.
Он пошёл из комнаты и, проходя мимо Грибоедова, не задерживаясь, показал глазами на дверь.
– Так вот, господа, милости прошу всех ко мне сегодня на обед, – повторил он с порога и вышел из комнаты.
Друг перед другом они стояли в маленькой, узкой комнате, такой маленькой и такой узкой, что в ней умещалась только одна жёсткая деревянная кровать да табурет из некрашенного дерева. Ермолов говорил:
– Ну, вот и допрыгались, сударь мой, и допрыгались. Сказано вот: «со всеми принадлежащими ему бумагами». Чего, хорошо разве? А ведь я знаю, какие у вас там бумаги.
Грибоедов молчал. Лицо его, сухое и неподвижное, уже не выражало тревоги. В очах – ни страха, ни вопроса. Что-то стойкое, обречённое, как будто опалённое огнём, жило в этом спокойствии. Он слегка улыбнулся, устало, почти с жалостью – то ли к Ермолову, то ли к себе:
– Двум смертям не бывать, Алексей Петрович, – проговорил он негромко, называя его так, как звал только наедине, без чинов и чиновничьей щепетильности.
– Ага, вот и славно, – встрепенулся Ермолов и сразу оживился. – Уже и о смерти заговорили, значит, дело идёт к серьёзному. Двум смертям! Ха!
Он подошёл к стене и резко развернулся, будто маршируя в тесноте. Лицо его перекосило от досады:
– Скажите на милость! Четверо поэтов – вы, Одоевский, Вильгельм Карлович, да ещё Рылеев – и бунт противу всей империи! Писаришки, вдохновенные ораторы! Да разве ж так делаются государственные дела? – Он с омерзением сплюнул. – Сочинители…
Снова прошёлся по комнате. Потолок скрипнул. Грибоедов не шелохнулся. Снял очки, протёр их суконкой, неторопливо вернул на нос. Затем полез в карман – достал трубку, повертел и убрал обратно.
– Двум смертям! – снова с досадой повторил Ермолов и выудил из кителя плотный конверт, заложенный сургучом. – Вон что пишут: взять с бумагами. Бу-ма-га-ми! Ведь вот оно что. Значит, ты слушай сюда: я тебе могу дать не более часа. А то и меньше. А потом – не обессудь: приду, как велено, со всей сворой. Так что собирайся, сударь. – Он задержал взгляд. – Слышишь?
– Слышу, Алексей Петрович, – тихо отозвался Грибоедов. Пальцы его снова коснулись трубки. – Всё слышу.
– Иди! – скомандовал отрывисто, как на плацу, Ермолов. – Торопись! Видишь, уже смеркается.
Грибоедов пошёл, и тут Ермолов окликнул его снова. Лицо его было сумрачным, но взгляд уже становился светлым и спокойным.
– Стой, слушай, – сказал он каким-то совершенно новым тоном, таким, какого Грибоедов никогда от него не слышал. – Ты иди там, почистись хорошенько, а о прочем не беспокойся. Здесь они, – он ткнул на дверь, – ничем у меня не поживятся. Не на такого напали! Я тебе, Александр Сергеевич, аттестат дам наипохвальнейший, а если кого сюда о тебе пришлют разведывать, так ты сам знаешь, всё через мои руки проходит. Так, что ли?
– Так, Алексей Петрович, – тихо ответил Грибоедов.
– Ну вот, голубчик. А голову-то не вешай, не вешай. Не надо голову-то вешать. Я, брат, сам при Павле в ссылках побывал. А вот видишь, – он слегка пожал плечами с генеральскими погонами. – Ничего ещё не видно! Они там, в Петербурге, от страха все с ума сошли. Ну и хватают всех без разбору. Не чаю, чтоб ты чего-нибудь особого наболтал или – того паче – наделал. А всё остальное чепуха! Как пристали, так и отстанут. На следствии-то не болтай и никому не верь. Никому! Они одно слово сказали, десять соврали. Ихнее дело такое. Ну, да ты и сам знаешь. Учёного учить… есть такая пословица.
В глазах его стояло чувство, горькое и человеческое. Он положил руку на плечо Грибоедову, сжал его с силой, как солдат боевого товарища.
– Ну, обнимемся, что ли, напоследок?
И, не дожидаясь, обеими руками взял его за голову, за виски – и по-русски, по-солдатски крепко поцеловал в губы, трижды. Потом резко ладонью оттолкнул его голову.
– Ну, иди, иди, – сказал он торопливо, с трудом переводя жёсткое дыхание. – Иди, делай, что велено. – И, не удержавшись, добавил: – Рес-пу-бли-ка-нец!
…У себя в комнате он долго простоял на одном месте. Мыслей было много, но они слишком быстро проносились в голове и не были отчётливыми.
Кто назвал? Что надо говорить? И не ошибка ли, что меня не было на Сенатской? Нет, нет – сто прапорщиков не могут повернуть колесо истории. Безвременные мечтания. Не о том я думаю, не о том…
– Сашка! – кликнул он своего казачка. – Тащи скорей чемоданы!
– Едем куда-нибудь, барин?
– Уйди отсюда, Сашка! Я сам…
К самому, значит, Николаю… Ну что же… Ничего не выйдет. Не выйдет, ваше императорское величество…
Он поспешно нагнулся к чемодану. Письма. Письма в первую очередь. Он держал их в руке – письма самых сейчас близких людей: Одоевского, Бестужева, Бегичева, Жандра, – взглянул на стол, на ровный язычок горящей свечи.
Усевшись на пол, он стал жечь бумаги. Сашка Грибов, похожий на лягушку, стоял рядом со своей удивительно глупой улыбкой. Дверь комнаты они не заперли. Кроме них, здесь квартировало еще пять или шесть человек из свиты, но он не боялся, что им помешают. Конечно, старик не отпустит от себя никого весь вечер. Грибоедов вытащил из чемодана большую синюю тетрадь, со всех сторон исписанную незнакомым ему почерком, – сборник стихотворений вольнолюбивых. Может быть, перечесть? Нет, нет, – разумеется, думать нечего: эти сжечь необходимо. Он слегка перелистал тетрадь и сунул в огонь.
Пламя охватило рукопись всю сразу, и она зашумела, как ветвь под ветром.
«И на торжественной могиле
Горит без надписи кинжал»,
вспомнил он неожиданно для самого себя.
– Что-с? – спросил Сашка Грибов с пола.
– Ничего, – недовольно ответил ему Грибоедов. – А чего это ты тут расселся? Смотри, вон пепел из печи на пол падает.
– Никак нет-с, – сказал Сашка, услужливо кланяясь носом, и принялся сгребать его с пола прямо ладонями.
Стоя над огнём, Грибоедов думал.
«…Рылеев, Кюхельбекер, Одоевский, Якубович, а кто ещё? Может быть, Пушкин? Странно, однако, что курьер не назвал его фамилии. А вот Кюхля-то, Кюхля-то… – Грибоедов усмехнулся. – И тут ведь остался верен себе. Как это рассказывали: выбежал на площадь во всем штатском, без шубы, в каком-то лапсердачке да ещё, кажется, в мягкой шляпе с загнутыми краями – это в декабре-то месяце! – и стрелял в великого князя. Или нет, не стрелял, только хотел стрелять, в дуло набился снег, так, что ли, он говорил? А вот Каховский, тот выстрелил в петербургского генерал-губернатора, когда тот подскакал к мятежникам, и убил его. Лошадь пронесла по Сенатской площади его мотающееся в седле тело. Что теперь сделают с ним и с Кюхлей? А с Рылеевым, с Сашей Одоевским?»
А с ним что?
Вот он сидит на полу с Сашкой Грибовым, жжёт бумаги и ждёт, когда за ним придут.
– Сашка, что ж ты смотришь, тетеря? – говорит он сердито и подбрасывает ногой пачку. – Кидай, кидай их в огонь!
Пламя охватывает всю кипу и бурно листает страницы.
Он стиснул голову. Голова у него слегка кружилась. Он чувствовал себя, как после стакана хорошего вина.
Сашка пугливо посмотрел на него.
– Ничего, ничего, Сашенька, – сказал Грибоедов, – ничего, милый. Твое дело нехитрое: знай, подкладывай. – Он выхватил из чемодана рукопись, просмотрел её, и рука его задержалась с секунду над пламенем. – В огонь, в огонь всё!
«Что не берёт железо, то берёт огонь», – так учили его в детстве. Пусть горит и эта тетрадь, недописанная трагедия о 1812 годе. Он встал с пола, отряхнулся всем телом и зашагал по комнате. Сашка на корточках сидел около печки и перемешивал пепел. Жёлтые отблески плясали по его лицу.
И внезапно он всхлипнул. Грибоедов обернулся к нему. Сашка плакал. Крупная слеза стыдливо и медленно ползла по его щеке.
Грибоедов подошёл и поверх стекол заглянул ему в лицо.
– Что это ты, Александр? – спросил он озадаченно. – Никак плакать изволил?
– Ничего-с, – грубым голосом ответил Сашка, отвернулся от Грибоедова и вдруг не выдержал: – Как же-с, Александр Сергеевич? Писали, писали, ночи при огне сидели, и всё вот куды! – он кивнул головой на пылающую печку.
Грибоедов сверху вниз посмотрел на его лицо.
– Ничего, Сашенька, – сказал он медленно, подыскивая слова. – Пусть горят. Вот видишь ли, Саша, есть такая птица. То есть, я говорю, в сказке есть такая птица…
Ему вдруг ужасно захотелось рассказать Сашке о Фениксе – чудесной птице, которая сжигает сама себя, чтоб потом опять молодой и сильной возродиться из пепла, но он сейчас же подумал, что, пожалуй, не подберёт подходящих слов, усмехнулся и ничего не сказал больше.
– А что нам эта птица? – молвил натуженно Сашка с пола. – Нам эта птица вовсе ни к чему-с даже. Грех вам, Александр Сергеевич, так со мной разговаривать. Ведь не маленький. Вот сколько с вами езжу… Маменька-то, маменька-то что скажут, – продолжал он, размазывая слёзы кулаками.
Грибоедов сморщился, как от зубной боли и, стараясь больше не слушать ничего, что говорит ему Сашка, и ни о чем не думать, сунул в печку всё, что осталось на полу, и пошёл в угол.
– А меня, Сашенька, арестуют, – сказал он оттуда, сняв очки и протирая их кружевным платком. – Повяжут и увезут, и крепость Грозная сменится на другую. Но в той не будет уютных посиделок с Ермоловым и праздной болтовни с солдатами. Некому будет читать «Горе…», разве что крысам…
– Мы это понимаем, Александр Сергеевич, – ответил Сашка и вдруг ожесточённо зачастил: – Вот вас остерегали хорошие господа не водиться с этим Кюхельбекером, вы не слушались, а вот теперь, ну что же, очень просто: и увезут и посадят. Вон про Питер небось какие страсти рассказывают: из пушек по людям палили. Ведь это что такое!
– Ты прибери, Сашенька, комнату, – сказал миролюбиво Грибоедов из угла. – Сейчас они… – он вынул часы и посмотрел на них, ему оставалось минут пять-десять, не больше, – сейчас они придут.
Грибоедов вздохнул, провёл рукой по волосам и поправил очки.
Ближе к полуночи в дверь постучали, сначала тихо, одним пальцем, а потом, секунду спустя, ещё раз, уже громко и требовательно.
– Войдите, – сказал громко и спокойно Грибоедов, не отходя от окна.
Вошел знакомый офицер с бумагой в руках, и позади него два солдата с примкнутыми штыками.
Грибоедов стоял не двигаясь и ждал, когда тот заговорит.
– Александр Сергеевич, воля государя императора, чтобы вас арестовать. Где ваши вещи и бумаги?
Он спокойно указал на чемоданы. В его присутствии их вскрыли и тщательно проверили содержимое. Он держался спокойно и даже, можно сказать, безучастно следил за тем, как они перебирали белье и платье, обнаружив в одном из них толстую рукописную тетрадь, на её твердой обложке красивым почерком было выведено: «Горе от ума».
Офицер перелистал страницы:
– Нет ли у вас каких-либо ещё других бумаг? – спросил он.
– Всё мое имущество заключается в этих перемётных чемоданах, – ответил ему Грибоедов.
Чемоданы упаковали вновь, перевязали веревками и скрепили печатями.
– Пожалуйста, следуйте за нами, – сухо скомандовал офицер, и все четверо вышли во двор.
Светила полная луна, оставляя фиолетовые тени на снегу. Снег поскрипывал под сапогами идущих. Грибоедова перевели в офицерский домик, стоявший рядом, и выставили часовых у дверей и окон. Наутро все офицеры собрались проводить его. Многие беспокоились. Главнокомандующий вместе с уведомлением о произведённом аресте отсылал на него в Петербург наиболее лестную характеристику, упоминая в ней, что «Грибоедов во время служения его в миссии нашей при персидском дворе и потом при мне как в нравственности своей, так и в правилах не был замечен развратным и имеет весьма хорошие качества». Сам же Грибоедов успокаивал всех и беспрестанно повторял: «Пожалуйста, не сокрушайтесь, я скоро с вами увижусь». А сослуживцы его пригрозили курьеру, что если он не довезёт Грибоедова в целости и сохранности, то пусть уже никогда ни с одним из них не встречается, ибо сие может быть ему вредно. Фельдъегерь сел рядом с арестантом, и тройка с конвоем казаков помчалась по Военно-Грузинской дороге на север. Пошли снега, снега до горизонта. При солнце стало непереносимо смотреть на их острый и крепкий до синевы переливчатый блеск. Ночами они угрюмо мерцали и нагоняли тоску. Мучил мороз. Даже в тихие, казалось, дни встречный ветерок леденил лоб, обжигал нос, щёки: от него ни увернуться, ни уйти в вороник – на мгновенье пропадёт и вновь пристанет упрямым сквознячком. Небо сизое. Ветви встречных деревьев не ветви, а прутья. В складках пледа на коленях – сухой крупичатый снег, на рукавицах – ломкой плесенью ледок. Смотреть холодно. И лучше не двигаться, а просто замереть.
Можно было думать – да не о чем. Ни о прошлом – оно зачёркнуто, как неверная строфа. Ни о будущем – его как будто вовсе не намечено. Арестант. Государственный преступник. Отныне он не движется, а везом. Он не живёт – а охраняется. Время его остановлено. Это только кажется, будто едешь: мохнатая нога пристяжной мелькает у глаз, бьёт в такт, расшвыривая белый прах, но всё тот же, всё тот же снег – бесконечный, неистребимый, вязкий, как вырезка из другой жизни. Обледеневшая вешка – одна и та же – валится и поднимается в том же сугробе. Ни дороги, ни простора. Полусон, полуявь, и в этом слиянии – не тоска даже, а тупая белая тишина, как заплата на глаз.
И всё же тревоги в нём не было. Он не дозволил себе дрожи. Арест – лишь знак: его имя названо. Кто-то из взятых заговорил? Или просто – связь с Рылеевым, с Бестужевыми, с Муравьёвым-Апостолом, с Трубецким, – она ведь была. Дружеская, умственная, поэта – к поэту, мечтателя – к человеку действия. Но он не сдастся. Ни испуга, ни мольбы. Бояться – значит баловать.
Его почти радовало это состояние обнажённой, лишённой всяких украшений ясности. Почти восторг. Почти свобода. Ни больше – ни меньше, как перелом. Он был не слабее других. Нет. Он мог принять это как рок, но не как обиду.
Вскоре он узнал – в день присяги нового государя случилось невообразимое. Вышли на Сенатскую площадь лейб-гвардейцы Московского полка, флотский экипаж, гренадеры. Братья Бестужевы – каждый при деле. Один – в Адмиралтействе. Второй – в Сенате. Третий – в Академии художеств. Четвёртый – на корабле, откуда отстреливался из пушек… Каре восставших расстреляли. Путь отрезан: за спиной – Исаакий, впереди – лёд Невы, по которому грохотали пушечные ядра. Солдаты тонули – под уставным криком, с мушкетом в руках. Ни вперёд, ни назад…
Одоевский – сдался на второй день. Кюхельбекер бежал – но пойман у самой границы. Рылеев, Каховский, Трубецкой, Якушкин – все арестованы. Все ждут своей участи. Крепость молчит, как гроб, где ещё теплится дыхание. Император изрёк: виновен не только участник, но и молчаливый. Не донёс – значит замышлял. Знал – значит соучастник. Молчание стало изменой. Дружба – уликой.
И тогда в нём впервые шевельнулась мысль: кто именно? Кто назвал? Кто вспомнил его имя и не сумел удержать язык? Или – нарочно?
Но и эта мысль не прижилась. Он вытолкал её. В такие минуты предательство – мелкая монета. Истинная цена – судьба. Всё остальное – пыль на сапогах офицера, шагнувшего в комнату с бумагой в руке.
11 февраля. Грибоедов, ещё не остывший от долгого пути, был доставлен в Петербург, в Главный штаб, под вьюжное небо, к высям шпилей, что сливались в чернильной мгле с вихрями февральского снега. На гауптвахте не задержали. Сразу – к Левашову. Так было заведено. В тот же день, не дав отдышаться, не дав опомниться. На первый допрос – с глазу на глаз. Петербуржцы – в день ареста. Остальные – по прибытии. Расчёт прост: застать врасплох, расколоть прежде, чем соберёт лицо, прежде, чем нащупает – сколько ведомо, что раскрыто, на что надеяться и чего ждать.
Комната – зловеще-парадная, как сцена театра до начала действия. Лампочки с живым пламенем в тяжёлых подсвечниках на ломберном столе метались, колеблясь от сквозняка, и тревожно отражались в лакированных завитках розовой мебели. Спинки стульев – как будто не дышали. Завитки ножек – истончённые, точно ослабленные. Всё было тонко, вычурно, фальшиво. Белые двустворчатые двери с бронзовыми ручками, высокие окна, за которыми стояла вьюга, и будто кто-то, невидимый, подслушивал за портьерами. Чужое молчание углов. Часы – под стеклом, на малахите – с двумя амурами. Лазурь циферблата дрожала в тусклом свечении. Они били – не просто время, они выговаривали.
Одиннадцать.
Они сидели вдвоём. Генерал-адъютант Левашов – холодный, ровный, с лицом, не предающим ни жалости, ни гнева. И он, Грибоедов, – в звании коллежского асессора, дипломат и поэт, вельможа без портфеля, человек с слишком ясным умом, чтобы не чувствовать иронию этой сцены.
Он был почти спокоен. Лицо его – собранное, глаза открыты. Вид – откровенности и невинности. Ни тени беспокойства, но и без вызова. Он уже решил для себя: не отрицать того, что и без него известно, и прятать то, что доказать нельзя.
Голос его – твёрдый, ясный, лишённый патетики, словно бы он читает давно выученный урок:
– Я, – говорил он, – не принадлежал никакому тайному обществу, ни о его существовании не подозревал. В Петербург прибыл в двадцать пятом, из Персии. С Рылеевым, Бестужевым, Оболенским познакомился через литературу. С Одоевским жил вместе. С Кюхельбекером – связан по Кавказу. От всех этих лиц не слышал ничего, что могло бы дать мне мысль о заговоре. Суждения их – да, были смелы, о правительстве говорили с обличением. Я сам не молчал. Осуждал – что считал вредным. Желал лучшего. Но никаких иных действий за мною не значится. Почему подозрение пало на меня – понять не могу.
Он выговорил всё без запинки. Подписал – твёрдо, без дрожи. Строчка легла ровно.
За окном метель усилилась. Часы – медленно, с ледяной капелью, отбивали глухое, тягучее время. Два бронзовых амура продолжали держать стеклянный колпак над невозмутимым лазурным циферблатом. Всё вокруг казалось притворным: и уют, и свет, и мебель, и тишина – как будто под этой гладью копошился допрос другого рода, не официальный, а внутренний, между прошлым и будущим, между убеждением и холодной лживостью официального мира.
И Грибоедов чувствовал: не допрос страшен – страшно, что ты уже не принадлежишь себе.
15 февраля, видя, что его не вызывают для допросов, но и не отпускают, он сочинил резкое письмо Николаю I, написав его самым чётким почерком, дабы ни одно слово не пропало:
«Всемилостивейший государь!
По неосновательному подозрению, силою величайшей несправедливости, я был вырван от друзей, от начальника моего любимого, из крепости Грозной на Сундже, чрез три тысячи верст в самую суровую стужу притащен сюда на перекладных, здесь посажен под крепкий караул, потом позван к генералу Левашову. Он обошелся со мною вежливо, я с ним совершенно откровенно, от него отправлен с обещанием скорого освобождения. Между тем дни проходят, а я заперт. Государь! Я не знаю за собою никакой вины. В проезд мой из Кавказа сюда я тщательно скрывал мое имя, чтобы слух о печальной моей участи не достиг до моей матери, которая могла бы от того ума лишиться. Но ежели продлится мое заточение, то конечно и от неё не укроется. Ваше императорское величество сами питаете благоговейнейшее чувство к вашей августейшей родительнице…
Благоволите даровать мне свободу, которой лишиться я моим поведением никогда не заслуживал, или послать меня пред Тайным Комитетом лицом к лицу с моими обвинителями, чтобы я мог обличить их во лжи и клевете.
Всемилостивейший государь!
Вашего императорского величества верноподданный Александр Грибоедов ».
Письмо государю – обиженное, яростное, правдивое – не было даже принято к рассмотрению. Подали отказ сухо, с презрительным надломом в голосе: – Подобным тоном к императору не пишут.
И дело встало. Остановилось, как замёрзшая ось на санной телеге: ни вперёд, ни назад. Тишина, как на грани обморока. Пустота – зловещая.
Но не это терзало Грибоедова более всего. Он ждал – дрожащей ниткой, будто пальцы положены на струну – вестей о друзьях, тех, что томились в крепости, в каменных сумерках, на нарах, между трубками с испариной и шагами часового, звеневшими, как капель в пустом колоколе.
А друзья… Друзья, веруя, что от показаний всё равно зависит не их судьба, а память о них, начали говорить – с избытком. Словно оправдывались не перед следователем, а перед потомком, грядущим, справедливым. Откровенничали до последней жилки, до последнего раздражённого слова. Объясняли – почему не могли иначе, что думали, как хотели и в чём разочаровались. Одни – сдержанно, другие – с горячкой. Но все, как один, единогласно, хором, почти с болью, отрицали его участие.
– Он в заговоре не участвовал, – говорили. – Мы и не старались привлекать его. Он был – иной. Не к делу, а к слову предназначен. Он мог бы прославить Россию – не пистолетом, а пьесой.
Кто-то добавил: – Мы берегли его.
И это звучало почти как прощение, почти как приговор.
Наконец, 24 февраля – спустя недели молчания и промедления – последовало распоряжение: явить Грибоедова к Комитету. Зимняя метель уже выдохлась, на Неве стоял тугой, стеклянный лёд, по которому катили сани. Его везли – с завязанными глазами, в тишине, нарушаемой только стуком полозьев, – в Петропавловскую крепость.
Комната – не допросная, скорее, квазисценическая. Длинный стол, красная суконная скатерть, лампады в бронзе, лица – мрачные, безучастные, но выученные. Всё – чинно, как надгробие. Сидели вперёд поданные: военный министр Татищев, великий князь Михаил Павлович, четыре генерал-адъютанта. Среди них – бледный, стареющий Голенищев-Кутузов.
Грибоедов стоял – как перед жюри истории. Он чувствовал: дело его – не в бумагах, а в выражениях лиц. Тут не допрос, а исполнение. Суд не над участием, а над духом.
А рядом, в тот же день, на другой очной ставке, Пестель – сдержанный, сосредоточенный – глядел в лицо Волконскому, как в зеркало. И вдруг – выпад. Вспышка и удар: – Удивляюсь, господа, – спросил Кутузов, – как вы могли решиться на такое ужасное дело, как цареубийство?
Пестель – мгновенно, без паузы, почти весело: – Удивляюсь удивлению Вашего превосходительства. Вам, как никому, должно быть известно: не первый это был бы случай…
Тишина. Кутузов – осел лицом, побледнел, позеленел. Вспомнил – заговор, ночь в Михайловском, убийство императора Павла…
Пестель обернулся к остальным членам комиссии – и бросил, почти шутливо, почти с вызовом: – А бывало, и за это Андреевские ленты давали…
Фразы эти шли по залам, как шорох пороха. Глухо. Тихо. Но смертельно. Грибоедов слышал это позже – и не раз. Он улыбался краешком губ. И знал: то, что осталось – уже не в протоколах. А в дыхании эпохи.
На допросе он держался стойко и холодно – даже с оттенком скуки, будто отвечал не следователю, а надоедливому газетчику, пристающему с домыслами. Всё отрицал.
– Князя Трубецкого я едва ли знал, – произнёс он вежливо, но с подчёркнутой обособленностью, как бы отсекая ту среду, к которой принадлежать ему не позволял разум – и осторожность. – Рылеев, Бестужев… Да, встречались, говорили о Пиндаре, о праве народов и «Калевале», но ничего они мне не открывали. Ни о каких тайных обществах я понятия не имел. И, стало быть, мнения о них – не имел тоже. Ни положительного, ни отрицательного.
Он говорил как человек, решивший выжить. Как человек, знающий, что слово может быть последней нотой приговора.
25 февраля Следственный комитет – наконец! – представил императору ходатайство: освободить Грибоедова. Но высочайшего соизволения не последовало. Бумага ушла вверх, как камень, брошенный в небо, – и не вернулась.
Его велели оставить – не в крепости, но в здании Главного штаба, под невидимой, но неусыпной стражей. В ожидании отчёта с Кавказа, где специальный чиновник с мертвой хваткой дотошно выспрашивал: а не был ли замешан Ермолов? Государь всё ещё надеялся – упрямо, почти по-детски – найти в горской пыли доказательства вины самого грозного из русских генералов.
И так – тянулись дни. Он ложился с надеждой. А вставал – уже без неё.
Был март – холодный, с метелями, с ветрами, с тоской. Потом апрель – звонкий, с капелью. И всё мимо. А за окном – весна шла, как царевна: медленно, но неумолимо. Нева сбрасывала лёд, как кожу. По утрам с крыш свисали длинные, хрупкие сосульки, и, подставив солнечным лучам своё стеклянное горло, падали, звеня, на камень. На деревьях – почки, и в воздухе пахло первой пылью, размокшим глинозёмом, тревогой.
И вот – наконец, в самом начале июня – состоялась его аудиенция с императором. Николай принял его долго – и, казалось, слушал с живым интересом. Лицо его, вечно холодное, принимало выражение вежливой озадаченности: то хмурился, то приподнимал бровь, то кивал, будто споря мысленно с кем-то третьим, невидимым.
А в конце, вдруг – перемена.
– Вы порадовали меня своими суждениями, – сказал Государь, словно снисходя с высоты монаршей на крепкий ум простого смертного. – Я полностью удовлетворён Вашим рассказом.
И отпустил. Почти по-дружески.
В тот же день ему вручили под расписку очистительный аттестат – и в строках этого документа, напечатанных как бы от руки молчаливой бюрократии, значилось:
«По высочайшему Его Императорского Величества повелению комиссия для изыскания о злоумышленном обществе сим свидетельствует, что коллежский асессор Александр Сергеев сын Грибоедов, как по изысканию найдено, членом того общества не был и в злонамеренной цели оного участия не принимал».
Сухо. Без эмоций. Но он читал – медленно, строчку за строчкой, как читают оправдание, принесённое из будущего. Он вышел из комнаты с бумагой в руке, как из-под гильотины – живым.
На выходе из Главного штаба его встретил яркий, звонкий день – весеннее солнце билось в окна, как птица в стекло. Простор, небо, свет – всё напоминало о свободе, к которой он ещё не привык. Воздух был острым, прохладным, пахнул рекой, камнем и подтаявшей медью петербургских крыш.
Он подумал – пройти к Бирже, к ростральной колонне, где так любил стоять, прижавшись мыслями к бегущей Неве, вглядываясь в искрящиеся воды и линию горизонта. Там, у самого обрыва гранита, ветрено и пусто – и город оборачивается к тебе лицом, словно портрет с живыми глазами.
Но, дойдя до набережной, вдруг круто повернул назад.
Он увидел её – её, крепость, ту самую. Приземистая, зловещая, словно подползшая к воде. Петропавловка. Серая груда памяти. Словно подошла – впритык. Словно шепнула: ты ещё мой.
И в лицо пахнуло – прелостью, замшелым камнем, стылым потом стены, где воздух не движется и время не идёт. Он невольно прикрыл глаза: в темноте сразу всплыли низкие своды Алексеевского равелина, блеск фонаря, скрип двери, свинцовая тишина.
Нет! Не видеть, не слышать. Забвение – спасение. Он почти бегом кинулся вглубь города, в лабиринт улиц, подальше от воды, от крепости, от себя самого – февральского.
В кармане шуршала подорожная – как предписание к жизни. Прогонные деньги были отпущены вплоть до Тифлиса: 2662 версты, три лошади, три судьбы, и одна из них – его. Его вновь отправляли по месту службы – к Ермолову, который считал его чуть ли не родным.
Ермолов любил его так, как мог любить только тот, кто не привык к привязанностям: за ум – острый, недремлющий, за честность – почти неудобную, за знание языков, народов, прав, обычаев. За то, что умел молчать и умел говорить, когда было страшно.
Путь лежал через Москву, где он задержался на несколько дней – навестить мать, сестру, дом. Дом был молчалив, мать – тревожна, сестра – бледна. Он уехал в ночь, не прощаясь – чтоб не возвращаться взглядом.
В районе Мечетского редута, у самой Кавказской линии, его догнал Денис Давыдов – вихрь на лошади, баллада в мундире. Денис вынырнул из облака пыли с криком, как гусар из сна, и, встретившись, они продолжили путь вдвоём. Путь был труден и опасен. Глубокие овраги, ущелья, где Терек бился в скалы, хрипел, как зверь, и пел, как кантабиле. Здесь могло ждать всё: засада, выстрел, смерть. В скалах жили тени – чеченцы, которые не дышали, пока не стреляли.
Но им везло. Дорога сжималась, разжималась, извивалась, но не кусалась. И вот уже – Владикавказ. Здесь они впервые узнали: персы перешли границу. Аббас-Мирза, наследник, дерзкий, гордый, жёсткий – вторгся. Гянджа пала. Шамхор был взят. Крепость Шуша – осаждена. Карабах дрожал, как чаша на ладони.
Они расспрашивали встречных офицеров, рыскали за слухами, выискивали правду в лицах. И – радость: победа князя Мадатова. С малыми силами – разгром передового отряда персов. Подробностей ещё не было, но сама весть – как глоток воды после лихорадки. Надежда возвращалась.
В Тифлисе он первым делом направился к Ермолову – не с жалобой, не за наградой. Он принёс просьбу: перевести его «тюремных товарищей» – тех, что томятся под следствием, в действующую армию.
– Пусть искупят, – сказал он. – Пусть повоюют. И коли смерть – пусть она будет честной…
А тем временем, с кронверка Петропавловской крепости, где воздух, казалось, от самого восхода звенел железом, уже который час доносился глухой, безжалостный барабанный бой – отсчёт. Он был не звук, а приговор – тот, что медленно, как волна, расходился по городу, загоняя людей за шторы, за спины, в углы.
Вопреки древним законам – ещё со времён Елизаветы, когда Россия, просветлённая и уставшая от казней, отказалась от эшафота – Николай I повелел: повесить.
Кутузов собственноручно руководил экзекуцией. Докладывал императору со всем тем холопским усердием, с каким некогда трубили победу при Бородине:
«Экзекуция кончилась с должной тишиной и порядком как со стороны бывших в строю войск, так и со стороны зрителей, которых было немного. По неопытности наших палачей и неумении устраивать виселицы, при первом разе трое, а именно: Рылеев, Каховский и Муравьёв-Апостол – сорвались с верёвки, но вскоре опять были повешены и получили заслуженную смерть – о чём моему императорскому величеству всеподданнейше доношу».
Узникам запретили писать родным. Всё, что доходило из крепости, переписывалось чужой рукой – тонкой, женской, дрожащей: от тех, кто потом отправился вслед, в вечный снег, в Сибирь – за мужьями, братьями, сужеными.
Он, Грибоедов, ещё хранил в памяти лица – знакомые, почти родные. Из всех повешенных только Пестеля он не знал лично. Остальных – знал. Говорил с ними, спорил, смеялся, сочинял. Пятеро. Пятеро – под барабаны. Пятеро – на верёвке. Их тела, после казни, на лодке отвезли на Голодай – голый, бесприютный остров, где хоронили самоубийц.
Мадемуазель Ленорман – с её гладким лицом, глазами без зрачков, предсказанием, произнесённым между карт и ароматов. Он вспомнил про неё. Всё сбылось, всё пошло по написанному:
Кюхельбекер – в заточении. Александр Бестужев – в Якутске. Николай и Михаил Бестужевы, Муравьёв, Одоевский, Пётр Муханов – на каторге. Поливанов – умер в Петропавловке. Все. Все ушли. Остался только он.
И – мысль, как стрела: А что, если бы тогда, в Париже, в 1814 году, в самом сердце победной Европы, они прислушались к ней? Что, если бы поверили? Изменилось бы что-то? Или всё – уже написано? Не здесь – там, в записях Небес?
Всё – стало пусто. Вдруг. Резко. Не осталось ни круга, ни угла, где бы можно было спрятаться.
Для кого теперь писать? Для кого жить?
Он писал «Горе от ума» – для них. Для бунтарей, для дерзких, для тех, кто рвался в перемену, как в небо. А теперь – для кого?
Столица перестала быть родиной. Он покидал Петербург без жалости, как оставляют больницу, тюрьму.
Жить в деревне? На Кавказе? За границей? – всё равно. Петербург кончился. Осталась пустая форма – чиновничья, глухая, блестящая. По улицам теперь ходили не поэты и не победители – а надзиратели. На место гвардии пришло Третье отделение. В мундиры его чиновников вшили подкладку страха.
Это новая страна, думал он. Страна, в которой талант обрекается на виселицу, честность – на кандалы, а мысль – на молчание.
И – кто теперь будет бороться?
Некому.
Он шёл, не оборачиваясь…
Глава 7
Погружённый в думы, Грибоедов поднялся с кресла – чуть порывисто, как будто хотел стряхнуть с себя наваждение. Неслышно подошёл к фортепьяно – старому, с латунными подсвечниками, чуть потёртыми у основания. Здесь, у этой клавиатуры, каждый день хлопотал Сашка Грибов – с тряпочкой, с усердием, с почтением – как жрец при алтаре. Протирал пыль с белых клавиш, с крышки, с бронзовых завитков – чтобы всё было чисто, когда Александр Сергеевич сядет играть.
Он часто музицировал – не из прихоти, а как из необходимости: сбежать. От будней, от дум, от Петербурга, от страны. Моцарт, Гайдн, Вебер, Бетховен – имена, ставшие убежищем, где ум не стеснён и душа не подвластна приказам.
Из кармана сюртука он вытащил кожаный напалечник – коричневый, с лоском от частого прикосновения. Надел на короткий левый мизинец, почти машинально, и опустился на край табурета, немного склонив голову набок, словно прислушиваясь не к звуку, а к тишине. Крышка легонько щёлкнула, как перед откровением, – и он, не глядя, коснулся слоновой кости клавиш.
Лёгкие, пробные аккорды прошли по комнате – как тень. В них слышалось нечто вроде вопроса. Кому? Себе? Инструменту? Тем, кто ушёл – и тем, кто остался?
И вот – уже звучит вальс. Его собственный, в ля-бемоль мажор. Сначала едва различимо, будто просыпалась где-то под снегом тонкая весна, ещё колючая, но живая. Где-то на крышах – капель, где-то вдали – тонкий, нетерпеливый ручеёк. Всё в нём подспудно подгоняло время – торопило жить.
Мелодия то замирала, то вновь набирала силу. Пальцы его лениво – но точно – переплетались с клавишами. Момент – и он снова ускоряется. Всё тело в напряжении, взгляд потуплен, дыхание затаено. Это уже не упражнение, не привычка – это диалог. Непереводимый, глубокий, беспокойный.
Так мог играть лишь тот, кто любил музыку всем существом, кто владел ею не как ремеслом, а как судьбой. Музыка была не утешением – вызовом.
Потом он вытянул руки на клавишах – руки, казавшиеся длиннее, чем были, – и замер. Комната наполнилась тишиной – не той, что предшествует звуку, а той, что следует за ним, как эхо раздумья.
И вдруг – новая волна. Вальс ми минор. Этот – совсем иной. Плавный, певучий, с оттенком грусти, будто писал его человек, предчувствующий расставание.
В нём всё было – Петербург и Москва, дуэль и дорога, чай в гостиной и допрос на гауптвахте. Этот вальс уже не принадлежал ему одному. Он разошёлся – в тетрадках, в альбомах, переписанный дамскими руками, звучал то в бальных залах, то в учительских квартирах, то в память, то в знак. Его играли, не зная до конца, кто автор, но чувствуя – боль там настоящая.
Он доиграл. Снял напалечник. Положил его на край крышки.
Музыка растворилась. Ощутимая, как запах весенней земли после дождя. Грибоедов сидел, не шевелясь, и будто слушал ту самую тишину, которую оставляют после себя только вальсы, – и горе от ума.
А ведь когда-то его и впрямь могли лишить возможности играть на фортепьяно… Ах, скверная, нелепая история!
Ведь нельзя же, решительно нельзя стреляться всерьёз из-за женщины – какова бы она ни была. Даже если неверна. Ведь женская неверность – дело обыкновенное, происходит будто бы помимо воли, как ветер в распахнутое окно – налетел, взъерошил занавеску, и исчез. А коли уж нестерпимо взгрустнётся, коли тянет к пистолету, так уж лучше стреляться шутя – с изяществом, с иронией, с французским извинением на устах. А не так – всерьёз, по-глупому. До помешательства.
Случилось то в 1817 году. Тогда он, в чине губернского секретаря, был определён в ведомство Коллегии иностранных дел – вместе с Пушкиным и Кюхельбекером. Там и завязалось их знакомство. В ту пору он жил на одной квартире со своим добрым приятелем, графом Завадовским. А тот, как на грех, ухаживал за блистающей звёздой балета – Евдокией Истоминой.
Дунечка, прелестная Дунечка… С чёрными, словно уголь, глазами, прикрытыми длиннющими ресницами, с гибкой, воздушной фигуркой, – она по праву слыла первой танцовщицей столичного Большого Каменного театра. Но судьба распорядилась иначе: едва поднявшись на вершину славы, она стала одной из самых желанных и, увы, самых содержимых женщин Петербурга. К её ложу выстраивались очереди жаждущих. Отныне возвышенное и низменное, небесное и земное, духовное и плотское – слились в её существовании в нерасторжимом единстве.
Но будем же милосердны и не станем её упрекать – ведь кулисы, уборные актрис, классы театральных воспитанниц – весь мир этих молоденьких, прелестных, не обремененных сдержанностью девиц с высоко поднятыми по моде волосами и открытой нежненькой шейкой, был постоянным источником любовных приключений.
Самые робкие мужчины лорнировали из лож, ловя мелькание ножек в вихре юбок. Смелые – стремились подсадить барышню в карету, а там, воспользовавшись моментом, сунуть дерзкую ладонь под многослойный подол, ощутить шелковистость чулка, батистовую мягкость панталончиков… А если уж особенно повезёт – и прохладу самой кожи. Но такое везение выпадало не часто.
У ног Дунечки, воспетой забиякой Пушкиным, крутилась вся светская молодёжь: лицеисты, чиновники с животами, военные с саблями. Поклонники осаждали её дом, бегали за её экипажем, поджидали в мороз и в слякоть, лишь бы услышать пару слов от «прелести Истоминой». А она – вдыхала фимиам поклонения и одаривала ласками – взамен на звонкую монету или изысканный подарок. Как говорят англичане: задаром – ничего, а за пенни – лишь самую малость.
После графа Орлова счастливым обладателем блистательной Истоминой стал кавалергард, штаб-ротмистр Василий Шереметев – влюблённый без памяти. Молодой человек знатного рода, с благородными чертами, тонкими манерами, с наружностью, будто сошедшей с классического портрета, – и вместе с тем ветреный повеса, великосветский балагур, любимец дам и соблазнитель, за которым уже тянулся завидный список побед.
Дунечка поселилась у него в квартире, где её окружили неслыханные знаки обожания. Но эта страсть, яркая, пламенная, оказалась – губительной. Шереметев, при всей своей галантности и породистой воспитанности, по натуре был – второй Отелло. А поскольку содержанка его была молоденькая, весёлая, бойкая, да к тому же вечно осаждаемая толпами влюблённых, приходилось ей, признаться, не сладко.
Среди приятелей Василия встречались особы весьма занятные. Частым гостем был, например, уланский штаб-ротмистр Якубович – театрал, проказник и отчаянный забияка. Столицу он прославил своими затеями: то привяжет квартального надзирателя к прирученному медведю и пустит погулять по Садовой, то, в добром расположении духа, выпьет бутылку шампанского с подоконника, болтая ногами в окно, словно не человек, а герой баллады.











