Читать онлайн 80 лет Победы или Одуванчики
- Автор: Иоланта Сержантова
- Жанр: Социальная психология, Литература для внеклассного чтения, Природа и животные
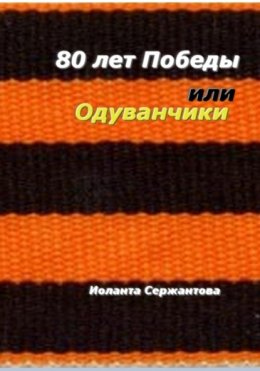
Одиночество
Не суди́те, да не судимы будете, ибо…
(Евангелие от Матфе́я,Глава 7)
Всякий живущий, будто на плахе в ожиданьи палача. Для привести себя в беспамятство относительно сего факта, каждый употребляет своё. Один листает страницы книг, не придираясь к мотивам и авторству, другой вчитывается в неразборчивый почерк аптекаря на сигнатурах, иной с подробностию исследует листок с перечнем кушаний в едальне, коих не счесть. Бывают и таковые, что кажется озабочены чужой судьбой более собственной, но не умея принять в ней участие, не тратя сил, следят со стороны. Не разделяя переживаний, судят, как умеют, – правильно ли живут жизнь свою соседи, приходящие к ним визитёры, родычи и прочие званые и незваные гости.
Неведомо, много ли таковых судий на свете, мало ли, но с одной похожей на них особой приходилось не то что встречаться, но даже пребывать в соседстве не один год. Величали особу затейливо – Эммой Эрвидовной. Фамилию её, записанную некогда конторщиком в домовой книге, никто, кроме домоуправа не читывал, а тому держать в памяти название жилицы было не к чему и недосуг. Посему, окликали даму Эрвидовной, чему она препятствий не чинила, отзывалась на отечество с явной охотой. Промеж иванн и петровичей мнила себя Эмма Эрвидовна диковинной птицей, кой с небрежным любопытством разглядывает пегие наряды местных хозяек, что явно проигрывают в сравнении с её пёстрым сиянием. При всём при том, как и при зрелом размышлении, нельзя было б не отметить, что пестрота её отчасти была неуместна и не к месту, подчас, что вовсе не одно и тоже.
Надо сказать, сие обстоятельство не явилось помехой для Эрвидовны. Не сумев найти себя в поприщах, с коими легко управлялись местные, смирившись с укладом их жизни, но не набравшись решимости приобщиться к нему, Эрвидовна освоила не единственное в подобном случае, но лежащее на самом виду искусство порицания.
Судя по ветхости ридикюля, без которого Эрвидовна не покидала своей комнаты, чистоты камня кольца, вросшего в сморщенную кожу мизинца и серебряной ложке с литерой «F»1 прописью – столового прибора, при помощи которого были употребляемы первое, второе блюдо и компот, – Эмма Эрвидовна была совершенной старушкой, но облик имела женственный, с претензией на элегантность. Гримаса недовольства и потребность судить обо всех портили её видимость, о чём она вероятно, не догадывалась, либо не принимала на свой счёт, а то и вовсе причисляла к наветам завистников.
Итак, напившись кофию и прибрав за собой, – непорядка Эрвидовна не терпела, – она присаживалась у приоткрытого окошка своей комнаты, что, к несчастью соседей выходило во двор, и принималась осуждать. Всех и вся, громогласно, с очевидным удовольствием, с оттяжкой, как обыкновенно секут розгами. Иногда, редким случаем, не преминув высказаться напрямки,. Она делала это хлёстко, метко, изощрённо от того. И хотя выходило несколько грубо, оставляло после себя оскомину прозвищ, обиды и слёзы, соседи сносили молча, словно стесняясь охолонить гражданку, может, жалели даже. Мало ли, одиночество на всяком сидит по своему. Один тихо тает свечкой, а другой – криком кричит… Каждому – своё2.
Из-за неё одной…
– Что-то вы, батенька, постарели сильно!
– А вы, как я погляжу, не поумнели!
– Ха-ха-ха! Ты не изменился! Ну, здравствуй, дорогой! Давно не видались!
– Рад лицезреть тебя в здравии!
– Да где там, какое здоровье. В зеркала уже и не смотрюсь, боязно. Сморщился, как тот изюм.
– А ты не барышня, чего тебе там разглядывать! К тому ж, морщины, они понимаешь, примета…
– Старости!?
– Ну не мудрости же, Господь с тобой!
– Как я рад, как я рад нашей встрече!..
…Морщины? То от дум, ещё скорее, – растянутая слезами, либо набрякшая кожа, омытая водами многих… немногих лет. А в глубине тех, то мутных, то прозрачных до невидимости вод, чего только нет.
Видение нежно-розовых почек на вишнях весной, будто налитых кровью; в небо прищур в поисках стаи, что летит издалёка и никак не понять. – кто там, в вышине. Слышится то клёкот, то гогот, то сами меха многих крыл, что ходят ходуном, разгоняя соки весны и её саму, будто правят матрёшку, кой ставят на потеху малышне «каженную ярманку».
– Где ты, а где та «ярманка»!
– Да это я так, шутейно…
Было время, когда, развалясь, словно бы на подушках дивана поверх дремлющих коз, я читал… читал… читал, покуда проголодавшиеся давно животины, шумно почесав спины кончиком рога, не принимались недвусмысленно тянуться губами к странице, скосив в мою сторону лукавый и ласковый золотой глаз.
Высокая трава скрывала нас от солнца и посторонних, так что даже мать не смогла бы отыскать, не окликнув. Да что мать, гневливые шершни наперегонки с гнусом, щелчком сбивая пыльцу с трав, пролетали мимо, не подозревая об нашем существовании. А вот, когда лучшая половина дяди3определённо и совершенно некстати намекала на отсутствие пирогов в траве, приходилось закрывать книгу на самом интересном месте и тащиться в дом.
– Ты по-прежнему много читаешь?
– Вовсе нет! Скорее, перечитываю. В том, что читывал ранее, ищу любимые места. Путешествую между ними, как по архипелагу. Ищу тех чувств, кои рождались во мне тогда, когда я совсем не знал жизни, но лишь пытал её своей наивностью.
– И что теперь? Понял ли ты жизнь, узнал её?
– Отнюдь. Знание вооружает нас лишь отчасти, да и то, с нам ровней. Что касаемо жизни, я по-прежнему несведущ, неискушён и беззащитен перед нею. Потому ли, нет, но я полюбил её ещё сильнее, а большего, пожалуй, человеку не дано.
…Морщины. У кого-то они врастают маской скорби, застывают гримасой горьких дум, а у иных разбегаются лучиками по лицу.
– От чего это?
– По причине доброй улыбки, друг мой, из-за неё одной…
Как повезёт…
Вячеславу Бухтоярову,
актёру Воронежского академического театра драмы им. А. Кольцова,
заслуженному артисту России
По обыкновению многих, чьим ровесникам сказано уже последнее прости, наш герой, куда бы не направлялся прогуляться, всякий раз находил себя бредущим по саду скорби. Завидев очередное высеченное на памятнике знакомое лицо, он приподнимал шляпу, здоровался и принимался беседовать с ним, обращаясь будто к живому. Задавая некий вопрос, он неизменно и невозмутимо принимал разумеющееся само по себе молчание собеседника за согласие. Когда ж решимость его иссякала отчасти, он вчитывался в годы жизни приятеля родственника или знакомца, после чего, махнув сокрушённо рукой, переходил к следующему надгробию, где история повторялась, с тою только разницей, что разговор вёлся о другом и несколько иначе.
В ясные дни он был благодушен, в непогодье соответствовал ея плаксивому настрою, и нарыдавшись вволю, с определённым чувством довольства и опустошённости, сморкался в обширный платок, кой доставал из бокового кармана брюк.
Покончив с этим и выговорившись до последнего междометия, наш герой отправлялся восвояси, под сень пыльного уюта собственной квартиры, наполненной вещами того приснопамятного времени, когда он был ещё в силе. Задумываться о конечности в ту далёкую пору было недосуг, всегда находились куда более важные занятия.
Но днём, который по случаю оказался у нас на виду, всё пошло как-то не так. Сослепу лил дождик, а в кармане странным образом не оказалось платка, к тому же героя нагнала похоронная процессия, коих он не то, чтобы опасался, но не любил, как недвусмысленное напоминание о бренности его самого.
Посему, едва толпа сокрушённых скорбью и праздношатающихся поравнялась с ним, он поспешил шагнуть в ближайшую, нехоженную им доселе тропинку, где едва не сбил шляпу о венок, что, мерно постукивая, раскачивался на высоком кресте свежей могилы.
– Вайнруб Павел Ювенальевич… – машинально прочёл наш герой и охнул.
Выведенные золотом на чёрной ленте буквы расплывались у него перед глазами, как некогда растекались по листу чернила выписанного соседом по парте урока чистописания.
– Ты чего плачешь? – невзирая на испорченную тетрадь, пожалел его товарищ тогда, чем расположил к себе и положил начало крепкой, на века, дружбе.
Неделю.. нет! – меньше недели тому назад они повстречались с Павлушей у филармонии и порешив скрасить взаимно предобеденный променад по городскому саду, хорохорились друг перед другом, заигрывали с барышнями, проказничая по-стариковски, покуда не утомились и не присели, наконец, на скамью.
Тогда-то, подозрительно долго пристраивая трость у ног, Павел и заговорил:
– Хочу спросить тебя…
– Спрашивай!
– Ты… ты чувствуешь, как ускользает жизнь?
На вопрос, заданный с надрывом и горечью, нельзя было ответить шутя даже другу детства. Тем более – ему! И наш герой, хриплым от внезапного волнения голосом, признался:
– Да. Иногда, почти всегда, мне кажется, что я иду по краю песчаного обрыва, и с каждым шагом почва всё зыбче…
– А мне… А я… Вот – как есть! Знаешь, как будто за мной бежит кто. Наверное, это время, оно дышит нам в спину, наступает на пятки.
– Только чувствуют это не все.
– Или не хотят замечать.
И вот теперь…
– Павлуша!!! Как же так… Зачем ты?! Лучше бы я…
И не спросит он уже ни о чём. Из-под двери его квартиры пахнет лекарствами, а ненужная трость с ухватистой, удобной рукоятью, стоит теперь в углу прихожей сиротливо.
Надо ли говорить, что после того дня наш герой перестал бывать в этом, полном горя и слёз месте.
Поздно ли, нет, но понял он, что говорить надо с живыми, радовать их, насколько хватит души, а там уж – как повезёт…
Слякоть да мокреть
Не за страх…
После утреннего туалету округа была вся в каплях воды, которые, как не обзови, однако ж окажутся наощупь мокры.
Всякому, кто норовил до неё дотронуться, округа улыбалась нежно и, отстраняя легонько, – ровно также удерживают, оберегая, любимое единственное дитя, – касалась обветренными губами лба, нанеся на него прозрачный оттиск, что холодил, высыхая и оставлял после себя ровный блестящий след, похожий на незначащий ничего, незамеченный, случайный ожог.
Того ж, который осмеливался тронуть округу, ожидали суровая встреча и отпор.
– Охолони! – приказывала округа, не дозволяя к себе непотребства и дум недостойных. – Прежде вычисти тело, и душу омой степенством с раскаянием! – требовала она.
– Чего это мне слушаться да пресмыкаться пред тобой?! – принимался было возмущаться некто, да и замолкал на полувздохе, когда била округа ладонью сразмаху поверх омытого чисто стола лужка, так что с дерев, которые по краям, сыпались сухие давно ветки.
Случалось, просыпалась когда совесть у невежи от того. Одумывался после. Жаль – через испуг, не через другое. Какой ни на есть страх, его ещё бОльшим перебить можно. Это вот ежели через любовь, через её споспешество4, то с тем уж ничего поделать невозможно, не истребить – не изломать.
Ну, да одно упование, что не единственное на свете то утро у округи. Глядишь, полюбится она и тому, кто не уподоблялся5ей, и в прочих ему казалось то странным. Да как озарит его однажды любовью к месту, в котором жив, после уж и поймёт, что невозможно помыслить ему быть с нею порознь.
…После утреннего туалету округа была вся в каплях воды. Роса ли это, либо дождик ночью потоптался у окошка, всё одно – слякоть да мокреть.
По техническим причинам…
Дарья Дроновна была хозяйкой, хоть куда. Причём, в прямом смысле слова. Чуть где у соседей затевалось веселье, именины, свадьба, либо, того хуже – поминки, она тут, как тут. Перетянутая надвое передником, с убранными под косынку волосами и утиральником через правое плечо, готовая хоть к печи, хотя картоху скоблить.
С первого разу, как пришла Дарья подсобить к соседям, хозяева таковой помощнице были весьма рады. Так что стала она навроде непременного свойства: коли событие, Дарья Дроновна при деле. С одною только загвоздкой. Кушаний, которые приготовляла Дроновна, гостям не подавали. Работой её нагружали простой: почистить, помыть, поднести. И не от того, что была неумелой, дело было в другом. Коли отведывал кто её стряпни, тут же одолевала его хворь. И столь подолгу маялся сердешный… Покуда не смекал о причине. А как только достигало его разумения, что, мол, такого-то дни угостился по случаю кашею с пирогами у Дарьи Дроновны, – так сразу, ровно рукой снимало немочь, и оказывался бедолага здоровёхонек, лучше себя прежнего.
Что за напасть такая, прознали не враз, а уж как скумекали, то уж и сделать ничего неможно. У годов только прямой ход, взад никак не идут, а сучок, об который споткнулась судьба Дроновны, там и врос.
Дарья Дроновна страдала леворукостью. Многие помнили её девочкой, да немногие знали про то, что родилась она, как все, но напужал её однажды чужой мужик, без спросу зашедший с улицы во двор, где маленькая Дашутка возилась с цыплятами. Вот с той поры страх в ней и застрял, заодно участь переложил из руки в руку. Разучилась правая справлять работу, а левая оказалась на удивление ловка. Мать заметила перемену, поохала, да за заботами забылось, – девка помощница знатная, а уж какая у ней рука проворнее, и дела нет.
Дарьюшка росла, родители старились. Супротив натуры не попрёшь, одёжа, вон и та без сносу не бывает, а уж человек от роду хлипок да слаб.
Рано лишилась Дарьюшка родителей. Год после того прошёл, как стали к ней сваты захаживать. Накроет девушка стол пирогов да пышек, ватрушек да шанежек, угостятся незваные-жданные на славу, а после молчок, к ней больше не идут, животами маются.
Так и вековала Дарья Дроновна в бобылках. Случилось однажды прохожему путнику попроситься к ней на ночлег. Пустила его Дарья, указала, где лечь, а гость не из стеснительных запрашивать, нет ли у хозяюшки чего покушать. Дашенька ответила, что всего полно, да всё вкусное и сытное, только опасается, как бы с гостем худое не вышло.
Путник весь голодный и не робкого десятку, корми, говорит, спробуем, а коли что, – слово в залог даю, не обижусь. Живот, мол, эдак подвело, что хоть калоши ешь.
Ну и накормила Дарья Дроновна гостя до отвала, так что тот насилу постель нашёл.
Поутру же… в дому ни путника, ни иконы, что от родителей осталась присматривать за Дашенькой из красного угла…
– Дарья! Дронова! Не спи! Выйди, умойся! Жених, видите ли, бросил. Дурак, коли не разглядел в тебе человека. А то, что левшой уродилась, так настоящий-то Левша чужеядных6 ковал десятками! Неужто ты хуже!?
И запомни, к продуктам с дурным настроением – ни-ни! Это вам не самолётостроительный, а кулинарный техникум! А то пилоты стряпни вашей, в слезах, как поедят, после ни один самолёт не взлетит. Так и напишут на табло: «Вылет по техническим причинам отменяется».
Готовность любить
Редкая нынче звёздная ночь выманила меня из дому. Пары шагов хватило, дабы оказаться в её объятиях. Задравши голову и устремившись ей, летящей навстречу в лёгком плаще звёздной метели, позабылось всё: и где я, и каков. Всякое нужное, за что мы так хлопочем, отстало луковой шелухой, и осталось оно нигде, а вокруг всё и ничто. Мы один на один: ночь и я.
Играя бриллиантами бус, как блеском глаз, вечерняя роса кокетничала с ночью, что сверкала очами звёзд ей в ответ. У них всё невинно, ибо издалека, на расстоянии. Взгляды, вздохи и ничего боле. Земля и в самом деле недотрога, но вынужденное своё девство воспринимает, как вдовство. Кажется, будто у неё всё уже было. И было хорошо. Так что лучше уж – никак.
Но впрочем… земля счастию прочих не помеха. Взять, к примеру, совушку-сыча, того, что величиной с дрозда. Проверяя, так ли пуст лес, тот охает на все лады. Из сострадания хочется окликнуть его, откликнуться, но промолчишь, ибо от другого ожидает он ответа.
Грусть птицы кажется очевидной даже в ночи. Гласом своим, призывом. готовностью любить, как пронизывающей округу жалостью, являет он безыскусную свою тоску. Одиночество истомило его пуще зимней поры, что никак не желая оставаться в прошлом, смахнула белые снежные крошки со своего плеча на летящего мимо сыча, да так, что застряли они навечно промеж перьев и пёрышек, и сделался сыч от того, будто рябой. Да так неуверен в себе, что в ожидании одной на век суженой, охает, блюдёт себя и покуда живёт бирюком.
Рассвет выложил к завтраку пряник утра в глазури. Надо же, казалось, что съедены подчистую, не осталось ни крошки.
А за рассветом полетит в пропасть прошлого письмо очередного дня со штемпелем паутины в правом верхнем углу. И не ударится ему обо дно почтового ящика бесконечности. Там уже довольно их: и тех дней, и даже ночей…
Как полагается
Загрунтованный облаками холст неба всё никак не просыхал. Подрамник горизонта кис с тоски и квасился, будто картонный, но ещё больше он походил на неровно обкусанную хлебную корку. Из-за съеденного недавно мякиша, во рту у округи было сладко, а посему ею овладело благодушие и безразличие от того ж. Округа предавалась истоме рассвета и никак не решалась оторвать голову от подушки небосвода, устремив немигающий взгляд в сторону заката.
Единственный её глаз – солнце, слезился и мешал рассмотреть частую поросль нежных трав, что в сравнении с чёрной, сытной от стаявшего снега землёю, чудились зелёными колючками.
Невзирая на очевидные приметы весны, пейзаж по-прежнему оставался совершенно осенним, ибо скошенные косой метелей крапива с чертополохом, толстые, едва ли не в палец сухие их стебли цвета неспелой ржи, закрывали заспанное лицо земли, дабы избавить её от стыда за вынужденную неопрятность и разочарования в себе, что повсегда заодно с понуканиями от прочих, чьих заслуг всего-то и было – не воспротивиться родиться.
Но день-таки шёл своим чередом, и помимо верных ему синиц с воробьями, разглядел он наконец и тихоню соловья, словно просыпанного из мелкой щепоти кишнеца7, и овсянок, что насыпало будто горстью горчишных семян, и малиновок, выпачканных в жёлтом инбире8…
Весна ступала тихонько, приподняв одной рукой подол, дабы не замочить. А второй тянулась перенять из стылых рук зимы вожжи, отводила повозку округи малым ходом, с тем, чтоб не забрызгать никого, но чуть погодя, встряхнуть всё же хорошенько привязанный к удилам ремешок и припуститься, да так, чтобы со всей удалью, с не знающей удержу буйством юности, как тому и полагается быть весне.
Поэзия бытия
Ветер рвал бело-голубую тельняшку на широкой груди неба. Невмочь ему было слышать сладкий аромат духов весны. Ему бы, душа нараспашку, терпкого, солёного навстречу с моря, чтобы волосы гладким зачёсом назад, и шевелением ресниц ощутит движение воздуха… Простор! Безбрежность! А там… в городах…
Запах коротко стриженых газонов, бьющий наповал кошачий дух из подвалов и раскатанного тестом мокрого асфальта у парадной. Через приоткрытый запАх её двери, заколотый булавкой табурета жильца из первой квартиры, доносится жирный запах котлет и приторный – компота, из квартиры напротив, через замочную скважину сквозного замка, не менянного с пятидесятых, как из заварочного чайника идёт зримый жар свежеиспечённой сдобы, насытиться которой, кажется, можно прямо так, стоя у дверей.
Хозяева второй квартиры хлопочут молча, а из первой квартиры слышится недовольное ворчание, больше похожее на собачье, чем на старческое, и возмущённый, ему в ответ:
– Да не брюзжи ты! Котлеты на обед! И компот только к часу остынет! Не прибедняйся! Вон тебе оладьи со сметаной. Хочешь – молоко наливай, не хочешь – чаю. Неужто не хватит?!
Заместо хлопотанья крылами – воздух кухонь гоняют дверцы шкафов, а стук ножей по разделочным доскам, как будто дятел работает с деревом, забравшись под потолок леса…
Вот и выходит, что в этом во всём тоже есть некая поэзия. Не слаженность посторонних друг другу слов, но слияние душ, во взаимном… не притяжении, нет, не только, но в обоюдной невозможности существовать друг без друга.
Ровно тот сосуд…
Раскрашенная под черепаху божья коровка, с достоинством своей тяжеловесной подруги и схожей с нею же основательной неповоротливостью, брела по отёкшему, необременённому содержанием боку стеклянной бутыли, невесть с какого резону высаженной из проезжающего мимо пассажирского.
Поезд, подмигивая красными от недосыпу глазками задних фонарей и раскачиваясь из стороны в сторону, как грузная нечистоплотная базарная баба, удалился восвояси, а сосуд, присвистнув фистулой тихонько из-за простуженного горлышка и принялся обживаться на новом месте.
Было б ему рухнуть на самую насыпь с вострыми гранями гравия, о чей вздорный, колючий норов поранился всякий, ступивший неосторожно, ан нет – как есть целёхонек, приземлился на чищеный недавно сошедшим снегом плотный ковёр мха цвета свежего салата.
В ожидании солнца и его лучей, что забавляясь любят играть со всякою безделицей, тешатся своим в нём сиянием с переливами, бутылёк кокетничал перед оказавшимися подле букашками, заманивал их сладким клейким духом исходившим из его сути, от немытого донышка.
И уж так ластились к стекляшке букашки! Муравьи собрали было совет, чем незваного гостя потчевать, так гость в отказ, – сам зазывает к себе, разделить сладость остатков, что чудом уцелели, пока летел он из приоткрытого окошка купе мягкого вагона да в душистый, чистый и душевный от того лес.
Бахвалился бутылёк, хвастал собою, не зная меры, хотя по правде, – не его в том заслуга, что сладок, ибо всякий, ровно тот сосуд, – чем наполнится, тем и будет славен.
Дай-ка я сам…
– Поскорее бы… – умоляем мы время, и только ради нас одних, шибче крутит оно педали своего новенького по мерам Вечности трёхколёсного велосипеда. Кокетливые, милые завитки его волос прилипли к к вискам, промеж лопаток струится излишек жара тонким холодным ручьём…
А мы досадуем на его мнимую нерасторопность, да гоним, гоним… Почто?!! Дабы не успеть утомиться от жизни?! Проскочить её, как полустанок с шатким валуном заместо платформы, куцей липой вместо навеса и запертой давно кассой в домике с замысловатыми окошками да забитой навечно дверью, обитой крашеной жестью, к которой ведут обветшалые за годы ступени, истёртые ногами тех, многих, что точно также понукали временем, вынуждая его бежать впереди.
Ну, так истощится его терпение и примется мстить оно заодно, то время. Забравшись на скалу из убитых нами минут, загубленных часов и сброшенных в пропасть небытия десятилетий, время бросит однажды и руль, и педали, позволяя дороге управляться с ним самой. А куда она вывезет, – вЕдомо: в горькое от рыданий беспамятство, до последнего в родУ, что пожмёт плечами равнодушно и бросит в печь семейный альбом, пухлый от открыток с неведомыми ему адресами да карточек, с которых, сквозь будто ржавые пятна, – следы жирных пальцев того самого времени, – безымянные навек лица смотрят с извечным укором.
А что стоило б… Не грустить о прошлом, не загадывать наперёд, а тронуть тихонько время за плечо и попросить с улыбкой:
– Пожалуйста! Дай-ка, я… Прокачусь, наконец, и сам…
Ей-ей…
Вяхирь отчитывал утро за поздний рассвет. Он метался из стороны в сторону, стирая пену облаков с розовых щёк неба, что остались после умывания и ворчал, по обыкновению:
– Куда? Куда?! – и с досадой во всё своё существо, срывался в пике к ближайшему дереву, дабы порыдать, но ввиду не случившийся покуда листвы и невозможности скрыться от посторонних глаз, вяхирь выдыхал скопившуюся горечь протяжно и принимался хлопотать подле утра вновь. А оно, встряхиваясь по лошадиному, разбрасывалась и пеной, и каплями воды из-за которых короткие реснички пригорков из совершенно молоденькой травы, слипались, мешая тем моргать.
Покуда вяхирь устраивал чужую жизнь, радея об ней, остальные птицы занимались своею. Их мало заботили печали дикого голубя, у них было в достатке собственных. Непросто поделить малое количество сонных весенних мошек на всех, да чтобы поровну, а не одному урвать поболе прочих.
То же самое и со свободными барышнями, и с вдовыми, а то и вовсе замужними; непросто и суетно и с плетеньем гнездовых корзинок. Кому нужно полегче, кому повесомее, да ещё бы пуху, либо мягкого мха.
Соловей, тот исподтишка, супротив себя, – молчком пробрался к околице, где наловчился рвать бумагу из почтового ящика, что висел на уцелевшем пролёте забора, некогда хороводившего вкруг опустевшего за ненадобностью дома. Читать соловейка как не умел, так и не научился, посему его колыбель у забора сделалась похожей скорее на корзину для бумаг в кабинете некоего разуверившегося в себе писаки, нежели на гнездо первого в округе певуна.
Иссудачились9 вяхирь с рассветом, не заметили подле себя полдня, но тому не в обиду, – от него даже тень прячется, и рассвета он николи10 не видывал, да про вяхиря, голубя лесного, слыхом слыхивал, а воочию чтобы – так ни разу не приходилось.
За делом время скоро бежит, за безделием мается, что лучше – поди, рассуди. А и рассудишь, всё одно – ошибёшься, ей-ей11…
Нельзя терять ни минуты…
Ястреб не простирал крылья, но по-просту, по-босяцки будто обнимал всех. И не свысока, но с высоты:и землю, и кто ходит по ней, и которые, вцепившись в почву пятернёй корней, растут, тянутся к солнцу, не опасаясь его жара.
Касалась расположение ястреба и часовни, что приникла к холму тут же, поблизости.
Обжигая взгляд, золотой стрелой, чудилась она словно вонзённой в облако, что тачала она промежду служб на досуге, к самомУ небосводу. Сияния часовни хватало и на то, чтобы озарить светом округу, и на возжечь спичку души всякого, кой потянется к ней взором. А коли подойдёт, не шутя восхитится бисерному плетению креста, схожему с кудрями усов бабочек, и нанизанными на них каплями нектара.
Ястреб не долетал до домов на берегу пустой почти ото льда реки, но было видно ему, как те будто таяли отражением в ней. Там же и облака мочили свои обветренные пятки, скосившись на лукавый прищур месяца сбоку неба, кой недвояко толковал о грядущей вот-вот ночи, когда уже сточит месяц по краю до многих искр звёзд, что вылетают из-под точильного круга мироздания.
Покрикивая жалостливо, птица присматривает за миром, а где-то там внизу, малыш прислушивается к тому, что делается за стеной колыбели. Взгляд его голубых глаз серьёзен. Покуда не видит и не агукает мать, что заслоняет от него свет, он может побыть самим собой. Человек слишком мало живёт, чтобы воспользоваться плодами своей опытности сполна. Надо спешить, нельзя терять ни минуты…
В самую суть…
Нестрой птичьего хора встречал вспотевшее туманом утро. Покуда певчие задирали к потолку небес свои детские лица с приоткрытыми, набухшими от слёз семенами глаз, косули порхали бабочками поперёк сумерек. Махом румяного крупа, схожего с золотистыми крылами ночных мотыльков, они намекали на живущий своей жизнью лес. И в темноте, и в мороз, и претерпевая под проливным дождём хворость, и ранясь о хворост, а уж тем более – весной, даже вдыхая комаров на бегу.
Кто про что… Не страшилась пальца бабочка, не осторожничала, перелетая кругами с полукружиями всё дальше и дальше. Да не с весеннего спросонка, не сдуру, но по памятливости. На том же пальце были сложены её глазастые крылья с глазоньками сонными, тою же рукой уложена некогда в сараюшке на поленнице, принята в осень и зиму на постой, на сохранение. Так чего ж ей теперь пужаться и кого?!
На небосводе полян взошли созвездия первоцветов. Несчитаны, несорваны, сочны луковки целёхоньки. Сжимает их крепко в кулаке лужок, а промеж ними бегают две трясогузки, трясут на пару платье, залежавшееся да пропылившееся в дальней дороге. Дело делают птицы, а нет-нет прервутся и поклонятся пригорку с лужком и впадинкой, подле которых выросли, с которым для порядку распрощались по осени насовсем, не ведая, – возвернутся ли в родные края. Кланялись трясогузки и солнышку, что казало рыжий чуб не из-за гор, а из плетёной корзины кроны леса.
…Обознавшийся шмель провёл в полёте по волосам, и возмущённый своею опрометчивостью, взмыл, но разом продрог, с тем одумался, раздвинул пределы обычая и присел в пышный от росы ворс травы у ног. Ни с чего случился его ненароком испуг. Ему, баловню весны, мало, кто и не рад. Казалось бы – всем быть должен доволен. А вот, подишь ты… Есть он, жив в каждом сущем, тот безотчётный страх. Не изловишь его, как ту муху, не прихлопнешь по-комариному. Потому – норовит он с дыханием вовнутрь. В нутро. В самую суть…
Для чего
Весна возвращала зиме взятое взаймы. Сперва она делала это втихаря, ночами, подобрав под косынку с искрой седые кудри облаков и засучив на худых руках рукава, в темноте похожих на ветви. Коли б не те сверкающие в движении крупицы, платок весны вполне сошёл бы за траур по ком-то, очень ей дорогом. Но, к счастью, нет. Ничего такого.
Весна судила так, что для веселия нужно основание, которое не должно происходить на пустом месте, и в свой черёд, – оно не вылупится само по себе птенцом. Как кладка требует тепла и бережения, так и радость взыскует попечения об себе, её нужно приготовлять, пестовать.
Намерение и то доставляет беспокойство, на одно лишь предвкушение уходит немерено заботы, так что иногда на саму утеху уже не хватает сил. Остаётся только сидеть тихонько в уголку, и улыбаясь доброй улыбкой, наслаждаться довольным видом прочих, но с чувством того, что сделано всё возможное, а невозможное или то, что так и так случится, не зависимо от хотения… К чему волноваться о неизбежном?..
Но коли всё эдак, для чего было делать тот долг? Почто брала весна у февраля? Чьим вниманием желалось ей овладеть столь крепко и так заране? Да кто ж рассудит весну, кто осудит её, коли когда и самому, бывало не раз, оказывались тесны пределы приличий и условностей.
Пусть его! Дорога обозначена не абы для чего, но именно для тех, которые готовы отступить от неё, приложив к тому силы, которых – только на раз. на одну единую жизнь....
Чего ж…
Покуда рассвет вычёсывает репьи звёзд из гривы ночи… Пламя в печи шуршит, листая загорелыми руками страницы рукописи, вчитывается в строки жарким взглядом до черноты, до невозможности никогда больше разобрать написанное. И тут же печётся постный, на ржаном солоде, хлеб…
Утро первой четвери двадцать первого века, по всей видимости, мало чем отличается от начала дня моей бабушки Прасковьи, которая вместо подписи в ведомости почтальона, дрожащей от волнения перед чужим человеком рукой выводила нервный, неровный от того, крестик.
Кажется, она ни разу не ставила креста на своей жизни, быть может, была довольна ею отчасти, даже после череды потерь близких людей. Ибо рядом – муж, единственная поздняя любовь, и дети, что появились на свет, супротив тяготения семейства норманнов кануть в омут небытия, под тяжестью камня наследственности, как ущербности, что передавалась из рода в род и намеревается иссякнуть вскоре. Впрочем, когда то случится – неведомо, а у неё пока всё хорошо. Через войну деток провела почти невредимыми. Контузия у парнишки, голодовали, само собой, но то, как у всех. Бедовали всем народом.
Хорошо помню лукавую усмешку бабки в ответ на что угодно, хохоток, похожий на девичий и взгляд, – наивный, равнодушный слегка, даже немного пугливый, дабы не расплескать себя в дороге бытия из-за чужого к судьбе касательства.
От того ли, нет, бабка казалась временами чудной, как бы не в себе. Или напротив – глубоко в себе, где на дне души плескались уцелевшие воспоминания о братьях, отце и матушке. В такие минуты, не меняя голубого, воистину небесного цвета, зрачки её глаз расцветали мелкими тёмными лучиками, похожими на гузку спелого мака, и бабка начинала петь. От звуков тихого, ровного её голоса, что верно выводило неведомую, но такую искони знакомую, узнаваемую мелодию, отчего-то щемило сердце.
Не могу припомнить, чтобы бабка задержала когда ладонь на моей макушке, привлекла бы к себе и потрепала за волосы с той, навеки глубинной лаской, на которую столь щедры обыкновенно бабушки к внукам… Такого не было никогда. Но вот сами её ладошки помню, вижу, как теперь: с широкими пальцами, повсегда невероятно чистые и сморщенные, будто только что из тазика с мыльной водой.
Голубое, цвета бабкиных глаз, небо и белые облака, как аккуратный седой зачёс её волос. Знать, тревожится обо мне бабка, коли чудится часто, будто даёт знать об себе. Только чего ж она… раньше… тогда! – так не разу и не обняла…
Мудьюг
А.Б.– И.С. декабрь 19**
«Приветствую тебя, мой дорогой друг и товарищ по лженауке!
Зимняя экспедиция в Летнюю Золотицу складывалась непросто.
Дорога туда, супротив обыкновенной, летней, украла немало времени.
Из Москвы тащились паровозом до Архангельска, из Архангельска на перекладных до острова Мудьюгский, оттуда – на Большой Соловецкий, и только после – расположились, наконец в палатках знакомой, надоевшей нам с тобой до печёнок Золотице…»
(Из письма одного океанолога другому)
Мудьюг… Для каждого он свой, о своём.
Для кого-то это – выписанное чёрной масляной краской имя двухпалубного судёнышка, курсировавшего в семидесятых годах прошлого века между Кемью и Большим Соловецким островом. Таковых будоражит замешанная не на скипидаре или льняном масле, а на восторгах новизны и юности надпись, ибо напоминает о временах безмятежности, вкупе с беспечным пониманием, превозношением себя, как всесильного и бессмертного обитателя Вечности с неутолённой жаждой познать неизведанное, каким бы ни оказалось оно.
Есть те, которым Мудьюг знается или, – хуже того! – помнится мрачным не без причины, страшным местом времён Британской интервенции12.
Для меня самого, Мудьюг оказался первым в жизни настоящим островом. Участок суши, со всех сторон покрытый водой, со страниц учебника по географии предстал передо мной однажды во всей простоте своего великолепия.
Когда я ступил на берег острова, тесно поросший соснами, что издали казались горной грядой, то посреди сплошного, бескрайнего, промытого водами Белого моря песка заметил… лапоть. Отвязавшийся некогда от чьей-то ноги, он, тем не менее, был чист, сух и на удивление цел.
Я вертел его в руках ровно с тем же неподдельным изумлением, как рассматривал бы выброшенную на отмель раковину, насильно оставленную моллюском. Этот обыкновенный… необыкновенный холмогорский стУпень с плоским носком был точно также прост, как и замысловат, не более чем ладен и не менее, чем красив. Вероятно, похожий нАшивал Михайло Ломоносов. Само собой, сделан он был из берёзового лыка. Где уж тут взяться липам на СеверАх! Переплетённое с мелкими корешками подкорье13 давало лаптю повод зваться заодно и коренником… Но какая печаль, как его было звать, коли это был мой первый остров, с первым лаптем на его берегу, и… будто всё внове!
И волки, что, не обращая внимания на людей, трусили, не таясь и не труся мимо на охоту промеж торосов замерзающего Белого моря. И сами люди, неутомимые и бесстрашные рыбаки, которые спокойно выходили на дорках14 в море, где их не сдавливало льдом, а выжимало наружу. Да даже бездельники, и те сновали от острова к материку по Сухому Морю15 «за добавкой». Ведь ежели кому сухопутному «сеДмь16 вёрст не крюк», то тем и семь миль не путина.
Логично это или нет, но именно Мудьюг раскрыл мне карты, припрятанную в рукаве Белого моря. Оно ясно дало понять, что не хочет перестать быть собой. И именно потому кажется суровее, чем есть на самом деле.
…Умословие17, как всякая наука, принята человеком в обращение для удобства и наполнения времяпровождения особым смыслом, неким сторонним, не присущим исстари вкусом. Так происходит из-за неумения чувствовать, понимать течение жизни само по себе. Подсаливая время, мы заставляем его страдать, но не умеем сострадать ему, ибо каждый более прочих заботится об себе, о благополучии, в котором нет ровно никакого резона до той самой поры, пока бытие не расслабит створки своей раковины и не даст разглядеть в складках мантии ощетинившуюся кристаллами арагонита18жемчужину, лукаво сокрывшую под слоями радужного перламутра, банальную, попираемую всуе крупинку простого песка.
Рекомендуясь не собой…
Воробей извертелся перед суженой, как курьер перед чиновным, от которого может перемениться к лучшему его будущность.











