Читать онлайн Мордвин
- Автор: Наталья Платонова
- Жанр: Классическая проза
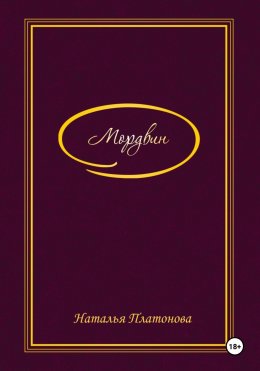
Писатель Наталья Григорьевна Платонова не нуждается в представлении. Её книги завоевали признательность читателя как в Москве, так и за её пределами. С каждой новой книгой автора, её читательская аудитория пополняется серьёзным, думающим читателем. Н. Платонова интересна тем, что для неё не существует «Не её» литературных жанров: от книг для детей, рассказов, повестей, стихов, романов – до философских изысканий. Её новая книга «МОРДВИН» есть не что иное, как философский трактат, анализ жизни социума 50х– 70х годов 20-го века. Автор даёт исчерпывающую, контрастную характеристику разуму, высокому интеллекту личности, и косности, утильности партийно-государственной системы минувшего столетия, подавляющей разумное начало, мыслительные возможности человека, его индивидуальность и многомерность. В воспоминаниях автор приводит яркие сюжеты и реалии из жизни главного героя – человека незаурядного, цельного, обогнавшего свой век, не вписывающегося в действительность окружающего его бытия. В книге много информации, дающей возможность читателю сделать собственный вывод, стать участником неординарных событий, описанных автором. Глубоко трогают сопереживания писателя. Сопереживания болезненные, не стёршиеся за давностью лет; сопереживания бесконечно дорогим людям, давно ушедшим в мир иной…
В целом книга Н. Платоновой «МОРДВИН» оставляет впечатление серьёзного литературного труда. Характеризует автора как многогранного, талантливого, интересного современного писателя.
Литературный критик Петров О. И.
Мордвин
Папу совсем молодого я не знала. Я родилась в 1948-м году. Папе шёл тридцать второй год.
Папа с мамой поженились прямо перед войной, в январе сорок первого. Но об этом позже…
Я осознала и помню себя с двух с половиной лет. И начало моего детства было более чем счастливым. Длилось это счастье очень недолго, пока мама не отдала меня в детский садик. Сам садик я не помню. Помню первое горе, которое там испытала.
После войны ничего не было – ни продуктов, ни одежды. А что было – купить удавалось не всем. Не знаю, откуда у меня взялось пальтишко – бархатное, изумрудно-зелёное, с капюшончиком. Оно мне очень шло. Пальтишко действительно смотрелось замечательно! Детская ли зависть сказалась, или равнодушие воспитателей к происходящему – трудно сказать, но из-за этого пальтишка я в два с половиной года глубоко осознала, каково быть несчастным человеком. Меня дразнили лягушкой. Дразнили все – и девочки, и мальчики. Тыкали в меня пальцем, строили рожицы, приплясывали и хором кричали: – лягушка, лягушка… Воспитатели всё видели и слышали, но я не помню, чтобы детям делали замечания. Почему? Они что, тоже завидовали пальтишку? Или тому, что не могут купить своим детям такое-же? Тому, что пальтишко стоило столько же, сколько их взрослые пальто? А может их раздражало, что мой папа начальник? Дочь начальника, ну и… А причём здесь маленькая девочка? Вот вам и счастливое детство!
Я не знаю, как мама узнала о травле. Как-то узнала. И тут же забрала меня. Прошло ровно семьдесят лет, а я до сих пор помню своих мучителей.
Ребёнок есть ребёнок, его душа открыта для радости и счастья. И я радовалась. Мне очень нравился наш дом. Это было сказочное место! Ещё бы! Недалеко, через дорогу, находился парк. А там… Качели-лодочки, будка с мороженым и карусели с лошадками! А ещё наш большой-большой дом стоял в лесу, на большой-большой горе, а под горой бегали живые лошадки!
Ларчик открывался просто: одноэтажное строение, так называемый финский дом, стоял на небольшой возвышенности, поросшей молодыми клёнами; под горкой находился ипподром, на который нам, детям, ходить запрещалось. Дом не имел удобств. Половина принадлежала онкологической больнице, другая половина разделялась на две квартиры: одну занимала наша семья, другую – семья Первушиных. Я даже фамилию соседей запомнила. К сегодняшнему моему ужасу я должна сказать следующее: онкологический стационар имел с нами один двор. Никаких заборов. Один на всех туалет-«очко» во дворе, один на всех ящик для отходов – вечно переполненный. Окровавленные, гнойные бинты катались по всему двору, гонимые ветром. Мама, моя умная, красивая мама, подбирала весь этот гнойный ужас, звонила куда-то, чтобы забрали переполненный жутким содержимом ящик.
Вы не поверите! В этот период папа – Григорий Яковлевич Меркушкин, занимал пост заместителя председателя Совета Министров! У нас было улучшенное жильё, что называется, соответствующее занимаемому папой положению. В квартире стоял телефон, и был кран с холодной водой. Кран рычал и мне казалось, что в нём живёт мишка.
Папа фронтовик, орденоносец – и такие условия проживания? Да, но до этой квартиры папа и мама жили в полуподвале, через стенку с продуктовым складом. Крыса прогрызла ход и искусала малышку Владислава Григорьевича, и если бы папа был в командировке, огромная самка загрызла бы ребёнка. Папа не растерялся – голыми руками придушил тварь и выбросил в яму дворового туалета. А крохотному Владиславу Григорьевичу месяц делали уколы от бешенства – болезненные и тяжёлые по химическому составу. И виноватых нет! Теперь представьте, как жили люди, не имеющие папиных заслуг. А впрочем, точно так же и жили…
Итак, возвращаюсь в дом над ипподромом. В свои три годика я прекрасно всё понимала, и события тех давних лет запечатлелись в моей памяти ярко и отчётливо. Наша квартира состояла из высокого крыльца, маленьких сеней, коридора и двух комнат. Вернее, одной, разделённой фанерой на две части. В маленькой комнате – родительской спальне, было одно подслеповатое окошко. Зато в первой комнате – целых два! Для меня большой интерес представляло крыльцо. Скорее не крыльцо, а пространство под ним. Там жили поросёнок Борька и собака Трезор. Поросёнок Борька каждую осень куда-то девался, а потом на его место приезжал маленький поросёночек. И тоже Борька. Надо отдать должное родителям: большая часть свинины отдавалась онкобольнице и соседям Первушиным – многодетным и не очень-то сытым. Собака Трезор обреталась под крыльцом постоянно. Замечательная была дворняжка! Рыжая, гладкошерстная, с большими тёмными глазами. И очень добрая. Мама завела собаку из соображений безопасности. Папа часто уезжал в командировки, а домик стоял, прямо скажем, на отшибе. Во всём доме – женщины с детьми, онкобольные, да сосед-инвалид…
А ещё у нас жили две бабушки. Одна – одинокая учительница, с которой мама работала во время войны, а другая – просто одинокая, бедная женщина. У нас всегда кто-то жил. Папа вырос сиротой, и считал своим долгом всем помогать. Мимо чужого горя никогда не проходил.
Собачка Трезор – слабая охрана нашего женско-детского состава. Уезжая в командировки, папа всегда просил соседа-инвалида присмотреть за нами. Одни женщины. Мало ли что… И напрасно папа умалял сторожевые достоинства дворняги. Заглянули всё-таки к нам воры, было дело… Трезор та..ак тяпнул архаровца, что пришлось бедолаге накладывать швы. Мама с папой и занимались лечением проходимца. Лежал молодой засранец в больнице на чистых простынях, и пользовали его прекрасные врачи. Приходил прощение просить. Простили, конечно.
Двинемся дальше.
Сени меня мало интересовали. Небольшое помещение, заставленное по периметру хозяйственной утварью и сундуком, в котором хранились продукты. А вот квартирный коридор… Он был узким по рождению, да ещё справа завешен брезентовой шторой. А за занавеской… ванна! И кран с водой…! И титан! Мама разрешала в ванне пускать кораблики!! Самодельный титан с кривой дверцей олицетворял достаток и привилегированное положение семьи!
Комната, в которой прошло моё раннее детство, ничего особенного из себя не представляла. Но именно в этой комнате произошло событие, наложившее отпечаток на всю мою жизнь. Я уже писала, что комната была разделена на две неравные части. Меньшая её часть считалась родительской спальней. Металлическая кровать с шишечками, подобие тумбочки, да платяной шкаф – вот и всё убранство. В большой же комнате стояло много чего. Маленький столик с примусом – полагаю, это была кухня; хорошо помню стол, за которым работала мама. И главное сокровище моего детства – это комод! Прекрасный дубовый комод! Вместительный, с выдвижными ящиками и хорошо пригнанной столешницей. Именно в этом комоде я и обнаружила то, что не даёт мне покоя по сей день. Я играла со своими куклами и мне понадобилось одеяльце. В те далёкие времена кукольные одеяльца не продавались. Их шили бабушки, или девочки находили лоскуток, который при детском богатом воображении мог легко сойти за кружевное одеяльце. Как у принцессы! В нижнем ящике комода лежали старые, изношенные вещи. Мама их использовала как ветошь. Я выдвинула ящик и увидела под бесформенными тряпками уголок бледно -зелёного шёлкового платка. В платке что-то лежало. Это «что-то» оказалось старинной фотографией на толстом картоне. С фотографии на меня смотрела женщина – красивая и молодая. И на ней… платье! Я никогда не видела таких платьев. У моей мамы не было такого. Белое, с глубоким вырезом, с пышной, воздушной юбкой… Шею принцессы обвивало замысловатое украшение, а волосы… Они не были волосами! Длинные-длинные спиральки падали на плечи и в них блестели прозрачные капельки… Я не могла оторвать взгляд от такой красоты! Подошла мама, осторожно взяла у меня фотографию
– Это твоя бабушка, доченька.
– Она где?
– Её нет. Она далеко-далеко уехала.
– Она приедет?
– Нет, доченька. Она очень далеко живёт.
– Она бабушка Ира?
– Бабушка Ира, деточка, моя мама. А это бабушка Натали. Она папина мама.
– Она как я?
– Правильно. Ты Наталья, и она Наталья.
Пойдём, доченька, я тебе компот с пирожком дам. Уже пять часов.
Больше я этой фотографии не видела.
Мои родители мордва. Папа мокша, мама эрзя. Меня почему-то этим языкам не учили. Но в доме все пожилые родственники говорили именно на этих языках, и я прекрасно понимала смысл сказанного. Не раз и не два я слышала, что похожа на Наталью – папину маму. И имя мне Наталья – через мягкий знак, дал папа! Наталья, это Таля, Натуличка. А Наталия – Наташа, Наташенька. Два разных имени. Забегая вперёд, скажу: папа всегда говорил, что он выходец из села Верхиссы. Родом из крестьян. Оч..чень интересно! Крестьянский сын, сирота, а серп в руках держать не умел. Прожил детство бок о бок с верхиссинским лесом, а лесную землянику от лесной клубники не отличал. И в огородных растениях не очень-то разбирался. Много знал о рыбе, особенно морской, и не ел её ни.. в.. ка..ком.. ви..де. Говорил – самая лучшая рыба, это колбаса… Так ведут себя люди, которые вынуждены питаться одним и тем же долгие годы. Папа всё детство ел морскую рыбу? В Верхиссах?! Кто мой папа? И где он жил в детстве? Уж точно не в Верхиссах! И почему его любимая песня «Раскинулось море широко…»? В Верхиссах есть море??!
В финском домике по соседству с раковым корпусом мы прожили до моих четырёх лет. Это точно! Я в подробностях помню утро, когда Левитан объявил о смерти И.В. Сталина.
У нас на стене висел чёрный репродуктор. Тоже предмет моего детского вожделения. Играть с ним не разрешали. А очень хотелось! Он же как-то говорил… А куклы, кроме «мама», ничего и сказать-то не могли. Мама вставала очень рано и сразу шла на «кухню» готовить нам завтрак. Всегда включала радио. Очень тихо. Мама не терпела в доме абсолютной тишины. Отсутствие проявления жизни её угнетало. И вдруг, голос Левитана:
«Внимание, внимание» … Мама – побелевшими губами: «Война». Подошла к репродуктору и включила на полную громкость… Что-то происходило… Я была совсем маленькой. Что происходило – не поняла, но очень испугалась. Мамино яркое, красивое лицо превратилось в бесцветную маску. Я её такой никогда не видела. Из спальни стремительно вышел папа – как был в нижнем белье, только и успел облачиться в пижамные брюки.
Объявили о смерти Сталина. Мама заплакала. А папа …? А у папы не было в глазах ни горя, ни страха, ни жалости, а был вопрос: что будет? Лично я считаю, что смерть Сталина спасла папу от ареста. Молодой учёный, в 1946-м году назначен министром просвещения Мордовской АССР. 1950 –1954-е годы – заместитель председателя Совета Министров Мордовской АССР. Награждён орденом Ленина. И. В. Сталин не был глупым человеком. Поэтому и не тронул Григория Яковлевича Меркушкина.
1946-й год. Мордовия – отсталая, безграмотно-малограмотная республика. А уже в 1950-м году Мордовская АССР семимильными шагами идёт к высшему образованию! Стране нужны были образованные кадры. Григорий Яковлевич Меркушкин, с его незаурядными организаторскими способностями, мощным интеллектом, широчайшими знаниями, в немыслимо короткие сроки осуществил неосуществимое! Заложил краеугольный камень в фундамент, на котором по сей день зиждется образование и образованность мордвы!
Папа! Я – Ваша дочь, и я – мордовка!
Серьёзное университетское образование, полученное в университете, Вами созданном, образованность, как результат воспитания, данного Вами, – отличная путёвка в жизнь, которая не подводила меня все самостоятельно прожитые годы. И я имею право гордиться тем, что я – мордовка! Я безмерно благодарна Вам –
ОТЦУ, ЧЕЛОВЕКУ, ПРОСВЕТИТЕЛЮ!
Папа мой родился на свет белый неисправимым лириком, с неординарным, только ему свойственным воображением. Я очень хорошо помню зимние вечера моего раннего детства.
Я маленькая… Папа приходил с работы и начинался вечер… Настольная лампа под зелёным абажуром, за окном зима и самовар на столе… У нас был самовар! С носиком и краником. Из носика капали редкие капельки и мама подставляла чашечку, расписанную васильками. Обыкновенная чашечка. Глиняная, наверное. В углу комнаты собирались тени – подвижные, с мохнатыми краями. Я не боялась их. Мне казалось, что там живёт Ночь, и она скоро выйдет и я увижу её. Я представляла ночь красивой дамой с очень тёмными глазами. Как у нашей учительницы музыки. Я ждала, но ночь не выходила. Мама говорила, что её не надо тревожить. – Почему? Спрашивала я. Папа улыбался, обнимал меня и таинственно шептал мне, что у ночи много дел. Ей надо укрыть всю землю тёмным-тёмным покрывалом, чтобы взрослые и дети, и даже кошки и собачки заснули сладким сном… И я представляла, как наша кошка Мурка заворачивается в покрывало, кладёт лапку под щёчку, и видит очень хороший сон…
Прошли годы, а я всё так же слышу папин таинственный шёпот, и всё так же верю, что ночь живёт в сумраке моей комнаты… Папа говорил, что она любит всех. Значит, и меня? Или это папа с мамой дарили мне любовь и счастье, а Ночь была лишь доброй феей из моего счастливого детства? Я и сейчас люблю ночь больше дня. Я так и не выросла. Нет… Просто состарилась. Папы с мамой давно нет, и любить меня некому. А Ночь есть. Она мне дарит воспоминания… Приходит вечер, и нет больше преклонных лет, нет прожитой жизни; мои родители молоды, рядом, а я всего лишь маленькая, счастливая девочка…
В наших воспоминаниях детство – счастливейшая пора. У нас, послевоенных детей, детство было далеко не безоблачным. Казалось бы, что мешало мне лично быть абсолютно счастливой? Отвечу: страх!
Наш домик стоял под горой и обком партии монументально возвышался прямо над нашим домом. Из наших окошек окна папиного кабинета были хорошо видны. Сталин требовал от ответственных работников находиться на рабочих местах круглосуточно. И люди находились… Вождь мог позвонить в любой момент. Не дай Бог не застанет на месте…! Особенно тревожно было вечером. Мама сидела за столом и что-то делала: или шила, или читала, выписывая в тетрадку значимое. Я не помню, чтобы мама бездельничала. Тёмные шторы на окнах плотно задёргивались, мама включала настольную лампу-«грибок», и тревога поселялась в нашем доме… Время от времени мама подходила к окну, смотрела в щелку… Горит в папином кабинете свет, – значит, не арестован. Нет света, – значит … По малому своему возрасту я не понимала, что происходит, но мамина тревога передавалась и мне. А ещё меня с рождения учили, что говорить надо очень тихо и не рассказывать никому, ничего. Только стихи. Я и знала их в несметном количестве.
Всё раннее детство я боялась ворон. Соседи шептались, что красивую, весёлую тётю Нину из кирпичного дома увёз чёрный ворон. А что, если чёрный ворон вернётся и увезёт мою маму? Чёрных ворон летало много, а я была маленькая и беззащитная. И очень любила свою маму. Не понимаю, как мы, послевоенные дети, всё это выдерживали? И выдерживали ли? Сколько изломанных, исковерканных судеб, сколько аморальных людей вышло из того детства? Их кто-то считал? И можно ли их сосчитать…?
В этот период жизни я своего брата помню плохо. Помню, что был мальчик, старший братик. Он носил брюки, как у папы, и защищал меня от нападок одноглазого петуха – единственной собственности семьи Первушиных. Братика звали Владик. Мальчик-братик с выражением читал мне книги, у него были добрые глаза и он был очень красивым. Маленькая девочка не ошиблась: Владислав Григорьевич Меркушкин – необыкновенно добрый, красивый человек. Мой дорогой брат умер совсем молодым. Я не смогла принять его уход – не хочу и не могу думать о Владиславе Григорьевиче Меркушкине в прошедшем времени…
Прежде, чем перейти к более осознанным воспоминаниям событий моего детства, я хочу рассказать о своих родителях. Я их знала только как папу и маму. Под началом папы я никогда не работала. Папа с мамой поженились в январе сорок первого года. Мама – студентка Темниковского педучилища, а папа её преподаватель. Мама часто вспоминала, что сдать папе экзамен было почти невозможно. Молодой педагог требовал от студентов тех же знаний и эрудиции, что и у него. Требование невыполнимое! По молодости лет папа не понимал, почему его ровесники не способны освоить элементарное. Это для молодого Григория Яковлевича с его выдающимися способностями программный материал не представлял ничего трудного и интересного. Каково же было студентам прочитать и освоить всё, что рекомендовал историк Меркушкин?! Мама рассказывала, что бедные студенты зубрили только историю, наплевав на остальные науки. Так продолжалось до тех пор, пока папе не объяснили что к чему убелённые сединами коллеги. Мама всю жизнь смеялась, вспоминая, какой ужас на неё наводил со своей историей её будущий муж…
Впоследствии, будучи преподавателем университета, папа вообще неудов не ставил. Полагаю, и объяснять не надо, почему. К слову, будь сказано, так же поступал и Владислав Григорьевич – эрудит и умница, один из лучших выпускников Московского Энергетического Института!
Старшие члены моей семьи папа, мама и брат – добрейшие люди. Говорят же, «каковы родители, таковы и дети». А я бы вспомнила пословицу: «каков поп, таков и приход». Я не помню, чтобы в папиной семье кто-то на кого-то злился. Папа моментально находил что-то смешное в случившемся, а мама любила повторять, что на сердитых воду возят. Честно говоря, у мамы от слов до дела расстояния не было, а мыть вне очереди посуду никому не хотелось. Да и серьёзных конфликтов у нас не было. Так…, детские обиды.
Взаимоотношения в нашей семье держались на трёх китах. Высокая мораль, уважение к человеку как таковому, каждодневный труд.
Мама моя, Александра Кузьминична Чиняева-Меркушкина – дочь сельского учителя, знала, что такое крестьянский труд, и как достаётся хлеб насущный. Будучи человеком высокой морали, мама всех людей считала равными, вне зависимости от занимаемого положения. Точно так же относился к человеку и папа. Пересортицы в папином доме никогда не было.
Папа – круглый сирота. С шести лет сам себя кормил. Мощный ум и врождённый мощный интеллект сделали своё дело: по плохой дорожке папа не пошёл. Всю жизнь стремился к самообразованию. Любил людей. Не просто людей, а каждого Васю и каждую Машу в отдельности. Таким же был и Владислав Григорьевич. Но о моём брате расскажу отдельно.
В январе сорок первого мои родители поженились, а в июне началась война. Папа был директором средней школы, а значит, имел бронь. Пригласил мой папа бывшего директора средней школы и говорит:
– Принимайте школу, Владимир Иванович(?)
– Я очень стар, Григорий Яковлевич,
– А я очень молод, чтобы во время войны женщинами командовать.
Папа ушёл добровольцем на фронт, оставив маму в положении. Детей-двойняшек мама потеряла. До войны папа служил на Дальнем Востоке, был кадровым офицером, и конечно, его поступок можно назвать дважды высокоморальным. Кадровый офицер Меркушкин Григорий Яковлевич был направлен на Ленинградский фронт. Папа воевал на Ленинградском, Калининском и Северо-Западном (1-й Прибалтийский) фронтах. Был несколько раз тяжело ранен. И если бы не мама – не выжил бы. Моя мама, совсем молоденькая женщина, ездила по военным госпиталям и выхаживала своего мужа – моего папу. Сашеньку Чиняеву природа наградила необыкновенным обаянием и женской красотой. Свою красоту, своё сердце, мама отдала папе. До конца папиных дней, мама была для папы самым дорогим, самым главным человеком в его жизни. Я была уже взрослой, и мама рассказала мне историю, от которой кровь стынет в жилах.
Получила она известие о тяжёлом ранении папы. Собрала кое-какие продукты и отправилась к папе в госпиталь. Война… До железной дороги – до теплушки, надо было ещё добраться. – Иду я через лес. Зима, деревья в инее. Красота, глаз не отвести! Уж почти дошла до села, вышла на дорогу… И откуда он взялся? Огромный волк! Я стою, смотрю на него, а он на меня смотрит. Я пошла вперёд, и он пошёл… Мимо пробежал, даже задел за меня и скрылся. Испугалась я, доченька. Очень! В эту ночь мне везло. Дошла до села, постучалась в первую же избу. И ночевать пустили, и накормили. Как же! К мужу-воину иду, в госпиталь. Никогда, доченька, не забуду картошку в мундире со снятым кислым молоком. Хозяйка меня накормила. Вкуснее ничего не ела!
Мама всегда готовила простоквашу. Очень вкусную. Папа никогда не ел. Я как-то перехватила его взгляд. Мне не передать словами, сколько в папином взгляде было боли.
После войны жизнь стала налаживаться. Папа остался жив, защитил диссертацию, и семимильными шагами продвигался по служебной лестнице. Казалось бы, счастливая семья. Всё отлично! Да уж, отлично…
Из финского домика мы переехали на Гражданскую улицу. Квартиру дали четырёхкомнатную, с ванной и титаном; на кухне стояла печка – голландка, которую топили дровами. И даже в детской комнате была печь! Жаль, что её через какое-то время сломали. В финском домике с нами жили две бабушки – одинокая учительница и просто ничья бабушка. На Гражданскую переехала только старенькая ничья бабушка. Видно, учительница к тому времени умерла. Просто нам, детям, не сказали. Уехала бабушка…
Отчётливо и ярко помню себя и всё происходящее, начиная с самого страшного события моего детства. Мне едва исполнилось семь лет и в сентябре я должна была пойти в первый класс. Март месяц 1956-го года. Папа – секретарь мордовского обкома КПСС. Скоро посевная и папа летит в командировку в район.
Вечер, мама занимается каким-то рукоделием. Я листаю интересную книгу с картинками. Помню название этого детского журнала: «КРУГЛЫЙ ГОД». Мир и покой в доме. Всё прекрасно. Звонок в дверь… Мама побледнела…Глядя на неё, испугалась и я. Помню, что пришло очень много людей. Знала я только дядю Ваню Астайкина (Ивана Павловича – председателя совмина МАССР) и его жену – тётю Машу (Марию Фёдоровну).
Астайкин – Сашенька, Григорий Яковлевич попал в авиакатастрофу. Мама – Он жив? Астайкин – жив, но тяжёлый. Мама – Я выезжаю! Мария Фёдоровна (обнимает маму за плечи) – Саша, завтра организуют… Сейчас уже ночь. Григорий Яковлевич в больнице. Помощь оказана…
Я поняла одно: мой папа умрёт, и у меня больше никогда не будет папы…! А дальше – страх! Не детский. Жуткий…!
Мама выходила папу. И инструктору обкома, который летел с папой в командировку, тоже помогала. Лежали оба в одной больнице, в одной палате… Папа выжил. И опять, только благодаря маме.
Кто бы мне объяснил, а я бы поняла, справедливость на свете существует?! Папа прошёл через все испытания: сиротское детство, с шести лет работал, ушёл добровольцем на фронт, награждён высочайшими орденами! Заслужил орден Ленина в тридцать три года! В его жизни не было блюдечка с голубой каёмочкой. Всё, что папа имел, он заработал сам и только сам – своим умом, своим трудом, своей высочайшей моралью!
Может быть, провинилась моя мама? Провинилась??!
Да моя мама, умница и красавица, не делала разницы между своими и чужими детьми. И просто любила и уважала людей.
После войны было очень много нищих. Никому мама не отказывала. И никогда! Не подавала объедки. Отрезала большой ломоть пшеничного хлеба и прибавляла всё, что было в доме: кусок мяса, пироги, варенье, сливочное масло. Мама кусок масла заворачивала в капустный лист – чтобы не испортилось. На всю жизнь запомнила!
Уважаемый читатель! Я живу не в вакууме, не на другой планете, и многие годы задаю себе вопрос: таких людей, какими были мои родители, на свете много ли? Сомневаюсь…!
Стариков и детей мама обязательно приглашала в дом и кормила обедом. И если в это время кто-то из нас ел, то сидели мы все за одним столом. И обед для всех был одинаков! Меня всегда удивляло, что детишки поев, особенно варенья с чаем, тут же за столом и засыпали. Сейчас-то я понимаю, что нищие дети редко были сыты. Помню, мама покупала много всякой тары. После войны никаких банок не было. Ничего не было. Мама на рынке договаривалась с селянами, и ей привозили прямо домой много страшненьких глиняных горшочков. В них она наливала варенье – как правило, чёрную смородину. Витамин «С»! И эти горшочки с вареньем раздавала детям-сиротам. У нас меньше десяти человек вечером ужинать за стол не садилось. Кто были эти люди? Понятия не имею! Я уж не говорю про родственников. После войны жилось голодно, и малознакомые люди приходили к нам поесть. Родители всё понимали, и никому не отказывали.
Мама с папой хотели удочерить маленькую девочку, на год моложе меня. Рыженькая, с синими глазками, и с рыжими веснушками! Звали – Зинонька. Малышка пришла просить подаяние со своей бабушкой. Папа их не отпустил, пока не узнал всё об их жизни. Мама и папа Зиноньки поженились после войны. Но папа умер от фронтовых ран. Вскоре умерла и мама – очень молодая женщина. Умерла от обширного воспаления лёгких. Таких судеб после войны было много. И осталась девочка с бабушкой. А бабушке – семьдесят девять лет! Папа с мамой предлагали им переехать к нам. Но бабушка не согласилась. Она не поверила! Так и сказала: «Помру, кому Зинонька будет нужна? Уж нет, пусть в своём дому живёт…!» И сколько родители ни уговаривали – не верила. Мама с папой помогали им всем, чем могли. Последний раз я видела Зиноньку, когда была уже студенткой. Девочка удачно вышла замуж за военного, поступила в институт, а бабушка умерла… И умерла именно в тот день, когда внучка получила студенческий билет.
В детстве я не знала, как живут другие люди. Думала, что образ жизни моих родителей и есть образ жизни всех взрослых людей. Я уверена, при любом доходе мои папа и мама помогали людям. И я считаю, что именно так и надо жить. И именно так я и живу, за что безмерно благодарна своим родителям!
Мои родители – учителя от Бога. Именно учителя! Умели воспитывать своих детей без нудных нравоучений. Будучи секретарём обкома партии, папа часто ездил по колхозам. Несколько раз брал и меня. Очень хорошо помню одну поездку. Коль скоро меня в машине сильно укачивает, ехали мы на поезде. Очень интересное путешествие! Во-первых, вагон совсем даже не похож на нашу квартиру. Он трясётся, но не страшно. Супом меня не кормили, а дали вкусный бутерброд с копчёной колбасой. Мама дома говорила, что такая еда не полезна детям, но один раз можно. Папиного стола с зелёной лампой в вагоне не было и папа ничего не писал, зато весь вечер рассказывал мне интересные истории. А ещё папа разрешил попрыгать на скамейке! Мама бы не разрешила. Мне очень понравилось ездить в поезде!
Рано-рано утром мы вышли из вагона, и к нам подошёл какой-то дядя и повёл нас к машине. Крыша машины была брезентовой – я знала, что это такое. А стенок не было. Мы долго-долго ехали по какой-то дороге, очень неинтересной. Единственное приятное впечатление, это пыль из-под колёс, которая неслась за нами красивыми, чёрными струями. Когда мы приехали в нужную нам деревню, сразу же пошли умываться. Папа, шофёр и дядя, который нас встретил, были абсолютно одинаковые: очень чёрные, с блестящими несчастными глазами. А папа протёр лицо платком и стал полосатым. Дальше – ещё интереснее! Шеренгой стояли люди. Справа мужчины, слева женщины. А перед ними – начальник. Это я тоже поняла. Жара была несусветная! Мужчины все в тёмных пиджаках, многие с орденами. Мужчины меня не впечатляли. Интересны были женщины. Я никогда не видела таких красавиц! Тёти нарядились в белые платья, а поверх – фартучки. Как у дежурных в садике. Только тётины фартучки были красивого красного цвета. А ещё на тётях висело много бус. А у некоторых на головах – короны! Как в сказке! Правда, не все тёти так красиво нарядились. Были и совсем некрасивые. В стареньких платьях с заплатками.
Начальник вышел вперёд и стал рассказывать, как хорошо все живут, потому что партия КПСС хорошая. Я была с ним не согласна. Если у некоторых тёть нет красного фартучка, бус и короны, разве они хорошо живут? Пока начальник говорил, папа с интересом рассматривал собравшихся. Я видела, что папа тоже чем-то недоволен. Прервав дядю-начальника, папа обратился к собравшимся.
Шумбрат улезе! (Здравствуйте!)
Дальше папа бегло говорил на мордовском. Я далеко не всё понимала. Поняла только, что папа познакомится с каждым поближе.
На этом собрание закончилось. Папа взял меня за ручку и подошёл к самой некрасивой тёте. Мы пошли к ней домой. Как же убого жила семья! Муж женщины погиб на войне. Осталось четверо детей и старики-родители. Крестьянка боялась сказать, что председатель (начальник) не заплатил ей по всем трудодням. Но папа настоял на своём… Потом он попросил женщину дать хлеб, соль и квас. Соли принесли чуть-чуть, в тряпочке, хлеб имел странный цвет, а кваса и вовсе не было. Папа ел хлеб, запивал колодезной водой и лицо его на глазах темнело. Уходя, он положил много бумажек-денежек под полотенце с хлебом. История эта повторялась во всех избах, в которые мы с папой заходили. Будучи студенткой, я спросила, зачем папа ел у крестьян хлеб с солью? Папа поднял на меня глаза и строго спросил:
– Ты до сих пор не поняла?
– Нет.
– Я проверял, сколько лебеды положено в хлеб. А полная солонка, Таличка, – показатель благосостояния крестьянской семьи. Восемь лет мира, а хлеб с лебедой, и соль – на вес золота…! Э..эх, доченька…!
Интересно, сколько папа оставил денег только в том, запомнившемся мне селе? Много…
Закончив обход, папа пошёл «общаться» с председателем в сельсовет. Меня предусмотрительно оставили на улице. Я не знаю, что папа говорил начальнику, только выскочил председатель потный и красный и … как по волшебству, потянулись обозы с дровами, зерном и ещё с чем-то, в указанные папой хаты.
Говорила, говорю, и буду говорить!
Папа! Вы самый умный и благородный человек на свете! А я – самая счастливая дочь. Ибо я – Ваша дочь!
Не обошлось и без курьёзов. В одной избе папа долго говорил с хозяином дома – инвалидом войны. Мне же очень хотелось посмотреть настоящий огород, и папа попросил хозяйку дома провести экскурсию. Женщину звали Марфа. По-русски она не говорила, но мне это и не нужно было. Я в восторг пришла, увидев, что помидоры растут на маленьких деревцах. Таких же, как на картинках! Опять же, меня угостили сладкой морковкой прямо с грядки. Я её сама мыла в старой кадушке! А ещё тётя Марфа подарила свёклу, репку, маленький кочан капусты прямо на ножке! И тут я увидела … много арбузов! Они лежали на земле около забора и за забором! Были разные – большие и маленькие, зелёные и в полоску!
– Тётя Марфа, пожалуйста, отрежьте мне кусочек арбуза. Хоть маленький!
Тётя Марфа меня явно не понимала. Женщина догадалась, что я что-то прошу… Сорвала незрелую антоновку и протянула мне. Яблонь-то было всего две! И обе «Антоновки».
Поняв, что арбуз не получу, я заплакала. Да ещё как горько! Женщина испугалась. Я никак не хоте ла уходить. Плакала и плакала… Через какое-то время пришёл папа. Тётя Марфа стала что-то объяснять… Папа её успокоил.
– Доченька, ты что плачешь?
Папочка, миленький, попроси тётю Марфу… х.. хоть маленький кусочек арбузика…
– Где арбуз, Натуличка?
– В..вот!
Папа засмеялся. Повернулся к тёте Марфе и что-то сказал.
– Это, доченька, не арбуз. Это тыква. Она ещё месяц зреть будет.
Что такое тыква, я знала. Слёзы высохли, я с интересом рассматривала огромную красавицу.
– Дригорий Якывлич, мон… (дальше беглый мокшанский). Папа улыбался и кивал головой… Тётя Марфа нагнулась, пошарила в траве у забора. В руках у неё сверкнул серп. Р..раз! И тыква откатилась к забору. Я увидела растерянное папино лицо.
– И напрасно, Марфа. Мало ли что она хочет. Дальше я не расслышала, поняла только, что папа недоволен. Добрая тётя Марфа гладила меня по головке, улыбалась и показывала рукой, сколько этих тыкв растёт вдоль забора. А папа всё хмурился и выговаривал тёте Марфе, что она не права, и что дети должны знать, что можно, а что нельзя. И что поощрять попрошайничество недопустимо. Папа конечно же был прав. Но мы с тётей Марфой откровенно радовались исходу дела…
День прошёл, и нам надо было возвращаться. И опять возле сельсовета выстроились крестьяне. И не просто выстроились, а принесли гостинцы. Ещё и ещё раз преклоняюсь перед папиным умом! Конечно, папа не собирался забирать у бедных крестьян последнее. Но ведь и отказать – значит, обидеть людей. Папа выступил с речью. Сказал спасибо за гостинцы и плавно перешёл к тому, что он лучше сам скажет, что ему надо.
Какой же папа был наблюдательный! У тёти Марфы он попросил помидор. Только один! Тот, который созрел возле яблони. – Уж очень понравился! У тёти Ольги – корчажку кваса. – Эх, Ольга, ну и знатный квас у тебя! У Василисы – пучок лука. – Прямо как солдат в карауле стоит!
Ещё я помню, нам каравай ржаного хлеба подарили, с которым встречали. Крестьяне удивлялись
– Неужели большой начальник будет это есть?
– А как же! В городе такого днём с огнём не найти!
Не скрою, тётя Марфа принесла три спелых помидора. Ну и вкусные же они были!
С тем мы и уехали.
Я всю дорогу спала, но про гостинцы маме – свёклу, репку и капусту на ножке, не забыла. А ещё мы везли тыкву. Вот мама обрадуется!
На следующий день я взахлёб рассказывала, как было интересно в папиной командировке! Мама слушала, задавала вопросы…
Дошла до тыквы. Стала рассказывать, сколько у доброй тёти Марфы тыкв. «Целая тысяча! Нет, даже не тысяча, а миллион!» Подумала… «Даже сиксилион!»
– Секстиллион – поправила мама. Скажи мне, Наталья, зачем ты выпросила у тёти Марфы тыкву? Она её вырастила для своих детей. Тётя Марфа и так много всего подарила: и репку, и свёклу, и капусту. Морковкой тебя угостила. Тебе не кажется, что ты поступила дурно? Разве тебе не стыдно за свой поступок? Наташеньке не было стыдно… Ни капельки! Наташеньке очень нравилась тыква! Поняв, что ребёнок не собирается раскаиваться, мама всерьёз заволновалась: пробел в воспитании налицо! Несколько дней мама на все лады рассказывала мне, как я провинилась. Не чувствовала я угрызений совести, и всё тут! Красивую тыкву завернули в газету и закатили под кровать. И каждый день доставали, протирали, заворачивали и водворяли на место! Я была в восторге! Мама сказала, что тыква созреет и из неё достанут тыквенные семечки. А саму тыкву можно и в духовке запекать, и в кашу добавлять. Тыква очень полезна. В ней много каротина. Меня это слово насторожило. Я знала, что такое карантин. Приятного мало.
– Не карантин, доченька, а ка..ро..тин – по слогам проговорила мама. Это такой натуральный витамин. Очень полезный детям.
– Мама, почему у тёти Марфы нельзя тыкву попросить? У неё же много. Пусть она нам ещё одну даст!
Мама пришла в ужас! Ребёнок отбился от рук…! Папа так не считал. Я слышала, как он говорил маме:
–Ничего не случилось, Шуринька. Надо, чтобы девочка поняла, осознала, что выпрашивать нехорошо.
– Я все зубы источила, объясняя. Ничего понимать не хочет. И это в шесть лет? А что дальше будет? Макаренко чуть ли не преступников перевоспитывал, а я с собственным ребёнком справиться не могу! Какой же я педагог?
Папа улыбался.
– Позволь, Сашенька, я с дочкой поговорю.
– Поговори… Обречённо согласилась мама.
Прошло дня два. Я уж и забыла, что «отбилась от маминых рук». Однако папа, я так поняла, не забыл…
– Значит, Натуличка, ты рада, что выпросила у тёти Марфы тыкву? – вдруг неожиданно спросил папа.
– Да, честно ответила я. Посмотри, какая она красивая! В ней семечки есть! Она под кроватью живёт! Я сейчас прикачу её к тебе!
– Не надо, спокойно ответил папа. Скажи мне, доченька, как ты считаешь, человек должен работать?
– Да, ответила я.
– А для чего взрослые работают?
– Чтобы денежки заработать.
– А зачем им денежки?
– Чтобы покупать на них…
– Правильно.
Представь себе, что придёт к нам тётя Марфа и выпросит у нас деньги. И на что мама будет покупать продукты? И что мы будем есть?
– Я не знаю…
– Доченька, ты видела, какая большая семья у тёти Марфы? Что они вырастили на огороде, то и кушают. А ты у них тыкву выпросила. Разве это хорошо?
– Нет, тихо ответила я.
Яркое детское воображение заработало… Перед моим мысленным взором мелькали картины одна страшнее другой. Тыквы съедены, и каша съедена, а самую большую тыкву увезла я! И дети тёти Марфы плачут… Я заплакала.
– Папочка, давай я тёте Марфе ириски отдам. Ещё мне мама пряничную рыбку купила. Я у неё только хвостик откусила… И её отда..ам…
– Не плачь. Я тёте Марфе обязательно помогу, а ты запомни: слово «дай» надо говорить в крайних случаях. И ничего, ни у кого выпрашивать нельзя. Это очень стыдно!
С того вечера прошло почти семьдесят лет, и я ни у кого, ничего никогда не просила. Всякое бывало. И трудно приходилось. Я никакой работы не стыдилась. Главное, чтобы труд был честный. Клянчить – дело последнее!
Каждый из нас слышал: родители порядочные, а дети покатились по наклонной плоскости. Не верьте этому! Значит, не такие уж и порядочные были родители. Я прожила свою жизнь абсолютно честно, что называется, в белых перчатках. Это Вы, папа, и Вы, мама, своим примером заложили во мне этот фундамент. И я безмерно уважаю прожитую Вами жизнь, и считаю великим везением то, что у меня были такие родители – кристально чистые и кристально честные!
Кем бы мой папа ни работал, какой бы пост ни занимал, он всегда был рядом с людьми. Запомнились мне с раннего детства папины конференции. Времени на отдых папа практически не имел. И отдыхал он с точки зрения обывателя весьма странно. Папа выходил во двор, садился на ближайшую скамейку и начинал говорить с первым мужчиной, который оказался рядом. Аудитория разрасталась на глазах. Люди занимали лавочки, сидели на деревянных бортиках песочницы; в тёплое время года приносили фуфайки, расстилали прямо на земле. На них и сидели. Подходили и женщины. Каких только вопросов люди не задавали папе! На все отвечал! А если вопрос требовал проработки – говорил, что обязательно разберётся и в следующий раз ответит. И никогда не забывал своих обещаний. Женщины жаловались на житейские проблемы, на своих мужей-выпивох, на несправедливость на работе. Папа всегда серьёзно относился к «бабьим слезам». Мужчины-выпивохи представали пред папиным судом. Разговаривал папа с каждым с глазу на глаз. Что он им говорил – я не знаю, знаю только, что аудиенция очень помогала. Пить, конечно, не переставали, но не дебоширили. Зарплату в семью несли, и на жену руку поднимать опасались. Пропивай то, что накалымил. Так ведь накалымить не всегда удавалось. После войны мужчин было мало и хвосты они распускали, красочнее павлиньих! Папа такое отношение к женщине физически не переносил. И горе было тому начальнику, который соизволил обидеть женщину! Можно было и партбилетом поступиться…
Я была маленькая, но суть разговора уловила. Жила в нашем доме семья. Он – партработник средней руки; она – служащая, на двадцать два года моложе мужа, и маленькая девочка – их дочь. Женщины судачили, что глава семьи в своё время надругался над молоденькой девочкой, а потом ему пришлось на ней жениться – потому как люди слышали её крики о помощи. В те времена слово «изнасиловал» женщины не произносили. Даже слово «беременная» считалось неприличным. Говорили – в положении. А беременные женщины как могли скрывали растущий живот. И в последние месяцы беременности мужчинам на глаза старались не попадаться. Теперь представьте, кем была женщина после войны. Человеком в услужении! Уж кто-кто, а папа это прекрасно видел и знал. Я хоть и была малым ребёнком, а отлично понимала, почему мой папа не подаёт руки Тонечкиному папе. А Тонечкин папа всегда опускает глаза, когда видит моих родителей.
К моим родителям любой человек, даже абсолютно незнакомый, мог обратиться с любым вопросом. Папа с мамой не удивлялись, просто помогали. Есть люди, которые не способны на самоотдачу и будучи неспособными, завидуют благородным. Да не просто завидуют, а ненавидят и мстят.
Были у моих папы и мамы друзья – некто Соловьёвы. Я до сих пор не поняла, кто были эти Соловьёвы? Глава семьи не воевал. Почему – неизвестно. Зато «поймался» на воровстве. Якобы, детдом не досчитался с его помощью мешка муки. При Сталине за такое расстреливали. Папа пожалел детей Соловьёва. Мешок возвратили, а делу не дали ход. Казалось бы, этому парттоварищу и его жене надо всю жизнь помнить добро и быть благодарными. Они и помнили. Жена Соловьёва всю жизнь строчила на папу анонимки, а сам Соловьёв оказался ещё и мелким подлецом. Я не понимаю родителей. Эти Соловьёвы к нам в гости ходили. Папа всё знал и только посмеивался. Хороши шуточки!
Мама выходила папу после авиакатастрофы. Я поняла, что папа не умрёт и успокоилась. Это был хороший период моего детства. Я ходила в пятый детский садик, где ко мне прекрасно относились. Про тот, первый, я даже не вспоминала. Мой папа мокшанин, а мама – эрзянка. Значит, моя национальность – мордовка. Мордва, как известно, представители финно-угорских народов. Я была в Финляндии много раз. Свой вывод сделала. Пунктуальность, чистоплотность и стремление к упорядоченности – черта характера финских женщин. Не знаю, сказалось ли происхождение или уж такой моя мама уродилась, но в нашем доме, не смотря на обилие гостей, порядок поддерживался идеальный!
Я уже писала, у нас было очень много родственников. С маминой стороны – понятно, кто кому и кем доводился. А вот с папиной стороны… Сплошные двоюродные сёстры и братья и множество папиных дядь и тёть. И все близкие! Мне импонировали очень немногие, к которым я до сих пор отношусь с уважением, если живы и вспоминаю добрым словом, если ушли в мир иной.
Мой папа, Григорий Яковлевич, рос сиротой. Из близких родственников был у него родной брат, старше на два года – Иван Яковлевич Меркушкин. Я этого Ивана Яковлевича не любила с раннего детства. Так называемые родные братья абсолютно не походили друг на друга ни внешне, ни по внутреннему содержанию.
Иван Яковлевич – высокий мужчина, средней полноты, крестьянского телосложения. Основная черта его характера – равнодушие. Он никого не любил в общеизвестном понимании этого слова. Один глаз у дяди закрывало бельмо, другой глаз собеседнику в глаза не смотрел. Он шнырял! Да-да, именно шнырял по сторонам, будто что-то выискивал. Лицо крестьянское, но далеко не глупое. Сколько я его помню, Иван Яковлевич пил и дебоширил в своё удовольствие. Угрызений совести, виноватости, что ли, никогда не испытывал. За время папиной реабилитации после авиакатастрофы, я помню только один его визит. Абсолютно трезвым своего дядю не видела никогда. Папа брата любил и был ему благодарен. Даже не брату, а чему-то, связанному с ним. (?) Будучи малым ребёнком, я не понимала, как взрослый человек может себя так вести?! Почему взрослый дядя разбрасывает свои вещи? Почему обещает что-то сделать и не делает? Почему расстраивает моих маму и папу?
Мама следила за тем, чтобы в доме были чистота и порядок, и все, кто к нам приезжал, уважали раз и навсегда установленные мамой правила. Только не дядя Ваня! Ещё раз оговорюсь: я была воспитана мамой и папой, а значит, аккуратности и наблюдательности мне было не занимать. Я прекрасно понимала, что всё, что дядя делает не так, происходит из-за того, что ему дела нет ни до кого из нас. Был такой случай: мама должна была отвести меня в садик, а папа в это же время собирался на работу. Брат мой Владик уже ушёл в школу – и слава Богу! Папа брился и порезался, и никак не мог найти одеколон. Бутылочка всегда стояла на одном и том же месте – на комоде в коридоре. Я видела, как дядя Ваня брал этот флакон и ходил с ним в туалет. Я хотела спросить дядю, где он оставил пузырёчек – надо же было помочь папе! Но его серый глаз смотрел мимо меня, лицо было злым. Тогда я сама пошла в туалет и увидела одеколон, вернее, пузырёк из-под одеколона, за трубой. Я обрадовалась, вытащила флакон и понесла папе.
– Папочка, тут немножко осталось…
На дне виднелись жёлтые капли, крышечки не было… Я никогда прежде не видела папу таким. Он рванул на себе галстук и рубашку с такой силой, что пуговицы полетели во все стороны. Папа сильно побледнел и как-то неуклюже лёг на диван. Мама капала капельки в рюмочку из серванта, руки у неё тряслись, и несколько капелек упали на стол. Запахло больницей… Мама повернулась к нам: – Воды!
Вы думаете дядя Ваня пошёл за водой?! Да как же!! Я побежала!
Я не знаю, что произошло в моё отсутствие в комнате. Наверное, Иван нахамил маме, и папа что-то сказал ему по-мордовски – полагаю, резкое и неприятное. Папе становилось хуже, и мама вызвала врачей, а я не понимала, почему дядя Ваня такой злой и почему он не любит папу.
Как и все дети в таких ситуациях, я чувствовала себя виноватой. Это я принесла бутылочку! Это всё из-за меня… Я убежала на кухню и спряталась под стол. Но мне этого показалось мало – стянула клеёнку со стола и накрылась ей с головой. И как-то сразу успокоилась. Захотелось спать… Сквозь сон услышала мамин срывающийся голос:
– Где ребёнок?!
И мамины руки… Мама обнимала меня и плакала.
Бедная мама! Её девочка, её ребёнок мог задохнуться…
Мама, папа, врачи… Прибежали соседи – Не нужно ли помочь? И только Иван Яковлевич сохранял олимпийское равновесие.
Выпил двести миллилитров одеколона и не отравился! И моя мама! Прелестная, интеллигентная женщина, звонила в ПНД и спрашивала, какие могут быть последствия… Да гнать его надо было!
Иван Яковлевич сменил много профессий. На дверь ему указывали из-за пьянства. И если бы не папино покровительство, сидеть бы ему на скамье… Я не понимаю, почему папа так близко к сердцу принимал братово поведение? Умный человек, должен же был понимать, какова суть этого человека. Напечатали в центральной газете фельетон по поводу пьянства Меркушкина Ивана Яковлевича. И что? Так ведь не папа пил! Из-за этого фельетона папа нервничал несколько дней. Мама как могла старалась успокоить папу. Говорила, что ничего не изменить. Такой человек Иван. – Побереги, Григорий, себя, о детях подумай…
Жизнь есть жизнь, у папы своих забот было предостаточно и вроде бы он успокоился.
Воскресенье. Папа дома. Мы обедаем. Звонок в дверь… И кто же является на огонёк? Дядя Ваня. Конечно же, нетрезвый. Мама захлопотала: – Давай, Ваня, садись, покушай… Папа посерел лицом, ничего не сказал, только через два дня положил своего брата в больницу. Что там был за диагноз – я, конечно же, не знаю. Помню только, что мама отдельно что-то готовила по диете, и мы с мамой каждый вечер ездили навещать «болящего» – с полными авоськами, на другой конец города. Почему мама брала меня с собой? Я не знаю. Оставить меня было с кем. Наверное, какие-то причины были.
Отблагодарил дядюшка маму сверх всякой меры! Пить ему в больнице не давали. Денег у него не было, а был за Иваном Яковлевичем хороший надзор и качественное лечение. Лечила его зав. отделением, Зоя Дмитриевна Радаева. Мои родители её очень хорошо знали. Полагаю, лечили дорогого родственника от цирроза печени. Сколько пьющий человек может терпеть без водки? Недолго. Пришли мы в очередной раз его навещать и встретил он нас отборным матом. Меня моментально передали какой-то медсестре из процедурного кабинета, а мама с Зоей Дмитриевной имела неприятный разговор. Стояли они за дверью процедурной, и я часть разговора слышала. Оказывается, Иван Яковлевич крыл Зою Дмитриевну матом, и Зоя Дмитриевна намеревалась его выписать. Тем более, что обследование проведено. А лечиться можно и амбулаторно.
Я помню, как дрожал мамин голос, когда она просила оставить этого, с позволения сказать, родственника, в больнице. – Ради Григория Яковлевича, Зоя Дмитриевна, я вас очень прошу… Ради Григория Яковлевича оставили. И прекрасно пролечили. А надо было выписать.
Считала, считаю и буду считать! Нельзя потакать хамскому поведению. Нель..зя! Попустительство до добра ещё никогда не доводило.
Мы возвращались с мамой домой, и мама всю дорогу молчала. Отворачивалась, украдкой вытирала слёзы. В своём розовом возрасте что такое ненависть я ещё не знала. Но честное слово! То, что я испытывала в тот вечер, именно так и называлось!
Наконец мы дошли до нашего дома. Мама остановилась, присела на корточки, обняла меня…
– Доченька, я хочу попросить тебя…
– Я не скажу папе, прошептала я. Мамочка, не плачь. Не пла..ачь!
Мои родители учили своих детей порядочности не только на словах – прежде всего на деле. Я не помню, чтобы в нашей семье говорили одно, думали другое, а делали третье. Такого никогда не было. И то, что произошло в тот далёкий-далёкий вечер, не просто отложилось в моей памяти. Мне до сих пор больно!
Мама! Если Вы слышите меня – знайте! Вы не покривили душой. Конечно же, нет. Ваша невысказанная просьба была просьбой во спасение. И я отлично поняла Вас!
Маленький – не значит глупый или непорядочный. Я бы не рассказала ни папе, ни кому-либо другому о том, что произошло в больнице, ибо скотскую неблагодарность ближнего надо было ещё суметь осознать и пережить. В шесть лет я впервые испытала жгучий стыд за поведение другого, ещё и взрослого человека.
Прошли годы… И мама, и я помнили этот безобразный больничный спектакль. Но папа до конца дней своих о нём ничего не знал.
Заканчивая рассказ о моём дошкольном детстве – вернее, о самых ярких событиях, я не могу не описать ещё два эпизода.
Произошло это во времена репрессий. Значит, жили мы в финском домике и ходила я в ненавистный детский садик, где меня дразнили лягушкой. Была у меня подруга Ниночка. Прекрасно воспитанная, доброжелательная девочка. Родители её работали в средней школе. Папа – географ, а мама, честно говоря, не помню, что преподавала. Да это и неважно. Жила с ними ещё и бабушка – папина мама. Ниночка меня не обзывала, наоборот, старалась окружить вниманием. Девочка была постарше на полтора года, и расположение взрослой Ниночки мне очень льстило.
Я проснулась ночью от приглушённых голосов. Плакала пожилая женщина, а папа её успокаивал.
– Ирина Васильевна, соберите необходимое, берите внучку и приходите к нам. Вам дома оставаться нельзя. Я отправлю вас в район, к хорошим знакомым. Там вы будете в безопасности.
– Григорий Яковлевич, это ошибка. Они разберутся и отпустят. Сын ни в чём не виноват. А невестка в положении. Она и из дому-то почти не выходит. У неё сильный токсикоз.
– Хорошо, Ирина Васильевна, в районе дождётесь сына и невестки. А сейчас собирайтесь…
– Нет, я не поеду. Буду дома ждать.
– Ирина Васильевна, приведите к нам хотя бы ребёнка.
Мамин голос:
– Вы не беспокойтесь, я за Ниночкой буду ухаживать, как за своими детьми.
– Александра Кузьминична, спасибо вам, но вы преувеличиваете. В чём можно обвинить Ниночку? Она ещё и читать-то не умеет.
– И всё-таки, Ирина Васильевна, девочка должна жить у нас.
– Нет, Григорий Яковлевич, это лишнее. Я завтра пойду хлопотать. Вы уж, Александра Кузьминична, не посчитайте за труд, если задержусь, заберите Ниночку из садика.
– Конечно, Ирина Васильевна. Всё сделаю. А лучше бы к нам…
– Спасибо вам. Пойду я…
На следующий день Ниночка, как всегда, в отглаженном платьице, с бантиками в косичках, пришла в детский садик.
Наша группа играла во дворе в «Угадайку». Воспитательница задавала вопросы, а дети хором отвечали. Заскрипела калитка, и во двор вошли два взрослых дяди – в чёрных кожаных пальто и в чёрных шляпах. Между ними шла Ниночкина бабушка.
– Ниночка, где твоё пальтишко?
– В шкафчике.
– Беги, деточка, забери его, и мы поедем к маме и папе. Эти дяди очень хорошие. С ними и по едем…
Голос пожилой женщины дрожал. Дрожали и руки. Женщина обнимала внучку и было в её движениях столько горя и растерянности, что даже малые дети притихли. К Ниночке подошёл мальчик из старшей группы.
– Прощай, Ниночка.
– Заберите ребёнка! Не сказал – пролаял «хороший» дядя.
Воспитательница срывающимся голосом сказала первое, наверное, что пришло ей на ум.
– Дети, прогулка закончена. Пора обедать.
Вообще-то мы гуляли после завтрака. Не прошло и двадцати минут, но никто из детей не задал ни одного вопроса – выстроились парами и пошли в пристройку, служившую столовой. Нам подали чай, белый хлеб с маслом и песочком, и по половинке большого яблока.
Больше я Ниночку не видела. Исчезла вся её семья. Мои мама с папой переживали трагедию, как собственное горе. Даже папа, который прекрасно оценивал обстановку, не мог предположить, что старого человека и маленькую девочку заберут на следующее утро. Помню, что мама плакала и не хотела верить… Девочка росла на её глазах, и для мамы такой поворот событий был непереносим. Мама не понимала, как можно мстить ребёнку? За что?! Родители надеялись отыскать след хотя бы Ниночки. Папа наводил справки и в конце концов получил ответ: все четверо – без права переписки. Это расстрел! Я и сегодня не понимаю: пятилетнего ребёнка что, тоже расстреляли…?!
В чём же была вина родителей девочки перед партией и народом? Ни в чём. Ниночкин папа, учитель географии в школе, носил очки с толстыми стёклами. Почти слепой! Его обвинили в том, что он диверсант, взорвал мост. Мост этот ещё долгие годы стоял, пока его не снесли и не заменили более современным.
А молодая, беременная женщина – Ниночкина мама? Пожилая женщина и маленькая девочка? Мирные люди – какие они диверсанты? Их просто убили. По доносу мерзавца! И я верю и надеюсь:
НЕТ И НЕ БУДЕТ ПРОЩЕНИЯ ЗА ДАВНОСТЬЮ ЛЕТ! НЕТ И НЕ БУДЕТ ПРОЩЕНИЯ УБИЙЦАМ!
Есть люди, которые верят, что послевоенные дети в нашей стране жили счастливо. Не верьте, это не так. Как-то все забыли, какой была война. Солдат несколько раз на дню шёл в атаку. И так четыре года… Четыре года шёл на смерть! Это в песнях и сказаниях всё красиво и героически. На самом деле, чтобы человек не сошёл с ума от бесконечного ужаса, выдавались перед боем сто граммов наркомовских. Боец привыкал к этим ста граммам и спившихся мужчин после войны было очень много. Да что тут говорить?! Человек вернулся живым! И надеялся на счастье. Многие мужчины вернулись искалеченными войной. Большинство не имело образования и хоть какой-то специальности. Неквалифицированный труд стоил копейки, да и интеллигенция не зарабатывала приличных денег. Послевоенное поколение детей было дурно одето и не очень-то сытно накормлено. Строился развитой социализм, который, конечно же, всех должен был накормить и осчастливить! Справедливости ради, надо заметить: послевоенные продукты отличались прекрасным качеством! Вся еда – от хлеба до деликатесов, была абсолютно натуральной. Картошка, пожаренная на свинине, чем не еда? Только не у всех на это денег хватало.
Плохо было ещё и то, что развитию детей в семьях внимания уделялось мало. Если вообще уделялось. Детские книги и игрушки покупались редко, и дети шли в первый класс абсолютно неподготовленными. В детских садах детей учили многому, но далеко не все дети ходили в садики. Детских дошкольных учреждений катастрофически не хватало. Вся нагрузка образования детей ложилась на среднюю школу. И прежде всего – на младшие классы. Учителя младших классов работали сверх всякой меры. Дополнительные занятия с отстающими входили в их обязанности. А отстающих –полкласса! В каждом классе сорок человек. Классов с первого по десятый обязательно по четыре: четыре первых, четыре вторых… и так до десятого класса. Занимались дети в три смены. Первая смена – начальные классы, начинали учиться с восьми утра; вторая смена – это средняя школа. То-есть, с пятого по восьмой класс, учились с двенадцати и до четырёх. А уже с четырёх вечера и до девяти, а то и до десяти, учились восьмые, девятые и десятые классы. Классы обозначались буквами от А до Г. В некоторых школах были и Д классы.
В 1955-м году, в декабре, мне исполнилось долгожданных семь лет. И в следующем году, в сентябре, я должна была пойти в первый класс!
Я уже писала, папа попал в авиакатастрофу. Г.Я. Меркушкина оперировали два прекрасных хирурга – Морозова Мария Васильевна и Шавензова Елена Зиновьевна. Операция прошла успешно, и папа не остался обездвиженным инвалидом.
Не знаю я таких слов, чтобы сказать, какую благодарность я испытываю к двум женщинам, просто.. делавшим.. свою.. работу.. И давшим сотням людей вторую жизнь!
Мария Васильевна! Елена Зиновьевна! Вас помнят и поминают добрым словом поколения! И ещё долго-долго будут помнить и поминать внуки и правнуки вами спасённых.
После операции здоровье папы оставляло желать много лучшего. И мама в очередной раз стала выхаживать мужа. Пишу эти строки и вижу маму… Мама стоит перед зеркалом и трогает седую прядь. Яркая, блестящая, извилистая дорожка не портила маму, не придавала ей возраст. Скорее подчёркивала красоту тёмных волос и молодого лица. Беда лишь в том, что красивая платиновая прядь не была данью моде, а была эта прядь результатом бессонных ночей, слёз и страха. Страха за жизнь любимого человека и благополучие своих детей, теряющих отца… И как бы сложились наши судьбы, если бы папа умер…? Если бы мама спасовала перед бедой, отдалась бы горю?
Какая-то мистика присутствовала в судьбе мамы. 1944-й год – папа на фронте, несколько раз тяжело ранен. Мама выходила его. Прошло одиннадцать лет. Начало 1956-го года. Март, авиакатастрофа. Папа между небом и землёй. Надежды мало… Мама опять и снова возвращает папу к жизни. 1966 год, август. Первый папин инфаркт. Мама у папиной постели день и ночь. Папа выжил. И прожил ещё двенадцать с половиной лет…
Что я могу сказать о своих родителях? У них не было двух отдельных жизней, а была одна – одна на двоих, глубоко преданных друг другу людей. И именно мама являлась тем остовом, на котором держалась папина жизнь и расцветал его талант!
В конце августа родители должны были ехать в санаторий – папе необходима длительная реабилитация. Перед мамой встал вопрос: или ещё на год откладывать моё образование, или брать меня с собой и определять в местную школу за семь километров от санатория. Выход нашёлся! Меня взяла к себе на всю первую четверть семья Шорохова Семёна Марковича – секретаря мордовского обкома КПСС. Дядя Сеня, тётя Катя (Екатерина Константиновна) и их дочь Валя – люди, которым я пожизненно благодарна за их поступок. Не так это просто, скажу я вам, заботиться о чужом ребёнке, пережившим стресс.
У Вали никогда не было кос, а у меня –длинные, густые, и главное – гладкие и упругие. Тётя Катя с усердием заплетала их каждое утро, а они почему-то следом расплетались. В последствии Екатерина Константиновна говорила маме:
– Шура, я каждый день плакала. Как ты их заплетаешь?
– Да что ты, Катя? Это же легко.
Моя мама сама была обладательницей густых волос. Ей не привыкать…
Закончилось моё раннее детство. Начались школьные будни. Именно с этого момента я отчётливо помню Владика – Владислава Григорьевича Меркушкина и мою двоюродную сестру Раю (Раису Ивановну Осипову–Меркушкину).
Но прежде, чем перейти к своим школьным годам, я хочу сравнить своё раннее детство с детством своих родителей.
Мама моя, Александра Кузьминична Чиняева, родилась в семье сельского учителя, Кузьмы Никитовича Чиняева и его жены – Ирины Ивановны Бардиной. Дедушка мой для своего времени был образованным человеком. Сколько я знала деда – основной, доминирующей чертой его характера являлось желание знать! Он очень много читал, то есть читал всё, что только попадало ему в руки. И умел делать вывод. Неординарный, зачастую с прогнозом на будущее. Бабушка моя, простая крестьянка, обладала недюжинным умом и прекрасным чувством юмора. Мама выросла в благополучной семье, горя в детстве не знала.
У папы жизнь сложилась абсолютно по-другому. С двух лет сирота, он ещё в раннем детстве сполна испытал и горе, и голод, и унижение.
Со слов папы: работать он начал с шести лет. Конюшни чистил у богатых. За кусок хлеба.
– Вычищу, доченька, конюшню, зайду в дом и жду, когда покормят. Когда покормят, а когда и скажут – Чего тебе? Иди с Богом.
Уважаемый читатель! Это моя третья книга о папе. И последняя! Невыносимо тяжело и больно писать о его жизни. Я не смогу ещё раз осознать, пропустить через себя всё то горе, которое выпало на долю моего самого главного человека –
Меркушкина Григория Яковлевича.
Не дано мне понять, что же это за люди такие?! Ребёнку куска хлеба пожалели! Не просто от щедрот – за работу харчами заплатить не сподобились. Как их земля носила! И где были все эти тёти и дяди, старше папы на пятнадцать–двадцать лет, которые в пору папиного процветания дневали и ночевали у нас? Где.. они.. были..? Мой вердикт: не рядом.
Начну по порядку: и кто же в Верхиссах в 1923-м году так богато жил, что местный сирота у них конюшни чистил? И сколько таких богатеев обреталось, что папа ребёнком ходил от двора к двору. Хлеб насущный зарабатывал! Да не было таких в Верхиссах! От хутора к хутору ходил папа, а не от подворья к подворью! А где в начале двадцатого века были богатые хутора? Ответь, уважаемый читатель, на этот вопрос сам. Я себе ответила… И почему папа не любил морскую рыбу ни в каком виде? Может, он всё детство её только и ел? Не скрою, иногда папа съедал кусочек речной рыбы, такой, как стерлядь или простой окунёк. При этом говорил:
– Хм, совсем другой вкус…
Он сравнивал речную рыбу с морской! Я уже писала, папа очень любил море. Его любимая песня – «Раскинулось море широко» Интересно, в Верхиссах где плещется море с морской рыбой? И почему папа не имел практических знаний флоры и фауны средней полосы России? И почему папу отправили воевать на Ленинградский фронт? У меня слишком много ПОЧЕМУ…
Приведу ещё один пример – папин рассказ. Для меня – тяжелейшее воспоминание.
Со слов Григория Яковлевича Меркушкина:
«Валенок у меня не было, зато была заячья шапка-ушанка. Огромного размера! Школа – в барском доме, высоко на горе. Пока заберусь по снегу – ноги красные, как у гуся. Прибегу в класс, шапку сниму и ноги – в шапку. Сначала больно, аж искры из глаз! А потом тепло, хорошо, спать хочется…»
Я слушала и сдерживала слёзы, чтобы папу не расстраивать. У меня и сейчас першит в горле. Как представлю себе… Самое странное в этой истории то, что воспоминания эти для папы были приятными. Его глаза теплели. Видно вспоминал, как отогревался в шапке, как уходила боль, и не надо было больше бежать по снегу…
И какое же надо иметь детство, чтобы рассказ, вызывающий слёзы, был приятен рассказчику?
У папы не было детства!
Возникает законный вопрос: где были многочисленные родственники? И куда делась высокая гора, на которой стоял барский дом в Верхиссах?
Я была в этой деревне. Пологое место. Никаких намёков на моря, горы и возвышенности. И почему папа ни разу не вспомнил лес около деревни? И почему он этот лес, да и любой другой лес, не знал, как знают люди, детство которых проходило в лесистой местности?
Я ещё не раз и не два вернусь к папиной жизни. Полагаю, читателю тоже будет не безынтересно узнать, как прошла школьная жизнь его старшей дочери – Меркушкиной Натальи Григорьевны.
Итак, я – первоклассница! Живу у тёти Кати, дяди Сени и Вали Шороховых. Мама на три месяца увезла папу долечиваться в санаторий. Первую учительницу мою звали Мария Васильевна Лентовская. Знания у неё были замечательные, имела она звание заслуженной учительницы СССР, и целиком и полностью званию этому соответствовала. Мама моя тоже учительница, и беспокоиться о моих первых школьных успехах маме не приходилось. Да она и не беспокоилась. А беспокоилась она о том, как я приживусь в чужой семье. Прекрасно прижилась! Валя Шорохова – отличница и хохотушка, добрая девочка, и у нас сложились самые лучшие отношения. На всю жизнь! Жили мы так: до полуночи смеялись, утром никак не могли проснуться, а бедная тётя Катя нервничала все эти три месяца. Косы у меня были знатные, но… упругие и очень гладкие. Как шёлк. Их заплетаешь, а они следом расплетаются! И приходила я в школу с «дизайнерским» вариантом причёски. Мария Васильевна понимала, что по-другому никак и помалкивала. Ещё я неважно писала палочки. Это была не моя вина, а моего зрительного аппарата. Вернее, его индивидуальной особенности. Я прекрасно писала эти самые палочки, но… только если тетрадка лежала под определённым углом. Все десять лет педагоги поправляли мои тетради. Сколько мне нервов потратили! В старших классах учителя, наконец. «плюнули» на особенности ребёнка и оставили меня в покое. Какая разница, как лежит тетрадь?! В моё время педагоги неукоснительно соблюдали все правила. И это правильно!
С первого по четвёртый класс я ничего негативного в школе не испытывала. Училась я с интересом, младшие классы закончила с отличием, впереди – средняя школа!
Самым главным авторитетом моих школьных лет, был мой брат Владик – Владислав Григорьевич Меркушкин. Умница, на четыре года меня старше, и я отдавала должное его «солидному» возрасту и знаниям. Владик слыл запредельно начитанным мальчиком. Читать он начал бегло в четыре года, и читал всю свою жизнь. Мама считала, что её сын читает не вдумчиво, пропускает страницы. Родители не могли объяснить скоростности прочтения книг. И не поняли бы, если бы эта «тайна» не открылась сама собой. Ни о каких методиках скоростного чтения в те далёкие времена и не слышали. Однако, если один человек может что-либо понять, так почему другому это не дано? Маленький мальчик не мог знать, как читают другие. Он читал так, как ему нравилось. Оказалось, что читал он каким-то своим способом – очень быстро, концентрируясь на главном. Моему брату и учёба в школе давалась легко – отличник из отличников без всяких усилий. В шестнадцать лет закончил школу с золотом и играючи, с максимальным проходным балом, поступил в МЭИ.
Я считаю, что я не такая способная, как Владик, но я явно «перекрывала» его в сочинениях, что мне очень льстило. А Владик на полном серьёзе мною гордился, считал меня талантливым ребёнком, и не упускал случая похвастать моими рассказами перед друзьями, чем и смущал меня до нельзя.
Насколько умён был мой брат, настолько же и добр и справедлив. Владик младшую Натуличку любил и всегда защищал. Помню, в ГУМе меня толкнула злая, раздражённая женщина. Владику едва исполнилось тринадцать лет. Не побоялся мой братик ни мужа этой женщины – весьма габаритного мужчины, ни самой обидчицы. Догнал их и стал что-то говорить… Правильно, наверное, говорил. Пара вернулась и извинилась передо мной, девятилетней девочкой. Мужчина подал руку Владику и с уважением пожал детскую ручку моего брата.
Я не обращалась к Владику, если мне было что-то непонятно в домашнем задании. Стеснялась. Он обязательно всё бы объяснил, но всегда сложно, шире школьной программы. Да ему с детства надо было лекции в институте читать! Или экстерном закончить школу. Но мама всегда была против экстерната – считала, что такое образование ведёт к поверхностным знаниям. Может, она и права…
Я закончила шестой класс, а Владик – десятый. Уехал учиться в Москву и я осиротела… Мне не хватало Владика. Я не помню, чтобы мой брат хоть когда-то пребывал в плохом настроении. Красивый, артистичный мальчик. Любую историю расскажет так, что и взрослые долго смеются. Без Владика жизнь стала какой-то серой. Раньше я не замечала, какая на улице погода. А тут стала замечать. И совсем даже не каждый день солнышко… А с Владиком – каждый день…!
Я письма Владику писала. У нас сложилась переписка в виде моих юмористических рассказов.
Назывались они «Капля Смеха». Владик оценивал и отвечал мне соответствующим письмом. Для нас такое общение считалось нормой. Значения переписке не придавали. Читали, отвечали, прочитанное выбрасывали за ненадобностью. Ничего не сохранилось. Как жалко!
Владислава Григорьевича Меркушкина нет в живых более тридцати лет. Привыкнуть к этому я не могу и не хочу! Его лицо, его письма живы перед моим мысленным взором. К сожалению, только перед взором…
Хорошо помню, как мама готовилась к семейному празднику – приезду сына на летние каникулы. Дверь открывается, входят папа и Владик. Мама обнимает сыночка, на глазах слёзы… Так и должно быть! Именно так встречаются родные люди!
Все садимся за праздничный стол. Владик о чём-то вспоминает, идёт к своей сумке… Говорит мне:
– Закрой глаза.
Я закрываю… На руке тикают маленькие, прелестные часики… Со стипендии, с родительских переводов, купил мне самые дорогие часы! Стоили они сорок пять рублей! Месячная зарплата педагога начальных классов! Далеко не каждая взрослая женщина могла позволить себе такую роскошь. А девочкам и мечтать не приходилось…
Владик-Владик… Тебе бы было сейчас всего лишь семьдесят шесть лет… Ты даже представить не можешь, как мне тяжело без тебя…
Со времён своих школьных лет, я очень люблю Раечку – Раису Ивановну Осипову – Меркушкину. Я её всегда любила и сейчас люблю. И всегда выделяла из всех папиных родственников. Будучи ребёнком, я не понимала, чем мне так не угодили именно папины многочисленные родственники. Нас воспитывали в духе любви к ближнему, но я при всём моём большом желании не могла любить всех подряд. Не нравилось мне у папиных родственников постное выражение лица – казанские сироты, да и только! Раечка старше меня на десять лет, и я ни разу не видела её во образе «казанской сироты». Полненькая, светленькая деревенская девушка. Умненькая и весёлая, с ясными синими глазами с хитринкой. Я и сейчас её такой вижу… Раечка любила нас. Просто любила. И никогда, никому не завидовала. Во всех своих книгах я обязательно посвящаю несколько глав моей Рае – моей любви к ней…
Раечка поступила в казанский медицинский и каждые каникулы бывала у нас. Ну..у.., это были времена! Владик с серьёзным видом рассказывал смешные школьные истории и забавные анекдоты, Раечка с полуоборота заводилась, смеялась до слёз; я тоже не отставала. Уложить нас спать не представлялось возможности! Папа смеялся вместе с нами, а мама очень расстраивалась, что опять до первых петухов спать не будем. Так и заболеть недолго… Да как же! Были мы абсолютно здоровыми, жизнерадостными детьми. Кстати, папа всегда занимал нашу сторону.
Звоню Раечке. С удовольствием вспоминаем те давние времена. Всё в прошлом… Владика нет, мне за семьдесят, а Раечке за восемьдесят…
Мне исполнилось тринадцать лет, когда родители получили новую квартиру по улице Льва Толстого. С 1960-го года, папа – ректор Мордовского Государственного Университета. И какой ректор! Образованный, с прекрасными организаторскими способностями, с непостижимыми уму связями в лучшем смысле этого слова! Папа мой был обаятельнейшим человеком. А кругозор какой! Память колоссальная! Классическая литература, живопись, скульптура, зодчество – во всём разбирался! Тонкий вкус и стремление к знанию! Перед ним открывались двери самых высоких кабинетов. Это мой папа! Ни с кем я его не сравнивала. Да и с кем я его могла сравнить? Друзей его возраста у меня не могло быть. Если только педагоги? Но они не были всесторонне развитыми. Люди стремились общаться с папой и он не отказывал. От обыкновенного рабочего, до академиков – все бывали в папином доме.
Желание писать – это прежде всего желание самовыразиться. Папа писал… Писал стихи, научные труды, отличные пьесы. И ставили эти пьесы не только на сцене мордовских театров, но и за рубежом. Точно знаю – на венгерской сцене. Родителям подарили вырезку из газеты об успехе папиной пьесы в Венгрии. Вырезка не сохранилась. Я не знаю, кто презентовал папе эту статью. Перевод оставлял желать лучшего – неточный, и папа почему-то не придавал венгерской газете должного значения. А впрочем, объяснение есть: для Григория Яковлевича Меркушкина главной точкой на земном шаре была его Мордовия!
Будучи ярким человеком, папа никому не завидовал. Несправедливость переживал тяжело, а завистью не страдал. К сожалению, эту черту папиного характера, я унаследовала сполна. Что такое зависть и как завидовать – вообще не знаю. Полагаю, именно поэтому, я в своё время на многое не обратила внимания.
Въехал в наш дом и в наш же подъезд на Гражданской некто А.В. Тремасов со своей семьёй. Одним словом, в «нашем доме появился удивительный сосед». Появился и в университете. Хозяйственный мужчина, очень рукастый. Ничего плохого о нём не скажешь. Уж очень этот Тремасов дружить с папой хотел. Да и его жена тоже стремилась к общению. Пожалуйста! Мои хлебосольные родители были совсем не против. И всё шло прекрасно. Заходили к нам по вечерам на огонёк, смотрели вместе телевизор – мужчины говорили о политике, женщины – о детях. Мы переехали на Льва Толстого – так они и в новой квартире были частыми гостями.
Что случилось с Тремасовым – так никто из нас и не понял. Человек вдруг возненавидел папу всеми фибрами души. Гадил по-чёрному, и не скрывал этого. Прошло более полувека, я так и не сделала чёткого вывода. Полагаю, в основе ненависти этого персонажа лежали неудовлетворённые амбиции. Тремасов слыл уж очень хозяйственным мужчиной и видно решил, что его место в ректорском кресле. Университет – не посол огурцов. Ректору нужны знания энциклопедические, да ещё и умение эти знания применить во благо делу. Тремасов же трёх книг за жизнь не прочитал. Более того, не считал образование чем-то жизненно важным. Зато как все недалёкие люди был пламенным партийцем, и считал задачи партии почему-то своей великой заслугой. У папы, насколько я помню, громоподобные речи необразованного партайгеноссе вызывали улыбку. К Тремасову папа относился как к хорошему мужику, но… недалёкому. С какого именно момента у описываемого товарища началось противостояние – я не знаю. Думаю, с той самой минуты, когда папа недвусмысленно поставил Тремасова на место. Почувствовав себя другом семьи, стал малограмотный человек учить папу ректорству…
Бытует мнение, что папа не терпел возражений и советов. Абсолютные домыслы! Папа всегда выслушивал людей. Более того, меня учил слушать.
– Даже у малого ребёнка есть зерно истины в сказанном. Не считай своё собственное решение единственно правильным. Выслушай человека и сделай вывод…
В истории с Тремасовым слушать было нечего. И зная папу, предполагаю, что Григорий Яковлевич Меркушкин без обиняков сказал, чтобы товарищ не лез туда, где явно некомпетентен.
Для недалёкого, самоуверенного человека, каковым являлся Тремасов, такой расклад стал каплей, переполнившей чашу амбициозных неудач. В своём глазу бревна не замечая, товарищ Тремасов вдарился в кликушество – по-другому его действия квалифицировать не представляется возможным. А коль скоро у папы умных друзей и доброжелателей, искренне уважающих его, было очень и очень много, папа не придавал серьёзного значения тремасовскому психозу. Раздражался, конечно, но раздражение быстро проходило – компенсировалось с лихвой прекрасным отношением умных и порядочных.
Разве мог подумать Григорий Яковлевич Меркушкин, что тремасовоподобные сместят его с поста ректора? Для таких мыслей надобно иметь больной мозг. Извините, но Меркушкин Григорий Яковлевич являлся обладателем редкого здравого ума и недюжинных способностей. Если и нужно было папе чего-то опасаться, так это собственного либерализма. Как известно, низкоинтеллектуальная толпа всегда завистлива и способна размножаться, как инфузория туфелька, появись среди неё лидер.











