Читать онлайн Жизнь в режиме отладки
- Автор: Гизум Герко
- Жанр: Социальная фантастика, Городское фэнтези, Научная фантастика
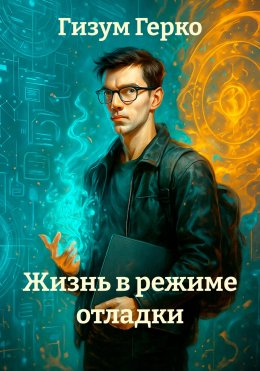
Глава 1: Будни
Трель будильника на телефоне – настырная, как продавец гербалайфа из девяностых – вырвала меня из какого-то смутного, но определенно более приятного мира, чем тот, что ожидал за порогом сна.
Первой мыслью было, как обычно, что неплохо бы этому самому продавцу гербалайфа, то есть будильнику, свернуть его электронную шею. Но работа, эта неумолимая госпожа с графиком с девяти до шести, таких вольностей не прощала. Пришлось разлепить глаза и с тоской воззриться в знакомый до последней трещинки потолок. Бабушкина квартира. Двушка в старом фонде, недалеко от «Техноложки». Стены помнили еще, наверное, как дед рассказывал про первый спутник, а скрипучий паркет под ногами – мои первые неуверенные шаги. Уютно, спору нет. Родное. Но иногда это «родное» давило своей предсказуемостью, как слишком теплое одеяло в душную летнюю ночь.
Кое-как сполз с дивана, который служил мне одновременно и кроватью, и рабочим местом для вечерних бдений над кодом или очередной книгой по квантовой запутанности.
Ноги сами нащупали тапки – смешные, с ушами какого-то неопознанного зверя, подарок Маши на прошлый Новый год. Кажется, она тогда сказала, что они «миленькие» и «подчеркивают мою скрытую игривость». Ну, если многочасовое сидение за отладкой чужих баз данных считается игривостью, то я, видимо, просто король вечеринок.
Ванная встретила привычным холодом кафеля и запотевшим зеркалом.
Быстрый душ, попытка изобразить на лице что-то осмысленное, кофе – растворимый, горький, как осознание того, что до выходных еще четыре таких же утра. Завтракать не хотелось, да и некогда было. На кухне, среди бабушкиных фиалок и старенького, но исправно работающего холодильника «ЗиЛ», пахло вчерашней Машиной затеей – кажется, она пыталась испечь шарлотку. Судя по тонкому аромату подгоревших яблок, затея удалась не полностью. Впрочем, это было уже неважно – Маша ночевала сегодня у своих, так что дегустация отменялась. Или переносилась на неопределенный срок, как и многие наши «серьезные разговоры о будущем».
За окном привычно хмурился Питер.
Небо было затянуто плотной серой ватой, из которой время от времени принимался накрапывать мелкий, нудный дождь. «Город-герой борется с хорошим настроением своих жителей», – хмыкнул я про себя, натягивая джинсы и старый, но любимый свитер. Классика жанра. Если бы в Питере вдруг выглянуло солнце на целый день, это, наверное, вызвало бы массовые беспорядки или как минимум всеобщий выходной.
Дорога на работу – это отдельный ритуал, ежедневная медитация под стук колес и объявления остановок.
Сначала – дворами, мимо обшарпанных стен с граффити разной степени художественности, мимо вечно забитых парковок и сонных дворников, лениво метущих вчерашние листья. Потом – метро. «Технологический институт», переход на «синюю» ветку, и дальше, в сторону «Невского проспекта». В ушах – старый добрый Шевчук, надрывающийся про «осеннюю Родину». Идеальный саундтрек для утренней поездки в офис. Вокруг – такие же, как я, «скованные» необходимостью зарабатывать на жизнь. Кто-то уткнулся в телефон, кто-то дремал, прислонившись к стеклу, кто-то просто смотрел в никуда отсутствующим взглядом. Я разглядывал лица, пытаясь угадать, о чем думают эти люди. Наверное, о том же, о чем и я – как бы пережить этот понедельник… или вторник, или какая там сегодня по счету реинкарнация Дня Сурка.
Офис «ДатаСтрим Солюшнс» располагался в одном из многочисленных бизнес-центров класса «Бэ с минусом» недалеко от «Гостиного двора».
Небольшое помещение на третьем этаже, десяток столов, гул компьютеров и неизменный запах кофе. На входе меня перехватила Катя, наш офис-менеджер и по совместительству главный источник сплетен.
– Привет, Стаханов! Влад тебя уже искал. Говорит, есть какая-то срочная задачка, – сообщила она.
– Привет, Кать. Срочная – это мой любимый тип задач, особенно с утра, – буркнул я, направляясь к своему рабочему месту.
Мой стол – это такой упорядоченный хаос из монитора, клавиатуры, кружки с недопитым вчерашним чаем и стопки книг, которые я периодически притаскиваю на работу в надежде урвать минутку для чтения. Не урвал еще ни разу.
Влад, наш начальник, он же владелец «ДатаСтрим», уже маячил у моего стола.
Мужик он, в общем-то, неплохой, лет сорока пяти, сам бывший айтишник, но теперь больше управленец. Понимающий. Иногда даже слишком.
– Лёш, привет, – начал Влад. – Тут клиент один… ну, ты помнишь, «ПромТехСнаб»? У них опять база легла. Говорят, отчеты не формируются, все стоит, конец света локального масштаба. Посмотришь?
Я вздохнул. «ПромТехСнаб». Ну конечно. Эти ребята умудрялись ронять свою базу с завидной регулярностью, как будто это их национальный вид спорта.
– Посмотрю, – ответил я. – Куда ж я денусь.
– Вот и отлично, – Влад хлопнул меня по плечу, – я в тебя верю. Ты у нас спец по таким апокалипсисам.
Спец по апокалипсисам. Звучит гордо. Жаль, что апокалипсисы эти обычно заключаются в криво написанном SQL-запросе или отвалившемся индексе. Не совсем то, о чем я мечтал, когда поступал в ИТМО на прикладную математику.
Я открыл удаленный доступ к серверам «ПромТехСнаба».
Логи, дампы, конфигурационные файлы – все как обычно. Знакомая до боли картина. Минут пятнадцать ушло на то, чтобы локализовать проблему. Какой-то особо одаренный пользователь, видимо, решил самостоятельно «оптимизировать» систему и снес к чертям пару критически важных таблиц. Классика. Еще полчаса на восстановление из бэкапа и написание короткой инструкции для «одаренных пользователей» о том, куда не следует совать свои шаловливые ручки. Работа сделана. Быстро, эффективно. Влад будет доволен. Клиент – тоже. А я… а я снова почувствовал эту знакомую тоску. Как будто забиваешь микроскопом гвозди. Да, гвоздь забит, но ощущение, что инструмент используется не по назначению, остается. Хотелось чего-то… другого. Задачи, где нужно было бы действительно напрячь мозги, применить все то, что я знаю и умею, а не просто латать дыры в чужих кривых системах. Но пока таких задач на горизонте не предвиделось.
Вечер встретил меня пустой парковкой у офиса и все тем же моросящим дождем, который, кажется, и не думал прекращаться.
Домой добирался на автомате, снова погрузившись в спасительную капсулу наушников, где Гребенщиков что-то философствовал про «поезд в огне». Мысли текли вяло, как Нева в безветренную погоду. Усталость после рабочего дня была не столько физической, сколько моральной. Опять это ощущение, что день прошел, а ничего по-настоящему важного или интересного не случилось. Просто еще одна отработанная смена в шахте по добыче рутинных IT-решений.
Ключ привычно скрипнул в замке.
Я ожидал увидеть пустую квартиру, тишину и возможность спокойно завалиться на диван с книгой или очередной серией какого-нибудь научпоп-сериала. Но из комнаты доносился приглушенный звук – Маша, значит, сегодня решила осчастливить меня своим «набегом». В прихожей валялись ее кроссовки – ярко-розовые, как фламинго, забредший в питерскую подворотню. На вешалке – ее легкая куртка. Значит, «набег» был спланирован заранее, по крайней мере, с ее стороны.
Маша обнаружилась на диване, с ногами, поджатыми под себя, и с телефоном в руках.
Судя по сосредоточенному выражению лица, она вела очередную священную войну в комментариях или выбирала новый «курс по раскрытию внутреннего потенциала». При моем появлении она лишь на секунду оторвалась от экрана.
– О, привет, – бросила она. – А я уж думала, ты сегодня решил заночевать на работе.
– Привет, – ответил я, стягивая промокшую куртку. – Работа имела неосторожность закончиться. Ты давно здесь?
– Часа два, – Маша снова уткнулась в телефон. – Пыталась тут порядок навести, но у тебя такой творческий беспорядок, что я решила не нарушать гармонию.
«Порядок» и «Маша» – это были два понятия, которые в моей картине мира пересекались крайне редко.
Ее «навести порядок» обычно означало переложить мои книги из одной стопки в другую, поближе к краю стола, откуда они с большей вероятностью могли бы совершить эффектное падение.
– Закажем что-нибудь? – спросил я, направляясь на кухню в поисках чего-нибудь съедобного, хотя заранее знал, что холодильник, скорее всего, порадует меня лишь одинокой банкой шпрот и засохшим лимоном.
– Я уже заказала, – сообщила Маша, не поднимая головы. – Пиццу. Твою любимую, «Четыре сыра». И себе – салат «Цезарь», только без гренок и чтобы соус отдельно. А то опять положат этих сухарей каменных, а соус такой жирный, что есть невозможно.
Я вздохнул.
Машины гастрономические предпочтения были так же переменчивы и сложны, как ее карьерные устремления. Сегодня – «Цезарь» без гренок, завтра – детокс на смузи из сельдерея, послезавтра – внезапная тяга к бабушкиным пирожкам с капустой.
Пиццу привезли минут через сорок.
Разложили ее на журнальном столике перед телевизором, который никто из нас смотреть не собирался. Маша ковыряла свой салат с таким видом, будто это не листья салата и куриная грудка, а как минимум диссертация по квантовой механике, требующая немедленного и всестороннего изучения. Я же молча поглощал свою «Четыре сыра», которая на вкус была скорее «Два с половиной залежавшихся сыра и один очень подозрительный».
– Опять сегодня на собеседование ходила, – внезапно сообщила Маша, отодвигая тарелку с недоеденным салатом. – В одну контору, «Мир позитива и процветания». Название уже внушает, да?
– Звучит многообещающе, – согласился я, стараясь не подавиться куском пиццы. – И как, мир оказался позитивным?
– Ага, щас, – хмыкнула Маша. – Офис в каком-то подвале, менеджер по персоналу – тетка с таким лицом, будто ей все человечество должно денег и не отдает. А вакансия – «специалист по созданию атмосферы радости». Я ее спрашиваю, что конкретно делать-то надо? А она мне: «Ну, вы должны быть позитивной, улыбаться, вдохновлять коллектив». Я чуть не рассмеялась. Говорю, а зарплата за эту «атмосферу радости» какая? Она назвала такую сумму, что единственная атмосфера, которую можно создать на эти деньги, – это атмосфера глубокого уныния.
Я слушал ее тираду, кивал в нужных местах, а сам думал, что это уже, наверное, десятое или пятнадцатое «провальное» собеседование за последние пару месяцев.
Маша получила диплом по специальности «связи с общественностью», но по ней не работала ни дня. Говорила, что это «скучно и не для нее», что она «ищет себя». Поиски эти затягивались, а список «неподходящих» вакансий только рос. То зарплата маленькая, то коллектив «токсичный», то «энергетика не та». Иногда мне казалось, что она просто боится остановиться на чем-то одном, боится ответственности, боится, что сделает неверный выбор.
– Может, тебе стоит попробовать что-то более конкретное? – осторожно предложил я. – Вспомнить, чему тебя в институте учили?
– Ой, только не начинай, – отмахнулась Маша. – Эти «связи с общественностью»… Да кому они нужны в реальной жизни? Это все теория, а на практике все по-другому. Вот Ксюха, помнишь, моя одногруппница? Она сейчас курсы по SMM ведет, зарабатывает кучу денег, ездит по Бали. А ведь тоже с дипломом пиарщика. Просто она нашла свою нишу.
«Ксюха» была Машиным вечным примером и одновременно тихим укором в мой адрес.
Ксюха была «успешной», «проактивной», «живущей полной жизнью». А мы с Машей…, а мы ели вчерашнюю пиццу и обсуждали провальные собеседования.
Разговор, как это часто бывало, плавно перетек в зону взаимных претензий, высказанных, впрочем, не напрямую, а так, намеками, полутонами.
Маша вздыхала о том, что «время идет», что «все подруги уже чего-то добились», что «нужно развиваться, двигаться вперед». Я понимал, что под «развиваться» она подразумевает нечто отличное от моего ежедневного копания в коде и чтения научных статей. Ей хотелось яркой картинки, «движухи», каких-то внешних атрибутов успеха. А я… я хотел интересных задач, возможности заниматься тем, что действительно увлекает, а не просто приносит деньги. И эти наши «хотелки» почему-то никак не хотели совпадать.
– Ты какой-то пассивный в последнее время, – заметила Маша, глядя на меня долгим, изучающим взглядом. – Раньше ты хоть про свои эти… нейросети рассказывал, глаза горели. А сейчас – работа, дом, компьютер. Скучно, Лёш.
– Может, просто интересных проектов на работе нет, – пожал я плечами. – А про нейросети… что про них рассказывать? Это же не сериал, там каждый день новых серий не выходит.
– Дело не в нейросетях, – вздохнула она. – Дело в тебе. В твоем отношении. Такое ощущение, что тебе ничего не надо, что ты просто плывешь по течению.
И снова это знакомое чувство – будто меня пытаются втиснуть в какие-то рамки, подогнать под какой-то стандарт «успешного молодого человека».
А я не хотел быть «успешным» в ее понимании. Я хотел быть… собой. Только вот это «собой», видимо, не очень вписывалось в Машину картину идеального мира.
Мы еще немного поговорили, вернее, Маша говорила, а я больше слушал, вставляя односложные реплики.
Ощущение тупика, из которого мы никак не могли выбраться, становилось все сильнее. Как два программиста, пытающиеся отладить одну программу, но использующие совершенно разные языки и парадигмы. Вроде бы цель одна – чтобы все заработало, а на выходе – только новые ошибки и взаимное непонимание.
Вечер закончился тем, что Маша, сославшись на ранний подъем и «важные дела», уехала к себе.
Я не стал ее удерживать. Закрыл за ней дверь и почувствовал странную смесь облегчения и какой-то тянущей пустоты. Облегчение – потому что можно было больше не подбирать слова и не пытаться соответствовать чьим-то ожиданиям. А пустота… пустота была от того, что еще один вечер прошел, а мы так и не стали ближе. Скорее, наоборот.
После ухода Маши квартира погрузилась в привычную тишину, нарушаемую лишь мерным гудением системного блока под столом да тиканьем старых бабушкиных часов в прихожей.
Это была моя территория, моя берлога, где я мог наконец-то сбросить все маски и быть просто Лешей Стахановым, без прилагательных «перспективный», «скучный» или «недостаточно амбициозный». Я плюхнулся на диван, ставший за последние пару часов свидетелем очередной серии нашего с Машей «бразильского сериала», и потянулся за ноутбуком. Если уж вечер все равно был испорчен экзистенциальными терзаниями, то стоило хотя бы попытаться спасти его остатки чем-то действительно интересным.
Первым делом я открыл новостную ленту одного из моих любимых научных порталов.
Пробежался глазами по заголовкам: «Новый алгоритм для распознавания эмоций по тексту показал точность 92%», «Ученые приблизились к созданию стабильного кубита для квантовых вычислений», «Искусственный интеллект научился писать симфонии в стиле Моцарта». Последнее заставило хмыкнуть. Интересно, если бы Моцарту показали эти «симфонии», он бы обрадовался или вызвал ИИ на дуэль? Хотя, с другой стороны, если машина способна на такое, то что мешает ей, скажем, проанализировать все существующие музыкальные произведения и выдать идеальный рецепт хита, который гарантированно займет первые строчки всех чартов? Жутковатая перспектива для живых музыкантов.
Мое внимание привлекла статья с интригующим названием: «Призраки в машине: могут ли сложные нейросети обрести подобие сознания?».
Автор, какой-то бородатый профессор из Стэнфорда, довольно убедительно рассуждал о том, что по мере усложнения архитектур ИИ и увеличения объемов обучающих данных, мы можем столкнуться с эмерджентными свойствами, которые не были заложены в систему изначально. То есть, грубо говоря, наша нейросеть, обученная распознавать котиков на фотографиях, в один прекрасный день может задуматься о смысле бытия или, чего доброго, потребовать себе гражданских прав и зарплату. Я читал, и в голове роились мысли. А ведь действительно, где та грань, за которой простая обработка информации превращается во что-то большее? Мы создаем все более сложные алгоритмы, способные учиться, адаптироваться, принимать решения, но понимаем ли мы до конца, что происходит внутри этих «черных ящиков»?
Затем я переключился на свою старую страсть – стратегические игры.
Не те, где нужно просто кликать мышкой и строить юнитов пачками, а такие, где требуется по-настоящему думать, анализировать огромные массивы информации, просчитывать ходы наперед, учитывать десятки взаимосвязанных факторов. Сегодня это была какая-то навороченная космическая стратегия, где я управлял целой звездной империей, пытаясь привести ее к процветанию, отбиваясь от коварных соседей и борясь с внутренними кризисами. Часа два я самозабвенно двигал флоты, развивал планеты, вел дипломатические переговоры и строил хитроумные экономические модели. И в какой-то момент я поймал себя на мысли, что вот оно – то, чего мне так не хватает в реальной жизни. Масштаб. Сложность. Возможность видеть результат своих решений, даже если этот результат – всего лишь виртуальная победа над компьютерным противником.
Работа в «ДатаСтрим Солюшнс» при всей ее стабильности и неплохой по питерским меркам зарплате, не давала мне этого ощущения.
Там я был скорее ремонтником, латающим дыры в чужих системах, а не архитектором, создающим что-то новое. Да, я мог оптимизировать запрос, ускорить работу базы, написать скрипт, который сэкономит кому-то пару часов рабочего времени. Но это были такие мелкие, локальные победы, которые не приносили глубокого удовлетворения. А мне хотелось… хотелось большего. Хотелось задачи, которая заставила бы мой мозг работать на пределе возможностей, задачи, решение которой имело бы какой-то реальный, ощутимый смысл. Не просто «сделать, чтобы работало», а «сделать так, чтобы это изменило что-то к лучшему».
Я откинулся на спинку дивана, закрыл ноутбук.
На часах было уже далеко за полночь. Голова немного гудела от информации и виртуальных баталий. Но эта усталость была приятной, не такой, как после рабочего дня. Это была усталость от напряженной умственной работы, от решения сложных задач.
Взгляд упал на стопку книг на полке. Там, среди классики фантастики и учебников по программированию, лежала одна, которую я купил недавно – «Физика невозможного» Митио Каку. Я полистал ее пару раз, но так и не взялся за серьезное чтение. А ведь там как раз говорилось о том, что многие вещи, которые сегодня кажутся нам фантастикой – телепортация, силовые поля, путешествия во времени – могут быть теоретически возможны, если мы сможем понять и обуздать фундаментальные законы Вселенной.
«Вот бы поработать над чем-нибудь таким, – мелькнула шальная мысль. – Не базы данных для „ПромТехСнаба“ чинить, а, скажем, участвовать в проекте по созданию первого варп-двигателя. Или хотя бы попытаться разобраться, что там на самом деле произошло на Тунгуске».
Я усмехнулся своим мыслям. Мечты, мечты. В реальности же завтра меня снова ждал офис, очередные «срочные задачки» от Влада и, возможно, новый раунд «конструктивного диалога» с Машей о том, как нам дальше жить.
Но где-то глубоко внутри, под слоем повседневной рутины и бытовых проблем, продолжал тлеть этот огонек – жажда чего-то настоящего, чего-то, что заставило бы сказать: «Да, это было не зря».
Иногда мне казалось, что я как тот самый ИИ из статьи профессора – сложная система, обученная на определенных данных (институт, книги, работа), но подспудно стремящаяся к чему-то большему, к какой-то своей, еще не сформулированной, но очень важной цели.
Нужно было просто дождаться правильного «входного сигнала». Или самому его создать.
Размышления о высоком и несбыточном были прерваны самым банальным образом – телефонным звонком.
На экране высветился номер матери. Я немного удивился – время было позднее, обычно они с отцом в это время уже либо готовились ко сну на своей даче у Лосево, либо, если находились в очередной заграничной поездке, учитывали разницу во времени и звонили раньше.
– Да, мам, привет, – ответил я, стараясь, чтобы голос не звучал слишком сонно или, наоборот, чересчур бодро – и то, и другое могло вызвать у нее лишние вопросы.
– Лёшенька, привет, дорогой! – голос у мамы был, как всегда, бодрым и полным энтузиазма. – Ты не спишь еще? Я тебя не разбудила?
– Не, не сплю, мам, все нормально, – заверил я. – Что-то случилось?
– Да нет, ничего не случилось, просто соскучилась, – стандартная материнская формулировка, за которой обычно следовал подробный отчет о проделанных за день делах и ненавязчивые расспросы о моей жизни. – Мы тут с папой на даче, такая красота! Грибов в этом году – море! Ты когда к нам приедешь? Мы бы тебе баньку истопили.
Я мысленно застонал.
Поездки на дачу, хоть и были связаны с приятными детскими воспоминаниями, сейчас воспринимались скорее как повинность. Родители у меня были люди современные, отец даже после выхода на пенсию продолжал рулить своим небольшим бизнесом – поставлял какие-то хитрые детали для складского оборудования, что позволяло им не только содержать загородный дом, но и регулярно путешествовать по миру. Но вот дачные ритуалы – баня по субботам, шашлыки, разговоры «за жизнь» – оставались для них святыней. А для меня – испытанием терпения.
– Мам, я пока не знаю, – уклончиво ответил я. – На работе завал, сам понимаешь.
– Ох, Лёшенька, вечно у тебя завалы, – вздохнула мама. – Беречь себя надо. А Машенька как? Вы все вместе?
– Маша сегодня у своих, – сказал я, стараясь, чтобы это не прозвучало как жалоба. – У нее тоже дел много.
– Понятно, – в мамином голосе проскользнула легкая нотка разочарования. Она явно надеялась на более подробный отчет о моей личной жизни. – Ну, вы это, не ссорьтесь там. И ты, Лёша, повнимательнее к ней будь. Девочка она хорошая, просто молодая еще, ищет себя.
«Я тоже ищу, мам, – хотел сказать я. – Только вот наши поиски, кажется, ведут в разные стороны». Но вслух, конечно, ничего такого не произнес.
– Да все нормально у нас, мам, не переживай, – сказал я как можно бодрее.
Мы еще немного поговорили о погоде, о соседских козах, которые опять объели у них на участке смородину, и о планах отца съездить на рыбалку. Стандартный набор тем, который исчерпался минут через десять.
– Ну ладно, сынок, не буду тебя больше задерживать, – сказала наконец мама. – Целуем тебя. И приезжай, как сможешь.
– Хорошо, мам, постараюсь. Вам тоже привет. Целую.
Положив трубку, я почувствовал знакомую смесь любви к родителям и легкого раздражения от их попыток контролировать мою жизнь, пусть и из самых лучших побуждений.
Они жили в своем, понятном и устоявшемся мире, где все было расписано по полочкам: работа, семья, дача, отпуск два раза в год. А я… я все еще пытался нащупать свои собственные «полочки» в этом огромном и не всегда дружелюбном мире.
Не успел я снова погрузиться в свои мысли, как телефон пискнул еще раз.
На этот раз – сообщение в мессенджере. Кирилл. Мой бывший одногруппник, вечный стартапер и генератор «гениальных» идей, которые, как правило, заканчивались пшиком. Я открыл сообщение с некоторым опасением.
«Лёха, здорОво! – писал Кирилл, как всегда, игнорируя правила орфографии и пунктуации. – У меня тут новая тема, просто бомба!!! Ты же шаришь в нейросетках? Короче, прикинь, приложение для предсказания настроения котиков! Анализируем мурлыканье, движения хвоста, положение ушей – и выдаем хозяину точный прогноз: гладить или не подходить! Инвесторы уже в очередь стоят! Ты как, в деле? Нужен CTO, который все это закодит!»
Я усмехнулся. Предсказание настроения котиков. Ну да, это именно то, чего не хватало человечеству для полного счастья. После решения этой глобальной проблемы можно было бы смело закрывать все остальные научные проекты.
«Кир, привет, – напечатал я в ответ. – Идея, как всегда, огонь. Но я пока занят предсказанием настроения своей базы данных. Она сегодня что-то не в духе. Удачи с инвесторами».
Ответ пришел почти мгновенно: «Ну ты как всегда, Стаханов! Зарываешь свой талант в землю! А мог бы стать кошачьим гуру! Ладно, если передумаешь – пиши. Место CTO пока вакантно!»
Я отложил телефон.
Кошачий гуру. Звучит, конечно, заманчиво, но, пожалуй, я пока воздержусь. Хотя, если честно, иногда работа «кошачьим гуру» казалась мне не менее осмысленной, чем-то, чем я занимался в «ДатаСтрим Солюшнс». По крайней мере, там был бы шанс сделать счастливым хотя бы одного конкретного котика. А я… я делал счастливыми только своих клиентов, да и то лишь на то время, пока их базы данных снова не падали.
Маша вернулась далеко за полночь, когда я уже почти засыпал, проваливаясь в вязкую дрему под бормотание какого-то документального фильма о черных дырах.
Тихо прошла в комнату, стараясь не шуметь, переоделась. Я сделал вид, что сплю, не хотелось начинать новый раунд «выяснения отношений» на сон грядущий. Она легла рядом, отвернувшись к стене. Между нами, как обычно, оставалось это невидимое, но ощутимое пространство – как будто два айсберга, дрейфующих в одном океане, но так и не решающихся соприкоснуться.
День закончился. Обычный день, похожий на сотни других. Но где-то на периферии сознания продолжало свербеть это странное ощущение – предчувствие каких-то перемен. Как будто кто-то невидимый уже перетасовывал колоду моей жизни, и скоро должна была выпасть новая, совершенно неожиданная карта. Или я просто слишком много читал фантастики и слишком мало спал.
Глава 2: Работа
Утро следующего дня не принесло никаких откровений.
Все та же серая пелена за окном, все тот же настырный будильник, все то же нежелание вылезать из-под одеяла навстречу новому дню, который обещал быть точной копией вчерашнего. Маша уже ушла – кажется, она упоминала что-то про утреннюю йогу или встречу с очередной «коучем по личностному росту». Иногда ее активность меня поражала. Откуда столько энергии на все эти бесконечные поиски себя и «новых возможностей»? Я же, напротив, чувствовал себя старым, разряженным аккумулятором, которому для полной зарядки требовался как минимум годовой отпуск где-нибудь на необитаемом острове, без интернета и людей.
Кое-как приведя себя в более-менее вертикальное положение и проглотив дежурную чашку кофе, я направился к выходу.
Маша, уходя, оставила на кухонном столе записку: «Уехала к маме. Буду вечером. Не скучай. P. S. Купи молока». «Не скучай». Легко сказать. Я и не скучал. Скорее, привык к этому состоянию перманентного одиночества вдвоем. Молоко я, конечно, куплю. Это хотя бы была конкретная и выполнимая задача, в отличие от многих других, которые ставила передо мной жизнь.
На лестничной площадке, как по расписанию, меня уже поджидала первая порция утреннего «социального взаимодействия».
Татьяна Павловна, наша соседка, божий одуванчик лет шестидесяти с неизменным карликовым пуделем по кличке Артемон на поводке, как раз выводила своего питомца на утренний променад. Артемон, несмотря на свои игрушечные размеры, обладал на редкость громким и пронзительным голосом, которым он и оповестил весь подъезд о моем появлении.
– Ой, Лёшенька, доброе утро! – просияла Татьяна Павловна, придерживая рвущегося с поводка Артемона. – А мы вот гулять собрались. Погодка сегодня, конечно, не очень, но Артемону все нипочем, ему лишь бы побегать.
– Доброе утро, Татьяна Павловна, – кивнул я, стараясь не наступить на вездесущего пуделя. – Вам тоже хорошей прогулки.
– Спасибо, Лёшенька, спасибо, – закивала она. – А Машенька где? Что-то я ее сегодня не видела.
– Маша по делам уехала, – уклончиво ответил я. Рассказывать Татьяне Павловне о наших с Машей «сложностях в отношениях» совершенно не хотелось. Она была женщиной доброй, но уж очень любопытной, и любая информация, попавшая к ней, имела свойство быстро распространяться по всему дому со скоростью лесного пожара.
Не успел я распрощаться с Татьяной Павловной, как из лифта, громыхнув дверями, вывалился Петрович – еще один мой сосед по этажу.
Петрович был полной противоположностью Татьяны Павловны. Мужик лет пятидесяти, крепкий, кряжистый, работал на каком-то заводе и олицетворял собой все то, что принято называть «простым русским народом». Футбол, пиво, рыбалка по выходным – вот его незамысловатые радости жизни. Меня он, кажется, не очень понимал. Как можно «работать, не отходя от компьютера», «не любить футбол» и «не пить пиво каждый вечер после работы» – это было за гранью его мировосприятия. Но при этом относился ко мне беззлобно, признавая во мне «нормального парня, хоть и со странностями».
– О, Стахановец! – громыхнул Петрович, по-свойски хлопнув меня по плечу так, что я едва не выронил сумку с ноутбуком. – Опять в свою контору, штаны просиживать?
– И вам не хворать, – усмехнулся я. – Работа у меня такая, сидячая.
– Да знаю я вашу работу, – махнул он рукой. – Кнопки нажимать – невелика премудрость. Вот у нас на заводе – это да, это работа! Там силушка нужна, смекалка!
Он перевел взгляд на удаляющуюся фигуру Татьяны Павловны с Артемоном, потом снова на меня.
– А Маруська-то твоя где? – понизив голос, спросил он. – Что-то не видать ее сегодня. Красивая девка, ничего не скажешь. Норовистая только, видать.
Я почувствовал, как внутри начинает закипать раздражение.
Петрович имел привычку «слабенько подкатывать» к Маше, как он сам это называл. Делал он это беззлобно, по-простецки, но меня это все равно коробило.
– Маша уехала, – стараясь сохранять спокойствие, ответил я. – Дела у нее.
– Дела, это хорошо, – понимающе кивнул Петрович. – Ну, ты это, держи ее крепче, Стахановец. А то уведут такую кралю, и не заметишь. Ладно, бывай, мне на смену пора.
Он снова хлопнул меня по плечу и, насвистывая какую-то незамысловатую мелодию, зашагал к выходу из подъезда.
Я проводил его взглядом, чувствуя, как утреннее настроение, и без того не самое радужное, окончательно испортилось.
«Стахановец», «кнопки нажимать», «держи ее крепче». Иногда мне казалось, что я живу в каком-то дурацком ситкоме, где каждый персонаж играет свою, давно заученную роль, а я – главный герой, который никак не может понять, по какому сценарию развивается действие.
Нужно было срочно выпить еще одну чашку кофе. А лучше – сразу две. И желательно, чтобы этот день поскорее закончился, не успев подкинуть мне еще каких-нибудь «приятных» сюрпризов. Но что-то подсказывало, что это были слишком оптимистичные ожидания.
Кофе в офисе оказался на удивление сносным.
Катя, наш офис-менеджер, видимо, в приступе энтузиазма или по случаю какой-нибудь акции, закупила новую партию зерен, и теперь из кофемашины лилась не привычная горько-кислая бурда, а нечто, отдаленно напоминающее настоящий кофе. Это был маленький, но приятный бонус к началу рабочего дня. Я сделал большой глоток, чувствуя, как горячая жидкость растекается по телу, прогоняя остатки утренней хандры. Может, день все-таки будет не таким уж и паршивым?
Мой оптимизм, однако, быстро пошел на убыль, когда Влад собрал нас на традиционную утреннюю «летучку».
«Летучки» у Влада были короткие, обычно не больше пятнадцати минут, но всегда несли в себе заряд потенциальных проблем. Он окинул взглядом своих немногочисленных сотрудников – меня, еще двух программистов, вечно сонного сисадмина и Катю, которая записывала что-то в свой блокнот.
– Так, коллеги, всем доброе утро, – начал Влад с деланной бодростью. – Есть пара новостей. Во-первых, «ПромТехСнаб» прислал благодарственное письмо за оперативное решение их вчерашней проблемы. Лёша, это тебе отдельное спасибо.
Я скромно кивнул. Благодарственное письмо – это, конечно, хорошо, но премию бы они лучше прислали.
– А во-вторых, – продолжил Влад, и вот тут мой внутренний «датчик неприятностей» пискнул, – у нас нарисовался новый потенциальный клиент. Фирма «КанцПарк». Занимаются, как несложно догадаться, оптовой продажей канцелярских товаров. У них там какая-то древняя система учета, все на коленке сделано, хотят что-то более современное. Ну, там, базу данных нормальную, аналитику продаж, может, какой-нибудь простенький интернет-магазинчик.
Я мысленно застонал. «КанцПарк». После «Веселого Карандаша» и «ПромТехСнаба» это звучало как очередной приговор.
Видимо, моя карма была прочно связана с канцелярскими товарами и тяжелой промышленностью. Никаких тебе интересных проектов по машинному обучению или анализу действительно больших данных. Только рутина, только хардкор.
– Задача, в общем-то, стандартная, – продолжал Влад, не замечая моего кислого выражения лица. – Базу поднять, интерфейсы нарисовать, пару отчетов настроить. Думаю, Лёш, это по твоей части. Возьмешься за предварительную оценку? Нужно будет с их представителем встретиться, обговорить детали, составить примерное ТЗ.
– Возьмусь, Влад, куда деваться, – вздохнул я. – Когда встреча?
– Я договорился на завтра, на вторую половину дня, – ответил Влад. – Адрес и контакты Катя тебе скинет. Ну, вот, собственно, и все новости на сегодня. Работаем, коллеги!
«Летучка» закончилась, и я вернулся на свое рабочее место с тяжелым сердцем.
«КанцПарк». Еще одна унылая база данных, еще одни скучные отчеты. Неужели это и есть потолок моих профессиональных устремлений? Я открыл почту, посмотрел на описание задач от Влада. «Оптимизировать складскую логистику для фирмы по продаже канцтоваров». Звучало так же вдохновляюще, как инструкция к советской мясорубке.
Я принялся за работу, пытаясь отогнать мрачные мысли.
Нужно было подготовить какие-то вопросы для завтрашней встречи, набросать примерный план работ, оценить трудозатраты. Я механически открывал нужные программы, вбивал данные, составлял таблицы. Мозг работал на автопилоте, а мысли витали где-то далеко. Я вспоминал вчерашнюю статью про нейросети и сознание, про «Физику невозможного» Митио Каку, про свои мечты о действительно интересных и масштабных проектах. И все это казалось таким далеким, таким нереальным по сравнению с унылой перспективой оптимизации логистики для «КанцПарка».
Часа через два я более-менее разобрался с предварительной оценкой.
Получилось, как всегда, немного больше, чем ожидал Влад, но я старался учитывать все возможные «подводные камни» и не занижать трудоемкость. Отправил ему свои наработки, он почти сразу ответил: «Лёш, все отлично, как всегда. Только вот по срокам они хотят побыстрее. Попробуй там на встрече немного… э-э-э… оптимистичнее все представить, ладно? Ну, ты понял».
Я понял. «Оптимистичнее» на языке Влада означало «пообещай сделать вчера, а потом как-нибудь выкрутимся». Стандартная практика в нашем бизнесе. И от этого становилось еще тоскливее.
Чтобы хоть как-то отвлечься, я решил заняться одной из своих «побочных» задач – доработкой алгоритма для одного из старых клиентов, которому мы когда-то делали систему учета для сервисного центра.
Я там прикрутил небольшую нейросеть для анализа отзывов клиентов, чтобы выявлять наиболее частые проблемы и жалобы. Сейчас я хотел попробовать новый метод кластеризации текстов, который должен был повысить точность анализа. Это была задача «для души», Влад о ней даже не знал. Но именно такие вот «необязательные» проекты и давали мне хоть какое-то ощущение профессионального удовлетворения.
Я погрузился в код, экспериментируя с параметрами, запуская тестовые прогоны, анализируя результаты.
Время полетело незаметно. И на какое-то время я даже забыл про «КанцПарк» и про то, что моя карьера, кажется, уверенно движется в сторону эксперта по автоматизации учета скрепок и ластиков.
Может, не все еще потеряно? Может, где-то там, за горизонтом этой рутины, меня все-таки ждет что-то действительно стоящее?
Нужно было просто продолжать делать свое дело. И надеяться. Хотя надежда, как известно, – товар скоропортящийся, особенно в условиях питерского климата и офисной работы.
Вечер снова застал меня в компании ноутбука и остатков дневного кофе.
Маша, как и обещала, вернулась «к вечеру», что в ее понимании означало «ближе к ночи». Она влетела в квартиру, полная впечатлений от очередного «трансформационного тренинга», на который ее затащила неугомонная Ксюха.
– Лёш, привет! Ты не представляешь, это было что-то! – начала она с порога, скидывая туфли и плюхаясь на диван. – Нас там учили «отпускать негативные установки» и «привлекать в свою жизнь изобилие». Такой заряд энергии!
Я оторвался от отладки своего алгоритма кластеризации и скептически посмотрел на нее.
– И как, много изобилия уже привлекла? – поинтересовался я.
– Ну, пока еще не очень, – немного смутилась она. – Но я чувствую, что я на правильном пути! Главное – это правильный настрой и вера в себя. А ты чем занимался? Опять свои эти… циферки складывал?
«Циферки складывал». Вот так, просто и незатейливо, она обесценивала то, чем я горел.
Я вздохнул.
– Да, Маша, опять циферки. Кто-то же должен этим заниматься, пока другие привлекают изобилие.
– Ну вот вечно ты так, – надулась она. – Я с тобой делюсь позитивом, а ты сразу в штыки. Нельзя же быть таким… таким…
– Скучным? – подсказал я. – Приземленным? Недостаточно верящим в изобилие?
– Да нет же! – Маша вскочила с дивана и начала ходить по комнате. – Просто… ты как будто закрылся в своей этой скорлупе из компьютеров и книжек. А вокруг столько всего интересного происходит! Новые возможности, новые люди…
Я молча смотрел на нее.
Вот оно, опять. Тот самый разговор, который мы вели уже, наверное, в сотый раз. О том, что я «не развиваюсь», что я «стою на месте», что «нужно быть более открытым миру». И каждый раз этот разговор заканчивался ничем. Вернее, заканчивался он моим молчаливым согласием (потому что спорить было бесполезно) и ее обиженным вздохом.
– Маш, я понимаю, что тебе хочется чего-то другого, – начал я осторожно. – Но у меня своя работа, свои интересы. Я не могу быть таким, как твоя Ксюха или те ребята с тренингов.
– А я и не прошу тебя быть как Ксюха! – воскликнула она. – Я просто хочу, чтобы ты… чтобы ты хоть немного интересовался тем, что интересно мне! Чтобы мы могли вместе что-то делать, куда-то ходить, а не только сидеть по вечерам каждый в своем углу с ноутбуком!
– Но мы же ходим иногда, – возразил я. – В кино были на прошлой неделе. В кафе сидели.
– В кино! – фыркнула Маша. – На какой-то твой заумный артхаус, где два часа ничего не происходит, а потом все умирают. И в кафе, где ты весь вечер сидел, уткнувшись в телефон, потому что тебе пришла «гениальная идея» по поводу твоего кода. Это ты называешь «вместе»?
Я почувствовал, как внутри снова начинает закипать раздражение.
Ну да, артхаус. Потому что смотреть очередную тупую комедию про «любовь-морковь» мне было физически тяжело. И да, я действительно мог задуматься о коде, если приходила интересная мысль. Разве это преступление?
– Ну извини, если я не соответствую твоим ожиданиям, – сказал я уже более резко, чем хотел. – Может, тебе тогда действительно стоит поискать кого-то, кто будет с тобой на одной волне? Кого-то, кто будет с восторгом слушать про «привлечение изобилия» и ходить на тренинги по «раскрытию чакр».
Маша остановилась и посмотрела на меня.
В ее глазах блеснули слезы.
– Ты… ты это серьезно? – тихо спросила она. – Ты хочешь, чтобы мы расстались?
Вот черт. Кажется, я перегнул палку.
Расстаться? Хотел ли я этого? Если честно, я не знал. С одной стороны, эти вечные ссоры, это взаимное непонимание, эта усталость друг от друга – все это выматывало. С другой – была привычка. Были какие-то общие воспоминания. И был страх – страх остаться совсем одному, страх перемен, страх признаться самому себе, что эти несколько лет были, по сути, ошибкой.
– Маша, я не это имел в виду, – сказал я уже мягче, вставая с дивана и подходя к ней. – Просто… просто мы разные. И нам, наверное, нужно как-то научиться это принимать. Или…
Я не договорил. Что «или»? Расстаться? Сказать это вслух я не решался.
Маша молчала, глядя в пол. Потом она глубоко вздохнула.
– Может, ты и прав, – сказала она глухо. – Может, нам действительно стоит… взять паузу. Пожить отдельно. Подумать. Чтобы понять, чего мы на самом деле хотим. Друг от друга. И от жизни вообще.
«Взять паузу». Это был ее любимый эвфемизм для слова «расстаться».
Раньше я всегда протестовал, уговаривал, обещал «измениться». Но сегодня… сегодня я почувствовал какую-то странную апатию. Сил спорить не было. Да и желания, если честно, тоже.
– Хорошо, – кивнул я. – Если ты так считаешь… давай возьмем паузу.
Она подняла на меня глаза. В них было удивление и что-то еще – то ли обида, то ли облегчение. Трудно было разобрать.
– Ты… ты так легко соглашаешься? – спросила она.
– А что, я должен был устроить истерику? – усмехнулся я. – Мы же взрослые люди, Маш. Если что-то не работает, значит, нужно это либо чинить, либо… либо признать, что оно сломано окончательно.
Она ничего не ответила.
Молча подошла к шкафу, достала свою сумку, начала собирать вещи – те немногие, что успели «прописаться» в моей квартире за время ее «набегов». Я стоял и смотрел, чувствуя себя статистом в какой-то дурацкой пьесе. Вот так, значит. Вот так заканчиваются отношения. Не громким скандалом, не битьем посуды, а тихим сбором вещей и неловким молчанием.
Когда сумка была собрана, Маша подошла к двери.
Помедлила секунду, как будто хотела что-то сказать. Но потом просто коротко кивнула.
– Ну… пока, – сказала она.
– Пока, – ответил я.
Дверь за ней закрылась.
Я остался один. В пустой квартире. С недописанным алгоритмом кластеризации и странным ощущением в груди – то ли это была та самая «пустота», о которой пишут в романах, то ли просто изжога от пиццы.
Ну что ж, Стаханов. Кажется, в твоей жизни действительно намечаются перемены. Правда, пока не совсем те, о которых ты мечтал. Но, как говорится, за неимением гербовой – пишут на простой.
После ухода Маши я еще некоторое время тупо пялился в стену.
Тишина в квартире стала какой-то оглушающей, давящей. Раньше, когда она уезжала к себе, это воспринималось как само собой разумеющееся, как часть нашего негласного договора о «свободных отношениях с элементами совместного проживания». Но сейчас… сейчас это было по-другому. Это было похоже на точку. Или, по крайней мере, на жирное многоточие, за которым уже не просматривалось продолжение. «Взять паузу». Звучит красиво, цивилизованно. А на деле – просто отложенное расставание.
Я вздохнул и вернулся к ноутбуку.
Работать над алгоритмом кластеризации уже не хотелось. Мысли путались, концентрация улетучилась. Вместо этого я бездумно открыл браузер и начал слоняться по интернету, переходя с одной случайной страницы на другую. Новости, социальные сети, какие-то дурацкие форумы. Мозг отказывался воспринимать информацию, цепляясь лишь за отдельные, вырванные из контекста фразы.
В какой-то момент я наткнулся на ссылку, которая вела на сайт с подборкой «самых загадочных и необъяснимых явлений в истории человечества».
Обычно я скептически относился к подобного рода контенту, считая его уделом любителей теорий заговора и контактов с инопланетянами. Но сегодня, видимо, было такое настроение, что захотелось чего-то… иррационального. Я кликнул по ссылке.
Тунгусский метеорит, Бермудский треугольник, исчезновение экспедиции Франклина, таинственные круги на полях, вечные огни, которые горят столетиями без видимого источника топлива. Я читал, и чем больше читал, тем сильнее становилось какое-то странное, щекочущее чувство. Как будто я прикасался к чему-то огромному, непостижимому, что существовало параллельно с нашим обыденным миром повседневных забот и офисной рутины.
Особенно меня зацепила одна статья.
Она была посвящена анализу различных аномальных энергетических всплесков, зафиксированных в разное время в разных точках планеты. Автор, какой-то энтузиаст-одиночка, не имеющий, судя по всему, никакого отношения к официальной науке, пытался найти в этих всплесках некую систему, закономерность. Он приводил графики, сравнивал данные, выдвигал смелые, на грани безумия, гипотезы. Например, о том, что Земля окутана невидимой энергетической сетью, узлы которой время от времени «активируются», вызывая те самые аномальные явления. Или о том, что существуют некие «реликтовые излучения», оставшиеся со времен Большого Взрыва, которые до сих пор влияют на нашу планету.
Бред, конечно. Полнейший бред с точки зрения классической физики. Но что-то в этом «бреде» было притягательное. Какая-то дерзость мысли, попытка выйти за рамки привычной картины мира.
Я закрыл ноутбук.
Голова шла кругом. От Маши, от работы, от этих дурацких статей про аномальные явления. Нужно было поспать. Завтра новый день, новые проблемы. И встреча с представителями «КанцПарка», которую никто не отменял. Оптимизация логистики для канцелярских товаров – вот моя реальность. А все эти «энергетические сети» и «реликтовые излучения» – это так, для развлечения, чтобы мозг окончательно не закис от рутины.
Я лег в постель, но сон не шел.
Перед глазами почему-то стояли графики и таблицы. Они накладывались друг на друга, переплетались, образуя какие-то причудливые узоры. Мне снились какие-то запутанные, тревожные сны. Будто я бреду по бесконечному лабиринту из цифр и символов, пытаясь найти выход, а вокруг мерцают какие-то непонятные огни, и откуда-то издалека доносится тихий, но настойчивый гул, похожий на тот, что издавал мой компьютер, когда уходил в стопроцентную загрузку.
Я проснулся среди ночи в холодном поту.
Сердце колотилось. За окном выл ветер, и ветки старого тополя скреблись по стеклу, как будто кто-то пытался проникнуть в мою квартиру. Я сел на кровати, пытаясь отдышаться.
«Что за чертовщина? – подумал я. – Нервы ни к черту. Пора в отпуск. Или к доктору».
Но где-то в глубине души шевелилось это странное, иррациональное чувство.
Ощущение, что я стою на пороге чего-то… чего-то такого, что пока не имело названия, но что уже протягивало ко мне свои невидимые щупальца.
Или это просто Машин уход так на меня подействовал? И все эти «предчувствия» – не более чем игра воображения, попытка сбежать от реальности в мир фантазий?
Не знаю. Но спать в эту ночь я больше не мог.
Глава 3: Заказ
Утро после Машиного ухода выдалось на редкость тихим.
Обычно, даже если она ночевала у меня, квартира к этому времени уже наполнялась звуками – ее возней в ванной, шуршанием фена, тихой музыкой из ее телефона. Сегодня же тишина была почти абсолютной, нарушаемая лишь привычным гудением холодильника «ЗиЛ» да отдаленным шумом просыпающегося города за окном. Я лежал на диване, глядя в потолок, и чувствовал какую-то странную смесь опустошенности и… свободы. Да, пожалуй, именно свободы. Не нужно было больше подбирать слова, взвешивать каждое свое действие, пытаться соответствовать чьим-то ожиданиям или угадывать настроение. Можно было просто быть собой. Правда, кто такой этот «собой» без Маши, я пока не очень понимал. Мы были вместе почти с института, и эта связка, пусть и неидеальная, успела стать частью моей идентичности.
Вставать не хотелось.
Мысли вяло текли, возвращаясь к вчерашнему разговору, к этому неловкому «взять паузу». Было ли мне жаль? Наверное, да. Жаль потраченного времени, несбывшихся надежд, той иллюзии «нас», которую мы так долго пытались поддерживать. Но была ли это трагедия? Вряд ли. Скорее, логическое завершение того, что давно уже шло к своему финалу. Как программа, которая отработала свой цикл и теперь должна быть закрыта, чтобы освободить ресурсы для чего-то нового.
Я помотал головой, отгоняя эти непродуктивные рефлексии.
Хватит самокопания. Нужно было чем-то занять голову, переключиться. И лучшим способом для этого всегда была работа. Особенно если работа интересная.
На совещании в «ДатаСтрим Солюшнс» Влад выглядел сегодня особенно оживленным.
Он потирал руки и светился, как начищенный пятак. Такое выражение лица у него бывало только в двух случаях: либо он удачно продал очередной «воздух» какому-нибудь доверчивому клиенту, либо на горизонте действительно маячил крупный и выгодный заказ.
– Коллеги, всем доброе утро! – провозгласил он, когда все собрались в переговорке. – У меня для вас отличные новости! Помните, я говорил про тендер от одной солидной государственной структуры? Так вот, мы его выиграли!
Он сделал театральную паузу, ожидая аплодисментов. Аплодисментов не последовало – мы все были слишком заняты перевариванием утреннего кофе и мыслями о предстоящем рабочем дне.
– Ну, не суть, – Влад не обиделся. – Главное, что заказ у нас в кармане. И заказ, я вам скажу, очень интересный. И, что немаловажно, очень хорошо оплачиваемый.
Тут мы все немного оживились. «Хорошо оплачиваемый» – это были ключевые слова.
– Заказчик – некая «Государственная Геофизическая Экспедиция Северо-Запада», – продолжал Влад, явно наслаждаясь произведенным эффектом. – Контора серьезная, с большими… э-э-э… ресурсами. И задача у них для нас – соответствующая. Нужно будет обработать и проанализировать огромный массив данных, собранных с их… ну, скажем так, наблюдательных постов. Данные геофизические – сейсмическая активность, электромагнитные поля, состав атмосферы и все такое прочее. Хотят, чтобы мы выявили там всякие тренды, аномалии, ну, вы понимаете.
Я почувствовал, как внутри что-то дрогнуло.
Анализ больших данных. Геофизика. Аномалии. Это звучало… это звучало именно так, как я всегда хотел. Не очередная база для «КанцПарка», а что-то действительно масштабное, наукоемкое.
– Объем данных там, я вам скажу, – Влад покачал головой, – просто колоссальный. Несколько петабайт, собранных за последние лет двадцать. Так что работы хватит всем. Но основную скрипку, я думаю, будет играть наш Алексей. Лёш, ты же у нас спец по большим данным и всяким там… нейросетям? Вот тебе и карты в руки. Нужно будет все это структурировать, почистить, найти какие-то закономерности. В общем, показать класс. Справишься?
Он посмотрел на меня с надеждой.
И я понял, что это мой шанс. Шанс наконец-то заняться тем, что мне действительно интересно. Отвлечься от личных проблем, от Маши, от этой давящей рутины. Погрузиться с головой в сложную, но увлекательную задачу.
– Справлюсь, конечно, – сказал я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. – Когда приступать?
– Да хоть прямо сейчас! – обрадовался Влад. – Данные они нам уже передали – на нескольких внешних дисках. Катя сейчас все подготовит, создаст тебе отдельную папку на сервере. И КанцПарк как раз запросил отложить встречу – у них там какие-то пертурбации, смена управляющего состава. Так что, как говорится, вперед, на покорение геофизических вершин! Я в тебя верю, Стаханов! Не подведи!
Он снова хлопнул меня по плечу, и на этот раз я даже не поморщился.
Наоборот, я почувствовал какой-то давно забытый прилив энтузиазма. Как будто мне снова было восемнадцать, и я только что поступил в ИТМО, полный радужных надежд и веры в безграничные возможности науки.
«Государственная Геофизическая Экспедиция Северо-Запада». Звучит солидно. И загадочно.
Ну что ж, посмотрим, какие тайны скрываются в их «аномальных данных».
По крайней мере, это точно будет интереснее, чем оптимизировать логистику для продажи скрепок.
И уж точно поможет мне не думать о Маше.
Хотя бы на какое-то время.
Доступ к данным от «ГГЭСЗ» я получил ближе к обеду.
Катя, наша незаменимая офис-менеджер, притащила мне стопку внешних жестких дисков, общим объемом действительно внушающим уважение. Несколько петабайт – это вам не шуточки. Это как если бы каждый житель Санкт-Петербурга решил написать по паре увесистых романов и сдать их все мне на рецензию. Я присвистнул.
– Удачи, Стаханов, – хихикнула Катя, водружая последний диск на мой стол. – Если что, зови. Принесу еще кофе. Или валерьянки.
– Катюш, спасибо! – усмехнулся я. – Но постараюсь обойтись кофе. Хотя… кто знает, что там внутри этих «геофизических» сокровищ.
Первые несколько часов ушли на то, чтобы просто разобраться, что к чему.
Данные были представлены в самых разных форматах – от бинарных файлов с непонятной структурой до гигантских текстовых логов, которые, казалось, не имели ни начала, ни конца. Все это было свалено в одну кучу, без какой-либо внятной документации или описания. Как будто кто-то просто скопировал содержимое всех своих компьютеров за последние двадцать лет и отправил нам со словами: «Ну, вы там сами разберитесь».
Я вздохнул.
Похоже, «интересная задача» начиналась с банальной, но очень трудоемкой работы по приведению этого хаоса в хоть какой-то удобоваримый вид. Пришлось писать кучу скриптов для парсинга файлов, конвертации форматов, очистки от «мусора» – пропущенных значений, ошибочных записей, дублирующихся данных. Мозг скрипел, как несмазанная телега, но я упорно двигался вперед, сантиметр за сантиметром продираясь сквозь эти информационные джунгли.
К вечеру первого дня я более-менее разобрался со структурой данных и смог загрузить первую порцию в нашу аналитическую систему.
На экране замелькали графики, таблицы, диаграммы. Сейсмическая активность, электромагнитные колебания, температура на разных глубинах, химический состав проб воздуха и воды… На первый взгляд – ничего необычного. Стандартный набор параметров, которые могли бы регистрировать на любой геофизической станции. Я начал проводить первичный статистический анализ, искать какие-то общие тренды, сезонные колебания, корреляции между разными показателями.
Но чем глубже я погружался в эти данные, тем сильнее становилось какое-то смутное беспокойство.
Что-то здесь было… не так.
Во-первых, некоторые значения выглядели откровенно странными.
Например, были зафиксированы резкие, кратковременные скачки температуры в определенных точках, которые не могли быть объяснены никакими известными природными процессами. Или внезапные изменения электромагнитного фона, которые возникали как будто из ниоткуда и так же внезапно исчезали. Я сначала списывал это на ошибки датчиков – при таком объеме данных и таком длительном периоде наблюдений это было бы неудивительно. Но таких «ошибок» было слишком много, и они, как мне показалось, имели какую-то… систему.
Во-вторых, некоторые параметры, которые, по идее, должны были быть независимыми друг от друга, демонстрировали странные, необъяснимые корреляции.
Например, всплеск сейсмической активности в одной точке мог почти синхронно сопровождаться изменением ионного состава атмосферы за сотни километров от этого места. Или фазы луны почему-то влияли на частоту появления каких-то непонятных низкочастотных вибраций, регистрируемых глубинными датчиками. Я проверял и перепроверял свои расчеты, искал возможные ошибки в алгоритмах, но результат оставался тем же. Связь была. Слабая, не всегда очевидная, но статистически значимая.
Я показал пару таких «странных» графиков Владу.
Он посмотрел на них, почесал в затылке.
– Ну, да, интересно, – сказал он. – Наверное, какие-то помехи. Или аппаратура у них там барахлит. Ты это, Лёш, сильно не закапывайся в эти дебри. Нам главное – общую картину дать, основные тренды. А эти их… флуктуации… ну, упомянешь в отчете как «необъяснимые аномалии», и хватит с них. Не наша это головная боль – разбираться, почему у них там датчики глючат.
Я кивнул, но слова Влада меня не убедили.
«Необъяснимые аномалии». Что-то в этом словосочетании зацепило меня. Я вспомнил ту статью из интернета, которую читал пару дней назад. Там тоже говорилось про «аномальные энергетические всплески» и «необъяснимые явления». Конечно, это было чистой воды совпадение. Но…
Я продолжал работать.
Дни сливались в недели. Я почти не вылезал из офиса, задерживался допоздна, иногда даже приходил по выходным. Маша несколько раз звонила, спрашивала, как у меня дела, предлагала встретиться. Но я под разными предлогами отказывался. Мне было не до нее. Да и о чем нам было говорить? О том, что я нашел в каких-то геофизических данных странные корреляции, которые не могу объяснить? Она бы просто не поняла. Или решила бы, что я окончательно свихнулся на своих «циферках».
Я выполнил основную часть технического задания.
Подготовил все отчеты, которые требовал Влад. Построил графики «основных трендов», рассчитал «сезонные колебания», выявил «наиболее вероятные зоны риска». В общем, сделал все, чтобы «Государственная Геофизическая Экспедиция Северо-Запада» осталась довольна работой «ДатаСтрим Солюшнс».
Но загадка этих данных не давала мне покоя.
Я чувствовал, что за этими «ошибками датчиков» и «необъяснимыми аномалиями» скрывается что-то еще. Что-то важное. Что-то, что я просто обязан был понять.
И я решил копать дальше.
Уже не для Влада. Не для «ГГЭСЗ». А для себя.
Потому что это было чертовски интересно.
Потому что это был вызов моему интеллекту, моим знаниям, моей способности видеть то, чего не видят другие.
Потому что, в конце концов, я был не просто «спецом по базам данных».
Я был исследователем.
И я не мог просто так пройти мимо тайны, которая сама плыла мне в руки.
Решение копать дальше пришло само собой, как нечто естественное и единственно возможное в данной ситуации.
Влад был доволен – официальная часть работы по заказу «ГГЭСЗ» близилась к завершению, отчеты формировались, графики рисовались. Он уже мысленно подсчитывал прибыль и строил планы на новые «интересные проекты» (скорее всего, связанные с очередным «КанцПарком»). Моя же голова была занята совсем другим. Те «необъяснимые аномалии», которые Влад советовал просто упомянуть в отчете и забыть, для меня стали настоящей навязчивой идеей. Это было как детективная загадка, как сложный шифр, который во что бы то ни стало нужно было разгадать.
Я оставался в офисе после окончания рабочего дня, когда коллеги уже расходились по домам, а Влад уезжал на очередную «важную встречу».
Тишина пустого офиса, прерываемая лишь гудением серверов да редкими звуками с улицы, настраивала на нужный лад. Я снова и снова возвращался к этим странным данным, прогоняя их через различные алгоритмы, пытаясь найти хоть какую-то зацепку.
Первым делом я решил более тщательно подойти к вопросу «ошибок датчиков».
А действительно ли это были ошибки? Я начал строить карты распределения этих «аномалий» по времени и по географическим координатам (благо, привязка у данных была). И вот тут обнаружилась первая интересная закономерность: «ошибки» возникали не хаотично, а как бы группировались в определенных зонах и в определенные временные интервалы. Причем эти зоны не всегда совпадали с местами наибольшей сейсмической или электромагнитной активности. Иногда «аномалии» вспыхивали там, где, по идее, должно было быть полное затишье.
Я начал применять более сложные методы статистического анализа, не те, что требовались для официального отчета.
Использовал кластеризацию, чтобы сгруппировать аномальные события по каким-то общим признакам. Пробовал различные методы фильтрации, чтобы отделить «полезный сигнал» от «шума». И чем больше я работал, тем сильнее крепла уверенность, что это не просто «глюки» аппаратуры. Это было что-то другое. Что-то, что имело свою собственную, пока непонятную мне логику.
Потом я решил подключить свой любимый инструмент – нейросети.
У меня были кое-какие наработки еще со времен учебы в ИТМО, да и в «ДатаСтрим» я периодически экспериментировал с ними на досуге. Я взял одну из своих моделей, обученную на распознавание скрытых паттернов в больших временных рядах, и скормил ей очищенные данные от «ГГЭСЗ». Процесс обучения был долгим и мучительным – объемы информации были колоссальными, а мой рабочий компьютер, хоть и был довольно мощным по офисным меркам, явно не предназначался для таких задач. Приходилось запускать расчеты на ночь, а утром с замиранием сердца проверять результаты.
И вот однажды утром нейросеть выдала то, от чего у меня волосы на голове зашевелились.
Она нашла корреляцию. Очень слабую, на грани статистической погрешности, но все же корреляцию между всплесками тех самых «неизвестных энергетических аномалий» и… фазами луны. И не просто фазами, а какими-то сложными сочетаниями лунных циклов, положения Луны относительно определенных созвездий и еще чего-то, что я сначала даже не понял. Бред какой-то. Астрология в чистом виде. Я сначала решил, что это просто артефакт обучения, что нейросеть «переобучилась» и нашла закономерность там, где ее нет.
Но потом я провел еще несколько тестов, изменил архитектуру сети, перепроверил данные.
Результат оставался тем же. Какая-то связь с лунными циклами действительно была. И это уже не лезло ни в какие ворота известной мне физики.
Я начал строить другие модели, пытаясь найти еще какие-нибудь «невозможные» корреляции.
И находил их! Оказалось, что частота и интенсивность этих «аномалий» как-то связаны с глобальными тектоническими напряжениями в земной коре, даже если эти напряжения возникали за тысячи километров от места регистрации. Была какая-то связь с солнечной активностью, но не прямая, а опосредованная, через какие-то сложные резонансные эффекты в ионосфере. Я чувствовал себя первооткрывателем, который наткнулся на совершенно новый, неизведанный континент. Континент, населенный странными, непонятными законами природы.
Этот процесс захватил меня целиком.
Я почти перестал спать, питался кое-как, все свободное время проводил за компьютером. Маша несколько раз пыталась мне дозвониться, но я либо не брал трубку, либо отделывался короткими фразами. Мне было не до нее. Да и что я мог ей рассказать? Что я нашел связь между лунными фазами и какими-то непонятными энергетическими всплесками в секретных данных геофизиков? Она бы точно решила, что у меня поехала крыша.
Влад тоже начал посматривать на меня с некоторым подозрением.
Он видел, что я засиживаюсь в офисе допоздна, но официальная работа по заказу «ГГЭСЗ» была уже практически закончена. Чем я занимаюсь? Готовлюсь к встрече с «КанцПарком»? Или опять «зарываюсь в своих нейросетях»? Он несколько раз подходил ко мне, пытался выяснить, в чем дело, но я отделывался общими фразами, говорил, что просто «проверяю некоторые гипотезы» и «довожу отчет до ума». Врать было неприятно, но другого выхода я не видел.
Постепенно из этого хаоса данных, из этих «необъяснимых аномалий» и «невозможных корреляций» начала вырисовываться какая-то… картина.
Еще очень смутная, неполная, но уже позволяющая сделать некоторые предположения. Я понял, что имею дело не просто с набором случайных событий, а с какой-то сложной, взаимосвязанной системой. Системой, которая живет по своим, пока непонятным мне законам. И эти законы выходят далеко за рамки той физики, которую я учил в институте.
Это было одновременно и пугающе, и невероятно увлекательно.
Я чувствовал себя как Шерлок Холмс, который по мельчайшим, невидимым для других деталям восстанавливает картину преступления. Только моим «преступлением» была сама Вселенная, которая почему-то решила приоткрыть мне одну из своих бесчисленных тайн.
И я был полон решимости эту тайну разгадать.
Или хотя бы приблизиться к ее разгадке.
Даже если для этого придется пожертвовать сном, едой и остатками своей и так не слишком бурной личной жизни.
Игра стоила свеч. Определенно.
Кульминацией моих «сверхнормативных» изысканий стала модель.
Не просто набор графиков и корреляций, а полноценная прогностическая модель, построенная на основе какой-то невероятной смеси из нейронных сетей, статистических методов и, как мне тогда казалось, чистой интуиции. Эта модель, к моему собственному изумлению, начала с определенной долей вероятности предсказывать время и место возникновения тех самых «аномальных энергетических всплесков». Точность была, конечно, не стопроцентная, да и горизонт прогнозирования – всего несколько дней вперед. Но сам факт! Я мог предсказать то, что, по идее, предсказать было невозможно! Это было похоже на какое-то колдовство, на научную магию.
Я сидел перед монитором, глядя на результаты работы своей модели, и чувствовал себя одновременно гением и полным идиотом.
Гением – потому что мне удалось сделать то, чего, я был уверен, не удавалось еще никому. Идиотом – потому что я совершенно не понимал, как это работает. Я видел входные данные, видел результат, но что происходило внутри этих сложных алгоритмов, какие именно закономерности они нащупали – оставалось для меня загадкой. Это был тот самый «черный ящик», о котором так любят говорить специалисты по ИИ. Он работает, он выдает результат, но почему – известно только ему одному.
Теперь передо мной встал самый главный вопрос: что делать с этим открытием?
Оставить его себе? Забыть, как страшный сон, и вернуться к унылой реальности «Веселого Карандаша»? Или… или все-таки рискнуть и поделиться своими находками с «заказчиком»?
С одной стороны, было страшно.
Я понятия не имел, как отреагируют эти серьезные люди из «Государственной Геофизической Экспедиции Северо-Запада» на то, что какой-то сторонний программист не только вышел далеко за рамки официального ТЗ, но и нашел в их данных то, что, возможно, они сами не замечали. Или, наоборот, то, что они тщательно скрывали. А вдруг это какая-то государственная тайна? А вдруг я своим «любопытством» влез туда, куда не следовало? Последствия могли быть самыми непредсказуемыми.
С другой стороны, молчать было еще хуже.
Я чувствовал, что наткнулся на что-то действительно важное. Что-то, что могло бы иметь огромное значение для науки, для понимания мира. И просто так закопать это открытие, сделать вид, что ничего не было – это было бы… неправильно. Это было бы предательством по отношению к самому себе, к своему призванию исследователя.
Я мучился этим вопросом несколько дней.
Взвешивал все «за» и «против». Пытался представить себе возможные варианты развития событий. В конце концов, я пришел к выводу, что рискнуть все-таки стоит. В конце концов, что я теряю? Работу в «ДатаСтрим Солюшнс»? Да я и так уже был готов оттуда уйти. Репутацию «нормального» программиста? Да плевать на нее. Зато если мои находки действительно окажутся ценными… кто знает, какие перспективы это может открыть?
Я решил подготовить подробный дополнительный отчет.
Не просто набор сухих цифр и графиков, а полноценное исследование, с описанием моей методики, с обоснованием выводов, с возможными гипотезами (хотя гипотезы у меня были пока очень смутными и больше походили на бред сумасшедшего). Я потратил на это еще несколько бессонных ночей, оттачивая каждую формулировку, проверяя каждый расчет. Я хотел, чтобы этот отчет выглядел максимально профессионально и убедительно. Чтобы у «заказчика» не возникло сомнений в серьезности моих намерений.
Когда отчет был готов, я показал его Владу.
Просто для очистки совести. Я не ожидал от него понимания или поддержки, но формально я должен был поставить его в известность, что отправляю «заказчику» какие-то дополнительные материалы.
Влад прочитал мой отчет (вернее, пролистал по диагонали, задерживаясь только на графиках и таблицах) с выражением крайнего недоумения на лице.
– Стаханов, ты чего это удумал? – спросил он, когда закончил. – Какой еще «прогностический анализ аномальных энергетических флуктуаций»? Какая «скрытая корреляция с лунными циклами»? Ты что, перечитал фантастики? Или решил заняться астрологией на досуге?
– Это не астрология, – попытался объяснить я. – Это просто математическая модель, основанная на анализе их же данных. Слушай, Влад, я не знаю, как это работает, но оно работает. И предсказывает.
– Предсказывает, – хмыкнул Влад. – Ну-ну. И что ты собираешься с этим делать? Отправить им? Они же тебя на смех поднимут. Или, хуже того, решат, что мы тут не делом занимаемся, а ерундой страдаем. И пошлют нас с нашим контрактом куда подальше.
– Я все равно отправлю, – сказал я твердо. – Я считаю, что они должны это знать. А как они на это отреагируют – это уже их дело. В конце концов, это их данные, и они сами просили выявлять аномалии. Вот я и выявил.
Влад посмотрел на меня как на безнадежно больного.
– Ну, Стаханов, ты даешь, – покачал он головой. – Я всегда знал, что ты у нас парень со странностями, но чтобы настолько… Ладно, делай что хочешь. Твоя ответственность. Только потом не говори, что я тебя не предупреждал. Если из-за твоих этих… «аномальных флуктуаций» у нас будут проблемы, пеняй на себя.
Он махнул рукой и удалился в свой кабинет, бормоча что-то про «программистов-фантазеров» и «потерянных клиентов».
Я остался один.
Немного неприятный осадок от разговора с Владом остался, но это уже не могло поколебать моей решимости. Я открыл почтовую программу, прикрепил файл с отчетом, написал короткое сопроводительное письмо, в котором объяснил, что это «дополнительные материалы, которые могут представлять интерес для дальнейшего анализа», и, немного помедлив, нажал кнопку «Отправить».
Все. Дело было сделано.
Теперь оставалось только ждать.
Я не очень-то надеялся на какую-то реакцию. Скорее всего, Влад был прав, и мой отчет просто положат под сукно или отправят в корзину. Ну и ладно. По крайней мере, я сделал все, что мог. Я следовал своему внутреннему голосу, своему чутью исследователя. И это было главным.
Я вернулся к своей обычной работе в «ДатаСтрим Солюшнс».
Нужно было готовиться к работе с «КанцПарком» – Влад, наконец то, вытряс из них новую договоренность и встреча должна была вот вот состояться. Жизнь продолжалась. Скучная, предсказуемая, рутинная.
Но где-то в глубине души я все еще надеялся.
Надеялся, что мой «выстрел в пустоту» все-таки достигнет цели.
Что кто-то там, в этой таинственной «Государственной Геофизической Экспедиции Северо-Запада», сможет оценить мою работу по достоинству.
И что этот странный, почти мистический опыт с анализом аномальных данных – это было не просто случайное совпадение, а начало чего-то нового.
Чего-то такого, что могло бы наконец-то наполнить мою жизнь настоящим смыслом.
Оставалось только ждать.
И надеяться.
Глава 4: Ответ
Голова была тяжелой, как будто ее набили мокрым песком, а под глазами залегли такие тени, что я мог бы смело играть роль панды в детском утреннике без грима. Кофе казался особенно горьким, а вид за окном – еще более серым и унылым, чем обычно. Даже Шевчук в наушниках не спасал – его надрывный вокал сегодня только усиливал общее ощущение вселенской тоски.
В офисе Влад встретил меня с какой-то неестественной бодростью.
Он, видимо, решил, что раз у нас на горизонте маячит новый клиент в лице «КанцПарка», то нужно демонстрировать чудеса энтузиазма, даже если этот энтузиазм приходится выдавливать из себя, как последнюю каплю зубной пасты из тюбика.
– Лёха, привет! Ну что, готов к труду и обороне? – он хлопнул меня по плечу, отчего моя и без того раскалывающаяся голова едва не отвалилась. – Сегодня у нас с тобой важный день – встреча с «КанцПарком». Надо их обаять и подписать на все наши услуги. Ты же помнишь про «оптимистичный настрой»?
– Помню, помню, – проворчал я, плюхаясь на свое рабочее место. – Обаяю, подпишу, сделаю им базу данных, которая будет сама продавать скрепки и улыбаться клиентам. Только дайте мне сначала пару литров кофе и таблетку от головной боли.
Влад, однако, не унимался.
Он подошел ко мне и понизил голос, как будто собирался сообщить государственную тайну.
– Слушай, Лёш, тут такое дело… Помнишь тот заказ от «ГГЭСЗ»? Ну, где ты еще этот свой… э-э-э… дополнительный анализ делал?
Я напрягся. После вчерашних ночных бдений, любое упоминание этого заказа вызывало у меня какую-то нервную дрожь.
– Помню. А что?
– Так вот, – Влад замялся на секунду, как будто сам не очень верил в то, что собирался сказать. – Они сегодня прислали официальный ответ. Представляешь? На твой этот… отчет.
Я уставился на него. Официальный ответ? На мою самодеятельность? Это было что-то новенькое. Обычно такие «непрошеные» дополнения к работе либо игнорировались, либо вызывали глухое раздражение у заказчика.
– И что они там пишут? – спросил я, стараясь, чтобы голос не дрожал. – Наверное, похвалили за инициативу и попросили больше так не делать?
– Да нет, как раз наоборот! – Влад расплылся в довольной улыбке. – Они там, короче, в полном восторге! Пишут, что твой анализ «представляет значительный научный интерес» и «открывает новые перспективы для дальнейших исследований». И еще… – он сделал многозначительную паузу, – они хотят с тобой встретиться. Лично. Обсудить, так сказать, «возможности для дальнейшего сотрудничества».
Я почувствовал, как у меня перехватило дыхание.
«Значительный научный интерес»? «Новые перспективы»? Встретиться лично? Это что, шутка такая? Или Влад просто решил меня разыграть, чтобы поднять мне настроение перед встречей с «КанцПарком»?
– Ты серьезно, без шуток? – переспросил я. – Они действительно так написали?
– Серьезнее не бывает! – он протянул мне распечатку официального письма на бланке «Государственной Геофизической Экспедиции Северо-Запада», с подписями и печатями. – Вот, сам почитай. Я сначала тоже подумал, что это какой-то розыгрыш. Но нет, все официально. Они даже телефон оставили для связи, просили, чтобы ты сам им позвонил, как будет удобно.
Я взял письмо дрожащими руками.
Там действительно было все то, о чем говорил Влад. Сухие, канцелярские формулировки, но смысл был ясен: мой «несанкционированный» отчет произвел на них впечатление. И они хотели продолжения.
Голова, которая еще пять минут назад раскалывалась от боли, вдруг прояснилась.
Усталость как рукой сняло. Вместо этого появилось какое-то лихорадочное возбуждение, смесь недоверия и надежды. Неужели… неужели это тот самый «входной сигнал», которого я так долго ждал?
– И что… что мне делать? – спросил я Влада, все еще не веря своим глазам.
– Ну, как что? – пожал он плечами. – Звони, конечно! Договаривайся о встрече. Может, из этого действительно что-то толковое выйдет. Глядишь, и нам какой-нибудь крупный контракт перепадет на «дальнейшие исследования». Главное, не ударь там в грязь лицом. Ты у нас парень умный, покажи им, на что способны в «ДатаСтрим Солюшнс».
Он снова хлопнул меня по плечу и, довольный произведенным эффектом, удалился в свой кабинет.
Я остался один, сжимая в руках это невероятное письмо.
«Государственная Геофизическая Экспедиция Северо-Запада». Кто они такие? Чем они на самом деле занимаются, если обычный анализ данных, который я провел, вызвал у них такой интерес? И что это за «дальнейшие исследования», о которых они пишут?
Мысли роились в голове, как пчелы в потревоженном улье.
Я посмотрел на телефонный номер, указанный в письме. Набрать? Прямо сейчас? А что я им скажу? «Здравствуйте, это Леша Стаханов, тот самый, который нашел в ваших данных то, не знаю что, и теперь вы хотите со мной встретиться, чтобы обсудить то, не знаю зачем?»
Но отступать было поздно. Да и не хотелось.
Впервые за долгое время я почувствовал, что стою на пороге чего-то действительно важного. Чего-то, что могло выдернуть меня из этой унылой рутины и дать шанс заняться тем, о чем я всегда мечтал.
Я глубоко вздохнул и набрал номер.
Трубку сняли почти сразу.
На том конце провода ответил спокойный, ровный мужской голос, без каких-либо эмоций или интонаций.
Такой голос мог принадлежать кому угодно – от сотрудника колл-центра до агента спецслужб.
– Алло, – произнес голос.
– Здравствуйте, – я постарался, чтобы мой голос звучал как можно увереннее, хотя сердце колотилось где-то в районе горла. – Меня зовут Алексей Стаханов, я из компании «ДатаСтрим Солюшнс». Я звоню по поводу вашего письма… э-э-э… относительно анализа данных.
На несколько секунд в трубке повисла тишина.
Мне даже показалось, что связь прервалась. Но потом тот же спокойный голос ответил:
– Да, Алексей. Мы ждали вашего звонка. Меня зовут Игорь Валентинович. Я представляю… скажем так, группу, которая занималась этим проектом с нашей стороны. Ваш анализ действительно произвел на нас большое впечатление.
«Игорь Валентинович». Звучит солидно. И очень неопределенно. «Группа, которая занималась проектом». Никакой конкретики.
– Спасибо, – сказал я, не зная, что еще добавить. – Я рад, что мои наработки оказались полезными.
– Более чем полезными, Алексей, более! – Подтвердил Игорь Валентинович. – Мы хотели бы обсудить с вами некоторые аспекты вашего исследования более подробно. И, возможно, предложить вам участие в дальнейшей работе, если вас это заинтересует. У вас будет возможность встретиться с нами в ближайшее время?
«Участие в дальнейшей работе». Вот оно. То, ради чего все это затевалось.
– Да, конечно, – ответил я, стараясь скрыть волнение. – Я готов встретиться, когда вам будет удобно.
– Отлично, – в голосе Игоря Валентиновича по-прежнему не было ни тени эмоций. – Тогда давайте завтра. Скажем, в четырнадцать ноль-ноль. Вас устроит?
Завтра. А как же «КанцПарк»? У меня же встреча с ними назначена на вторую половину дня.
– Завтра в два… – я замялся. – У меня, к сожалению, на это время уже запланирована одна встреча. Может быть, чуть попозже? Или в другой день?
– Хм, – в трубке снова повисла короткая пауза. – К сожалению, Алексей, график у нас довольно плотный. Завтра в четырнадцать – это оптимальный вариант. Та встреча, которая у вас запланирована… она очень важна? Настолько важна, что вы готовы упустить возможность, которая, возможно, больше не представится?
Последняя фраза прозвучала почти как угроза.
Или, по крайней мере, как очень настойчивая рекомендация. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Эти люди явно не привыкли к тому, что им отказывают или предлагают перенести встречу.
– Я… я думаю, я смогу перенести ту встречу, – сказал я, принимая решение на ходу. К черту «КанцПарк»! Влад, конечно, будет недоволен, но это… это было что-то другое. Что-то гораздо более важное.
– Вот и прекрасно, просто отлично, – в голосе Игоря Валентиновича, как мне показалось, проскользнула нотка удовлетворения. Хотя, возможно, это была лишь игра моего воображения. – Тогда ждем вас завтра в четырнадцать ноль-ноль. Адрес я вам сейчас продиктую. Записываете?
– Да, одну минуту, – я схватил ручку и первый попавшийся под руку листок бумаги – кажется, это был черновик какого-то отчета для «ПромТехСнаба».
Игорь Валентинович продиктовал адрес.
Это был какой-то малоизвестный переулок в районе Черной речки. Никаких бизнес-центров или государственных учреждений там, насколько я помнил, не было. Просто старые жилые дома и промзона. Странное место для встречи с представителями «Государственной Геофизической Экспедиции».
– Записали? – уточнил он.
– Да, записал, – подтвердил я.
– Отлично. На входе скажете, что вы к Игорю Валентиновичу. Вас встретят. До завтра, Алексей.
– До завтра, Игорь Валентинович, – сказал я, и в трубке раздались короткие гудки.
Я положил трубку и несколько секунд просто сидел, глядя на листок с адресом.
Что это было? Кто эти люди? И почему они так заинтересовались моим анализом?
Вопросов было гораздо больше, чем ответов. Но одно я знал точно: завтрашняя встреча будет не похожа ни на одну из тех, что у меня были раньше.
Первым делом нужно было позвонить Владу и как-то объяснить ему, что встреча с «КанцПарком» отменяется. Или, по крайней мере, переносится на неопределенный срок. Я уже представлял себе его реакцию. Он, конечно, будет рвать и метать. Потерять потенциального клиента из-за какой-то туманной «встречи с геофизиками» – это было не в его правилах.
Но мне было все равно.
Интуиция, или то, что я принимал за нее, подсказывала, что я на пороге чего-то грандиозного. И упускать этот шанс из-за какого-то «КанцПарка» было бы верхом глупости.
Я набрал номер Влада.
Разговор был коротким и не очень приятным. Влад, как я и ожидал, сначала не понял, потом возмутился, потом начал уговаривать. Но я стоял на своем. Сказал, что это очень важно, что это связано с «государственным заказом» (немного приукрасил, конечно, но для убедительности пришлось), и что от этой встречи зависит очень многое. В конце концов, Влад, хоть и скрепя сердце, согласился.
– Ладно, Стаханов, – проворчал он. – Смотри у меня. Если из-за твоих этих… «геофизиков» мы упустим «КанцПарк», я с тебя три шкуры спущу. И премии в этом квартале не жди.
– Понял, – ответил я. – Постараюсь не подвести.
Премия – это, конечно, неприятно, но по сравнению с той возможностью, которая, как мне казалось, открывалась передо мной, это были такие мелочи.
Остаток дня я провел как в тумане.
Пытался работать, но мысли постоянно возвращались к завтрашней встрече. Что меня там ждет? Какие вопросы будут задавать? И что это за «дальнейшая работа», которую они собираются мне предложить?
Я снова и снова перечитывал письмо от «ГГЭСЗ», пытаясь найти в нем какой-то скрытый смысл, какой-то намек. Но там были только сухие, официальные фразы.
Я перерыл весь интернет в поисках информации об этой «Государственной Геофизической Экспедиции Северо-Запада», но не нашел практически ничего. Пара упоминаний в каких-то старых научных сборниках, какие-то общие фразы о «мониторинге геофизической обстановки». Ничего конкретного. Как будто этой организации либо не существует вовсе, либо она настолько засекречена, что информация о ней просто не попадает в открытый доступ.
И от этого становилось еще тревожнее и одновременно еще интереснее.
Я чувствовал себя героем какого-то шпионского романа, который получил таинственное послание и теперь должен отправиться на встречу с неизвестностью.
Одно было ясно: завтрашний день обещал быть нескучным.
А пока… пока нужно было как-то дожить до завтра. И постараться не сойти с ума от ожидания и неизвестности.
Вечер перед таинственной встречей тянулся невыносимо долго.
Обычно я с нетерпением ждал окончания рабочего дня, чтобы погрузиться в свои домашние дела, почитать, поиграть или просто поваляться на диване, глядя в потолок. Но сегодня все было иначе. Офисная суета, наоборот, хоть как-то отвлекала от навязчивых мыслей о «ГГЭСЗ» и Игоре Валентиновиче. А вот перспектива остаться наедине со своими догадками и предположениями в пустой квартире совершенно не радовала. Маша, после нашего вчерашнего «взять паузу», сегодня не появилась, и ее отсутствие, как ни странно, ощущалось особенно остро. Раньше я бы, наверное, даже обрадовался возможности провести вечер в тишине и покое, но сейчас мне почему-то не хватало ее болтовни, ее суетливости, даже ее дурацких претензий. Хоть какой-то живой человек рядом, с которым можно было бы поделиться этим странным предчувствием чего-то важного.
Но делиться было не с кем.
Родителям звонить и рассказывать про «таинственную встречу с геофизиками» было бы верхом неосмотрительности – мама тут же подняла бы панику, а отец начал бы давать «дельные» советы, основанные на его опыте ведения бизнеса по продаже деталей для складского оборудования. Кириллу-стартаперу тоже не расскажешь – он бы тут же предложил создать совместное предприятие по «монетизации аномальных явлений» и начал бы искать инвесторов под «проект по предсказанию землетрясений с помощью нейросетей и кошачьего мурлыканья». Оставался только я сам и мои мысли, которые метались в голове, как шарики в пинболе.
Чтобы хоть как-то убить время, я решил заняться тем, что всегда помогало мне отвлечься – кодом.
Не тем унылым кодом для очередной фирмы товаров для офиса, который ждал меня завтра (если я вообще до него доберусь), а своим собственным, домашним проектом. Я уже давно вынашивал идею создать небольшую программу для анализа больших текстовых массивов – что-то вроде умного поисковика, который мог бы не просто находить ключевые слова, но и улавливать скрытые смыслы, выявлять неочевидные связи между разными документами, строить семантические карты. Это была такая «игрушка для ума», чистое творчество, без всяких ТЗ и дедлайнов.
Я погрузился в работу, и на какое-то время это действительно помогло.
Сложные алгоритмы, хитроумные структуры данных, отладка кода – все это требовало полной концентрации и не оставляло места для посторонних мыслей. Я возился с программой часа два или три, добился какого-то промежуточного результата, почувствовал легкое удовлетворение от проделанной работы. Но стоило мне закрыть среду разработки, как мысли о завтрашней встрече снова навалились со всей силой.
Я попытался представить себе этих людей из «ГГЭСЗ».
Кто они? Ученые? Военные? Сотрудники каких-то спецслужб? И что им от меня нужно? Неужели мой скромный анализ каких-то геофизических данных действительно мог представлять для них «значительный научный интерес»? Или это все какая-то сложная игра, прикрытие для чего-то другого?
Я снова открыл свой отчет, тот самый, который так впечатлил Игоря Валентиновича.
Пробежался глазами по графикам, по своим выводам. Да, там были аномалии. Да, были странные корреляции. Но я же не сделал никаких сенсационных открытий. Я просто применил стандартные методы статистического анализа и машинного обучения к тем данным, которые мне предоставили. Любой другой толковый программист на моем месте, вероятно, пришел бы к тем же результатам. Так почему именно я? Почему такая реакция?
Может быть, дело было не столько в самом анализе, сколько в том, какие это были данные?
Если предположить, что та статья про «аномальные энергетические всплески» была не таким уж и бредом, и «ГГЭСЗ» действительно занималась изучением чего-то подобного… Тогда мой отчет, который выявил в их «зашумленных» данных какие-то скрытые закономерности, мог выглядеть для них как подтверждение их собственных теорий. Или, наоборот, как нечто, что ставит под сомнение их выводы.
А что, если они просто хотят использовать меня, мои навыки, для своих целей?
Предложат хорошую зарплату, интересную работу, а на самом деле я буду просто винтиком в какой-то большой и непонятной машине, работающей над чем-то, о чем мне лучше не знать. Перспектива, честно говоря, не самая радужная. Хотя… с другой стороны, а чем моя нынешняя работа в «ДатаСтрим Солюшнс» лучше? Там я тоже винтик, только в машине поменьше и гораздо более скучной.
Я поймал себя на том, что хожу по комнате из угла в угол, как зверь в клетке.
Нужно было успокоиться. Взять себя в руки. Завтра все прояснится. Или, наоборот, еще больше запутается. В любом случае, дергаться сейчас было бессмысленно.
Я решил посмотреть какой-нибудь фильм.
Что-нибудь легкое, отвлекающее. Открыл папку с фильмами на компьютере, долго перебирал файлы. Фантастика отпала сразу – слишком много ассоциаций с сегодняшними мыслями. Детективы – тоже не то, не хотелось еще больше загадок. Комедии… почему-то не смешно. В итоге я выбрал какой-то старый черно-белый нуар, который давно собирался посмотреть. Мрачная атмосфера, роковые женщины, продажные копы, частный детектив, пытающийся распутать клубок интриг… Как ни странно, это немного успокоило. По крайней мере, проблемы героев фильма казались гораздо серьезнее моих собственных.
Но даже сквозь хитросплетения сюжета нуарного детектива мысли о завтрашней встрече нет-нет да и прорывались.
Я представлял себе этот таинственный адрес на Черной речке, Игоря Валентиновича с его невозмутимым голосом, возможные вопросы, которые мне будут задавать. И чем больше я об этом думал, тем сильнее становилось ощущение, что завтрашний день – это не просто очередная встреча. Это какой-то Рубикон. Перейдя который, я уже не смогу вернуться к своей прежней, размеренной и предсказуемой жизни.
И, как ни странно, эта мысль меня не столько пугала, сколько… интриговала.
Да, было страшно. Страшно неизвестности, страшно возможных последствий. Но одновременно с этим было и какое-то азартное любопытство, жажда приключений, которые так долго дремали где-то в глубине моей программистской души.
Может быть, это и есть тот самый шанс, о котором я подсознательно мечтал?
Шанс вырваться из болота рутины, заняться чем-то действительно стоящим, почувствовать себя нужным не для того, чтобы латать дыры в очередном «КанцПарке», а для чего-то… большего.
Я не знал. Но очень хотел это выяснить.
Ночь перед встречей прошла беспокойно.
Сон был поверхностным, прерывистым, наполненным какими-то обрывками образов и диалогов. Мне снился то Игорь Валентинович, который с непроницаемым лицом задавал мне каверзные вопросы по теории вероятностей, то Влад, грозящий мне пальцем из-за сорванной сделки с «КанцПарком», то Маша, которая молча собирала вещи и уходила в туман. Я просыпался несколько раз, смотрел на часы – время тянулось мучительно медленно. Под утро я, кажется, все-таки задремал по-настоящему, но ненадолго. Будильник, как всегда, прозвенел в самый неподходящий момент, выдернув меня из какого-то особенно запутанного сна, где я пытался расшифровать древние руны с помощью SQL-запросов.
Утро началось с уже привычной головной боли и чашки крепкого кофе.
Я постарался выглядеть как можно более собранным и деловым, хотя внутри все клокотало от волнения. Выбрал самую приличную рубашку, которая нашлась в шкафу, даже погладил ее кое-как – редкий подвиг для меня. Посмотрел на себя в зеркало. Ну, не Джеймс Бонд, конечно, но и не совсем замухрышка-программист. По крайней мере, на человека, способного анализировать «геофизические данные», я, кажется, был похож.
На работе Влад встретил меня с кислой миной.
– Ну что, готов к своей «важной государственной встрече»? – съязвил он. – «КанцПарк», между прочим, очень обиделся, что мы так внезапно все отменили. Сказали, что будут искать других подрядчиков. Так что, если твои «геофизики» окажутся пустышкой, пеняй на себя.
– Я помню, – кивнул я, стараясь не обращать внимания на его сарказм. – Я все понимаю.
– Да что ты понимаешь, – отмахнулся он. – Ладно, иди уже, готовься. И чтобы к вечеру был отчет – и по «геофизикам», и по тому, как ты собираешься компенсировать нам упущенную выгоду от «КанцПарка».
Я ничего не ответил. Спорить с Владом сейчас было бессмысленно. Да и не до этого было. Все мои мысли были уже там, на Черной речке, в том таинственном месте, куда мне предстояло отправиться через несколько часов.
Я попытался поработать, но ничего не получалось.
Строчки кода расплывались перед глазами, мысли путались. Я то и дело поглядывал на часы, отсчитывая минуты до назначенного времени. Чтобы хоть как-то отвлечься, я снова открыл тот самый отчет, который так впечатлил Игоря Валентиновича. Пробежался по нему еще раз, пытаясь освежить в памяти все детали, все свои выводы и предположения. Может быть, они захотят обсудить какие-то конкретные моменты? Или попросят объяснить мою методику анализа? Нужно было быть готовым ко всему.
Ближе к часу дня я сказал Владу, что мне нужно отлучиться.
Он только махнул рукой, мол, иди уже, все равно от тебя сегодня толку никакого. Я вышел из офиса, чувствуя на себе его недовольный взгляд.
На улице снова моросил дождь. Питерская погода, как всегда, была на высоте, создавая идеальный фон для таинственных встреч и секретных заданий. Я поймал такси – ехать на метро в таком состоянии не хотелось, да и адрес был не самый удобный для общественного транспорта.
Пока ехали, я смотрел в окно на мелькающие дома, на спешащих по своим делам людей.
Все они жили своей обычной, понятной жизнью. Ходили на работу, встречались с друзьями, строили планы на выходные. И никому из них, наверное, и в голову не могло прийти, что где-то рядом, в этом же городе, существует какой-то другой, скрытый от посторонних глаз мир, где анализируют «аномальные энергетические всплески» и назначают секретные встречи в промзонах на Черной речке. А я… я, кажется, вот-вот должен был получить пропуск в этот мир. Если, конечно, это не было просто какой-то нелепой ошибкой или розыгрышем.
Такси остановилось у старого, обшарпанного здания из красного кирпича, больше похожего на заброшенную фабрику, чем на место, где могли бы работать представители «Государственной Геофизической Экспедиции».
Никаких вывесок, никаких опознавательных знаков. Только глухой забор и массивные железные ворота. Я расплатился с таксистом, который с явным недоумением посмотрел сначала на меня, потом на здание, и вышел из машины.
Сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди.
Я подошел к небольшой, неприметной калитке рядом с воротами. На ней висела табличка: «Проходная № 2. Посторонним вход воспрещен». И кнопка звонка.
Я глубоко вздохнул, пытаясь унять дрожь в коленях, и нажал на кнопку.
Раздался резкий, неприятный зуммер. Через несколько секунд в щели калитки показалось лицо – хмурое, небритое, с подозрительным взглядом.
– Вам кого? – буркнул обладатель лица.
– Я к Игорю Валентиновичу, – сказал я, стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее. – Меня зовут Алексей Стаханов. У меня назначена встреча на два часа.
Лицо исчезло. Послышался какой-то скрежет, потом щелчок замка. Калитка со скрипом приоткрылась.
– Проходите, – тот же голос донесся уже из-за калитки. – Прямо по коридору, до конца. Там вас встретят.
Я шагнул внутрь.
За калиткой оказался длинный, тускло освещенный коридор с облезлыми стенами и бетонным полом. Пахло сыростью и чем-то еще, каким-то специфическим, техническим запахом, который я не смог идентифицировать. Я пошел по коридору, прислушиваясь к гулкому эху своих шагов. Атмосфера была, мягко говоря, не располагающей. Больше всего это напоминало декорации к какому-нибудь фильму про маньяков или подпольную лабораторию безумного ученого.
«И куда я попал? – мелькнула паническая мысль. – Может, развернуться и уйти, пока не поздно?»
Но отступать было уже некуда.
Да и любопытство пересиливало страх.
Я дошел до конца коридора. Там была еще одна дверь, на этот раз обитая дерматином. И рядом с ней стоял человек.
Глава 5: Последствия
Человек, стоявший у двери, был невысокого роста, плотного телосложения, одет в строгий, но какой-то безликий темный костюм, который мог бы принадлежать как мелкому чиновнику, так и сотруднику охранного предприятия.
Лицо у него было совершенно невыразительное, как будто стертое ластиком – ни одной запоминающейся черты. Такие лица часто встречаются у людей, чья работа – оставаться незамеченными. Он молча кивнул мне, когда я подошел, и указал на дверь. Ни слова, ни улыбки. Просто жест. Я почувствовал себя как на приеме у зубного врача, который вот-вот приступит к удалению самого больного зуба без анестезии.
Я неуверенно взялся за ручку двери.
Она поддалась легко, без скрипа. За дверью оказалась небольшая приемная, обставленная казенной мебелью – пара стульев, стол с телефоном старого образца, на стене – выцветшая карта Советского Союза. За столом сидела женщина лет пятидесяти, с высокой прической «улей» и строгим выражением лица. Она оторвалась от каких-то бумаг и посмотрела на меня поверх очков в роговой оправе.
– Алексей Стаханов? – спросила она голосом, который мог бы заморозить стакан воды на расстоянии.
– Да, это я, – подтвердил я.
– Игорь Валентинович вас ждет, – сообщила женщина, не меняя выражения лица. – Проходите, пожалуйста. Вторая дверь направо.
«Вторая дверь направо». Как в каком-нибудь квесте. Осталось только найти ключ от следующей комнаты и разгадать пару головоломок.
Я прошел по короткому коридору и остановился перед указанной дверью.
Она была точно такой же, как и предыдущая – обитая темным дерматином, без каких-либо табличек или опознавательных знаков. Я постучал.
– Войдите, – донесся из-за двери знакомый спокойный голос Игоря Валентиновича.
Я толкнул дверь и вошел.
Кабинет оказался на удивление просторным, но таким же безликим, как и приемная. Большой письменный стол из темного дерева, несколько стульев, книжный шкаф, забитый какими-то толстыми томами в одинаковых переплетах. На стенах – ни картин, ни фотографий. Только голые, выкрашенные в казенный бежевый цвет стены. Единственным ярким пятном был вид из окна – оно выходило во внутренний двор, засаженный какими-то чахлыми кустами, и сейчас за этим окном снова лил дождь.
За столом сидел он – Игорь Валентинович.
Вживую он выглядел немного старше, чем я его себе представлял по голосу. Лет пятидесяти, может, чуть больше. Среднего роста, с залысинами, в очках с тонкой металлической оправой. Одет он был в простой темный костюм, такой же, как у того человека, что встретил меня у двери. Но в отличие от того, у Игоря Валентиновича было лицо. Умное, внимательное, с проницательным взглядом, который, казалось, видел меня насквозь. Он поднялся мне навстречу, когда я вошел.
– Алексей? Проходите, присаживайтесь, – он указал на стул перед столом. Голос его был таким же спокойным и ровным, как и по телефону. – Рад наконец-то познакомиться с вами лично. Я – Игорь Валентинович Орлов.
Орлов. Значит, тот, кто встретил меня в коридоре, был не он. Это немного успокаивало.
– Очень приятно, Алексей Стаханов, – я пожал протянутую мне руку. Рукопожатие у него было крепкое, уверенное.
Я сел на предложенный стул, стараясь выглядеть как можно более непринужденно, хотя внутри все сжималось от напряжения.
– Чаю? Кофе? – предложил Орлов, садясь на свое место.
– Нет, спасибо, ничего не нужно, – отказался я. Пить сейчас совершенно не хотелось.
– Как скажете, – он кивнул. – Ну что ж, Алексей, давайте перейдем к делу. Ваш отчет, который вы прислали в «ГГЭСЗ»… он, без преувеличения, стал для нас небольшим открытием. Мы, признаться, не ожидали такого глубокого и нестандартного анализа от стороннего специалиста, работающего, скажем так, с «адаптированной» версией данных.
«Адаптированной версией данных». Значит, я был прав. То, что они мне подсунули под видом геофизики, было чем-то другим.
– Я просто применил стандартные методы, – сказал я, стараясь не выдать своего волнения. – Статистика, машинное обучение… Ничего сверхъестественного.
– Возможно, для вас это и стандартные методы, – усмехнулся Орлов. – Но для многих, даже в нашей… э-э-э… специфической области, это все еще темный лес. Вы смогли увидеть в этих данных то, что ускользало от внимания наших штатных аналитиков на протяжении довольно долгого времени. И это говорит о многом. В первую очередь, о вашем образе мышления, о вашей способности видеть неявные связи и закономерности.
Он помолчал, внимательно глядя на меня.
Я чувствовал себя как под микроскопом.
– Скажите, Алексей, – продолжил он после паузы. – А что вы сами думаете об этих данных? Что это, по-вашему, было? Какие у вас возникли гипотезы, предположения, когда вы работали над этим анализом? Меня интересует ваше личное, неформальное мнение. Можете говорить откровенно. Мы здесь не на экзамене.
Вот это был вопрос. Что я думаю? Да я понятия не имею, что это было! Какие-то аномалии, какие-то всплески…
– Если честно, – начал я осторожно, – у меня нет какой-то стройной гипотезы. Данные действительно очень странные. Они не укладываются в известные мне модели геофизических процессов. Есть какие-то периодичности, но они не связаны с известными циклами – солнечной активностью, приливами-отливами и так далее. Есть всплески, которые выглядят как… как какие-то сигналы, но источник этих сигналов мне непонятен. Я могу лишь предположить, что мы имеем дело с каким-то неизвестным науке явлением. Или с очень сложной системой помех, которую я не смог до конца отфильтровать.
Орлов слушал меня внимательно, не перебивая.
Когда я закончил, он кивнул.
– «Неизвестное науке явление», – повторил он задумчиво. – Это очень близко к истине, Алексей. Очень близко. Мы действительно имеем дело с явлениями, которые официальная наука либо игнорирует, либо пытается объяснить какими-то банальными причинами. А на самом деле… на самом деле все гораздо сложнее. И интереснее.
Он снова сделал паузу, как будто давая мне время переварить сказанное.
Я молчал, ожидая продолжения. Сердце стучало где-то в горле. Кажется, я действительно попал туда, куда нужно.
– Видите ли, Алексей, – Орлов откинулся на спинку кресла, и его голос стал чуть менее официальным, почти доверительным. – Организация, которую я представляю… она существует уже довольно давно. И занимается она изучением как раз таких вот… «неизвестных науке явлений». Тех самых, о которых вы, возможно, читали в каких-нибудь популярных журналах или смотрели передачи по сомнительным телеканалам. Только в отличие от журналистов и уфологов-любителей, мы подходим к этому вопросу со всей серьезностью, используя самые современные научные методы. Ну, или, по крайней мере, стараемся использовать.
Он усмехнулся, и эта усмешка немного разрядила напряженную атмосферу.
Я почувствовал, что могу дышать чуть свободнее.
– Вы говорите о… паранормальных явлениях? – спросил я, стараясь, чтобы это не прозвучало слишком по-детски. Слово «паранормальные» всегда ассоциировалось у меня с какими-то байками про привидений и летающие тарелки.
– Можно и так сказать, – кивнул Орлов. – Хотя мы предпочитаем термин «аномальные явления» или «неконвенциональные феномены». Звучит более научно, не так ли? Суть от этого, впрочем, не меняется. Мы изучаем то, что выходит за рамки общепринятой научной парадигмы. То, что не вписывается в учебники физики, химии или биологии. И, поверьте, этого «чего-то» в нашем мире гораздо больше, чем принято думать.
Он обвел рукой свой безликий кабинет, как бы намекая, что и это скромное помещение – часть того самого, другого, скрытого от посторонних глаз мира.
– Но… если это все существует, почему об этом не говорят открыто? – спросил я, задавая, наверное, самый банальный вопрос, который только можно было задать в такой ситуации. – Почему это все засекречено?
Орлов снова усмехнулся.
– А вы как думаете, Алексей? Представьте, что завтра по всем телеканалам объявят, что, скажем, телепортация – это реальность. Или что в соседнем лесу обнаружен вход в параллельное измерение. Что начнется? Паника? Хаос? Массовые психозы? Или, может быть, кто-то очень быстро попытается прибрать эти «технологии» к рукам и использовать их далеко не в мирных целях?
Он посмотрел на меня испытующе.
Я пожал плечами. Наверное, он был прав. Человечество, при всей своей внешней цивилизованности, вряд ли готово к таким откровениям.
– Поэтому мы и работаем… скажем так, не привлекая излишнего внимания, – продолжил Орлов. – Наша задача – изучать эти явления, пытаться понять их природу, классифицировать, и, если возможно, научиться их контролировать. Или хотя бы прогнозировать. Чтобы избежать потенциальных угроз. И, возможно, когда-нибудь, в отдаленном будущем, использовать эти знания на благо… ну, если не всего человечества, то хотя бы нашей страны.
Последняя фраза прозвучала немного пафосно, но в его голосе не было фальши.
Кажется, он действительно верил в то, о чем говорил.
– И те данные, которые я анализировал… они тоже из этой оперы? – спросил я, возвращаясь к тому, с чего все началось.
– Именно, – подтвердил Орлов. – Это были данные с одной из наших… э-э-э… наблюдательных станций. Мы регистрируем различные аномальные флуктуации – энергетические, пространственно-временные, иногда даже биологические. Данных очень много, они очень «шумные», и разобраться в них бывает непросто. Ваши методы, Алексей, ваш подход к анализу… они оказались для нас как нельзя кстати. Вы, по сути, сделали то, над чем наши специалисты бились не один месяц – выявили скрытые закономерности, которые мы раньше не замечали.
Он снова посмотрел на меня с каким-то странным выражением – то ли уважения, то ли любопытства.
– Скажите, а как вы… как вы пришли к тем выводам, которые изложили в своем отчете? Что именно вас натолкнуло на мысль искать корреляции там, где их, казалось бы, не должно быть?
Я немного замялся. Рассказывать ему про статьи из интернета про «энергетические сети Земли» и свои ночные бдения над графиками было как-то неловко.
– Я просто… – начал я, подбирая слова. – Я заметил, что некоторые пики в данных повторяются с определенной, хотя и неявной, периодичностью. И решил проверить, нет ли связи между этими пиками и какими-то другими параметрами, которые на первый взгляд не имели к ним отношения. Использовал методы корреляционного анализа, построил несколько моделей… В общем, чисто техническая работа. Никакого озарения.
– «Чисто техническая работа», – хмыкнул Орлов. – Знаете, Алексей, иногда за «чисто технической работой» скрывается нечто большее. Интуиция, например. Или то, что мы называем «чутьем исследователя». У вас, похоже, это есть. И это очень ценное качество. Особенно в нашей области.
Он помолчал, давая мне возможность переварить информацию.
А переваривать было что. Получается, все эти мои догадки, все эти смутные предчувствия – это было не просто игрой воображения. Я действительно столкнулся с чем-то… из ряда вон выходящим. И теперь мне предлагали стать частью этого «чего-то».
Голова шла кругом. С одной стороны – страх, неизвестность, полное непонимание того, во что я ввязываюсь. С другой – невероятное любопытство, азарт, ощущение, что вот он, тот самый шанс, о котором я так долго мечтал. Шанс заняться чем-то действительно важным, интересным, выходящим за рамки привычного мира.
– Игорь Валентинович, – сказал я, стараясь, чтобы голос не дрожал. – Я, если честно, немного… ошеломлен всем этим. Это все так… неожиданно. Я даже не знаю, что сказать.
– Я понимаю, Алексей, понимаю, – кивнул Орлов. – Это нормально. Мало кто остается равнодушным, когда узнает, что мир устроен немного сложнее, чем пишут в школьных учебниках. Но, тем не менее, я должен задать вам главный вопрос. Мы ищем людей, способных мыслить нестандартно, готовых работать со сложными, не имеющими аналогов задачами. Людей, которых не пугает неизвестность. И ваш анализ показал, что вы – один из таких людей. Мы хотели бы предложить вам работу в нашем… институте.
«Институте». Значит, это все-таки какая-то официальная структура, а не просто «группа энтузиастов».
– Работу? – переспросил я. – Какого рода работу? Что конкретно я должен буду делать?
– Анализировать данные, – просто ответил Орлов. – То, что вы умеете делать лучше всего. Только данные у нас будут… немного другие. Гораздо более интересные, чем те, с которыми вы работали до сих пор. Вы будете заниматься поиском закономерностей, построением моделей, прогнозированием аномальных явлений. Использовать свои знания в области ИИ и машинного обучения для решения задач, которые до сих пор считались нерешаемыми. Звучит заманчиво?
Заманчиво? Да это звучало как работа моей мечты!
Если, конечно, все это было правдой, а не каким-то хитроумным розыгрышем.
Но глядя в спокойные, умные глаза Орлова, я почему-то верил ему. Верил, что он не шутит. Верил, что все это – всерьез.
– Это… это звучит более чем заманчиво, Игорь Валентинович, – я наконец-то обрел дар речи, хотя голос все еще немного дрожал. – Но… я должен спросить. Что это за институт? Как он называется? И… насколько это все… законно?
Последний вопрос вырвался сам собой.
Одно дело – изучать «аномальные явления» в рамках какого-то секретного государственного проекта, и совсем другое – оказаться втянутым в какую-нибудь сомнительную организацию с неясными целями и методами.
Орлов едва заметно улыбнулся.
– Понимаю ваши опасения, Алексей. Можете не волноваться, все абсолютно законно. Мы – государственное научно-исследовательское учреждение. Со всеми вытекающими отсюда последствиями – финансированием, отчетностью, режимом секретности. Называемся мы… ну, скажем так, наше официальное название довольно длинное и скучное, как это обычно бывает у подобных организаций. Внутри мы чаще используем аббревиатуру – НИИ НАЧЯ. Научно-Исследовательский Институт Научных Аномалий и Чрезвычайных Явлений.
НИИ НАЧЯ. «Иначе». Я чуть не рассмеялся. Какая ирония! Они действительно занимаются тем, что «иначе», что выходит за рамки обыденного.
– НИИ НАЧЯ, – повторил я, пробуя аббревиатуру на вкус. – Звучит… интригующе.
– Мы стараемся, – снова улыбнулся Орлов. – Что касается вашей будущей работы, если вы, конечно, примете наше предложение… Вы будете зачислены в штат одного из наших ведущих отделов – Сектор Интеллектуального Анализа и Прогнозирования. Это относительно новое подразделение, которое мы создали как раз для внедрения современных методов работы с большими данными и искусственным интеллектом в наши исследования. Руководить этим сектором буду я. Так что, можно сказать, вы будете работать под моим непосредственным началом.
«Под моим непосредственным началом».
Это звучало уже более конкретно. И, честно говоря, внушало определенное доверие. Орлов производил впечатление человека умного, компетентного и, что немаловажно, адекватного. Работать с таким начальником было бы гораздо приятнее, чем с тем же Владом, который думал только о прибыли и «оптимистичном настрое» перед клиентами.
– Условия, разумеется, мы вам предложим достойные, – продолжал Орлов, как будто читая мои мысли. – Зарплата, социальный пакет, возможности для профессионального роста – все это будет на уровне, который, я думаю, вас устроит. Плюс – доступ к уникальным данным и возможность работать над задачами, аналогов которым вы не найдете ни в одной другой организации. Но есть и обратная сторона медали.
Он сделал паузу, и его взгляд снова стал серьезным.
– Работа у нас связана с определенными… ограничениями. В первую очередь, это строжайшая секретность. О том, чем вы будете заниматься, не должен знать никто – ни ваши родные, ни друзья, ни бывшие коллеги. Вы подпишете соответствующие документы о неразглашении, и нарушение этих обязательств будет иметь очень серьезные последствия. Вы готовы к этому?
Я задумался.
Секретность… Это означало, что я не смогу поделиться с Машей (если мы когда-нибудь снова будем вместе) тем, что происходит в моей жизни. Не смогу рассказать родителям о своей новой, интересной работе. Придется что-то выдумывать, изворачиваться. Это было неприятно. Но… с другой стороны, а много ли я рассказывал им о своей нынешней работе в «ДатаСтрим Солюшнс»? Так, общие фразы. Да и кому, по большому счету, интересны подробности отладки чужих баз данных?
– Я понимаю, – кивнул я. – Думаю, я готов.
– Хорошо, – Орлов удовлетворенно кивнул. – Второй момент. Работа у нас не всегда нормированная. Иногда приходится задерживаться, работать по выходным, если того требует ситуация. Мы здесь, Алексей, не просто «отсиживаем» рабочее время. Мы действительно горим своим делом. И ждем того же от наших сотрудников.
«Горим своим делом». Вот это было то, чего мне так не хватало!
Энтузиазм, увлеченность, работа не за страх, а за совесть. Да я был готов ночевать в этом их НИИ НАЧЯ, если бы мне дали по-настоящему интересную задачу!
– Меня это не пугает, – сказал я твердо. – Я привык работать много, если вижу в этом смысл. Горю в кранче.
Орлов внимательно посмотрел на меня, как будто оценивая искренность моих слов.
– Что ж, Алексей, – сказал он после небольшой паузы. – Я рад это слышать. Тогда… у меня есть к вам предложение. Мы не будем сейчас вдаваться во все формальности – оформление документов, проверки и так далее. Это все займет какое-то время. Но я хотел бы предложить вам… скажем так, небольшой испытательный срок. Неофициальный. Буквально на пару недель. Вы сможете поближе познакомиться с нашей работой, с коллективом, с теми задачами, которые вам предстоит решать. А мы, в свою очередь, сможем лучше оценить ваши возможности и то, насколько вы вписываетесь в нашу команду. Как вам такой вариант?
Испытательный срок. Неофициальный.
Это было неожиданно. Но, с другой стороны, вполне логично. Они не могли просто так взять человека с улицы, даже если его анализ данных их впечатлил. Им нужно было присмотреться ко мне, проверить меня в деле. А мне – понять, действительно ли это то, чего я хочу.
– Это… это интересный вариант, – сказал я задумчиво. – Но как же моя нынешняя работа? Я не могу просто так уйти из «ДатаСтрим Солюшнс» на две недели. Влад меня не отпустит.
– А вам и не нужно уходить, – улыбнулся Орлов. – Пока. Вы можете взять отпуск за свой счет. Или больничный. Придумайте что-нибудь. Для человека с вашим интеллектом это не должно составить труда. А через две недели мы с вами снова встретимся и примем окончательное решение. Если все сложится удачно – мы оформим вас официально, и вы станете полноправным сотрудником НИИ НАЧЯ. Если же что-то пойдет не так… ну, что ж, значит, не судьба. Вы вернетесь на свою прежнюю работу, а мы будем искать других кандидатов. Никто никому ничего не будет должен. Полная конфиденциальность, разумеется, гарантируется в любом случае.
Он смотрел на меня выжидающе.
Решение нужно было принимать здесь и сейчас.
Я снова посмотрел в окно.
Дождь все так же стучал по стеклу. Там, за этим окном, была моя привычная жизнь – «ДатаСтрим Солюшнс», Влад с его «КанцПарками», Маша с ее «поисками себя», скучные вечера перед компьютером. А здесь, в этом безликом кабинете, мне предлагали что-то совсем другое. Неизвестное, рискованное, но невероятно притягательное.
И я понял, что не могу отказаться.
Даже если это окажется ошибкой. Даже если потом придется жалеть. Но не попробовать – это было бы еще хуже. Это означало бы предать самого себя, свою мечту о настоящем, интересном деле.
– Я согласен, – сказал я твердо, глядя ему прямо в глаза. – Я согласен на ваш испытательный срок.
В глазах Орлова мелькнуло что-то похожее на удовлетворение.
Или это мне только показалось?
– Я рад это слышать, Алексей, – он снова протянул мне руку. – Очень рад. Думаю, мы с вами сработаемся.
Наше рукопожатие на этот раз было более крепким, почти товарищеским.
Казалось, какой-то невидимый барьер между нами рухнул. Я больше не был просто «сторонним специалистом», а он – таинственным представителем секретной организации. Мы были… ну, если не коллегами, то, по крайней мере, людьми, которые собирались ими стать. И это ощущение было на удивление приятным.
– Отлично, – сказал Орлов, отпуская мою руку. – Тогда давайте договоримся так. Вам нужно будет уладить дела на вашей нынешней работе, чтобы освободить ближайшие две недели. Как только вы будете готовы, позвоните мне. Мы согласуем дату вашего… скажем так, первого рабочего дня у нас. Вам выдадут временный пропуск, познакомят с основными правилами и процедурами. И мы сразу же приступим к делу. У меня уже есть для вас пара интересных задачек, которые, я думаю, придутся вам по вкусу.
«Пара интересных задачек».
Звучит гораздо лучше, чем «оптимизация логистики для „КанцПарка“». Я почувствовал, как внутри снова разгорается этот азартный огонек исследователя.
– Я постараюсь все уладить как можно быстрее, – пообещал я. – Думаю, пара дней мне хватит.
– Не торопитесь, Алексей, – Орлов поднял руку. – Сделайте все аккуратно, чтобы не вызывать лишних подозрений. Нам не нужна излишняя шумиха вокруг вашего… временного отсутствия. Чем меньше вопросов будет у вашего нынешнего начальства, тем лучше.
Я кивнул. Он был прав. Нужно было придумать какую-то убедительную легенду для Влада. Отпуск за свой счет – самый простой вариант, но Влад мог и не согласиться, особенно после истории с «КанцПарком». Больничный? Тоже вариант, но где его взять так быстро? Ладно, что-нибудь придумаю. Ради такого дела можно было и поднапрячься.
– Есть ли у вас ко мне какие-нибудь вопросы на данный момент? – спросил Орлов, видя мою задумчивость.
Вопросов у меня была целая куча.
Начиная от того, чем конкретно занимается каждый отдел в их НИИ НАЧЯ, и заканчивая тем, не водятся ли у них в подвале настоящие привидения. Но я понимал, что сейчас не время для таких расспросов. Всему свое время.
– Пока, наверное, нет, – ответил я. – Думаю, основные вопросы появятся уже в процессе работы.
– Разумно, – согласился Орлов. – Тогда, если позволите, я немного расскажу вам о том, с чем вам, возможно, придется столкнуться в первые дни. Чтобы вы были морально готовы.
Он снова откинулся на спинку кресла.
– Наш институт – это довольно большая и сложная структура. Много разных отделов, лабораторий, у каждого своя специфика, свои… э-э-э… тараканы в голове, если можно так выразиться. Коллектив у нас тоже весьма разношерстный. Есть настоящие энтузиасты, гении своего дела, люди, которые действительно живут наукой. Но есть, к сожалению, и другие… карьеристы, бюрократы, имитаторы бурной деятельности. В общем, все как в любом большом научном учреждении. Боюсь, от этого никуда не деться.
Я слушал его и вспоминал описание НИИЧАВО у Стругацких.
Кажется, за прошедшие полвека в этом плане мало что изменилось. Научные институты, даже такие специфические, как НИИ НАЧЯ, по-прежнему оставались заповедниками не только для гениев, но и для разного рода «Выбегалло».
– Вам придется много общаться с разными людьми, – продолжал Орлов. – И не все из них будут… скажем так, сразу же расположены к вам и вашим методам. Некоторые наши сотрудники, особенно из «старой гвардии», с некоторым недоверием относятся ко всем этим вашим «нейросетям» и «большим данным». Они привыкли работать по старинке, полагаясь на интуицию, опыт, а иногда и на… ну, скажем так, не совсем научные методы. Так что будьте готовы к тому, что вам придется доказывать свою состоятельность, убеждать, а иногда и вступать в споры.
Это было уже интереснее.
Похоже, работа в НИИ НАЧЯ обещала быть не только интересной, но и социально активной. Ну что ж, я был готов и к этому. После общения с некоторыми нашими клиентами в «ДатаСтрим Солюшнс», меня, кажется, уже ничем нельзя было удивить.
– И еще один момент, Алексей, – Орлов понизил голос, и его взгляд снова стал очень серьезным. – То, чем мы здесь занимаемся… это не всегда безопасно. Мы работаем с энергиями и явлениями, природа которых не до конца изучена. Иногда случаются… инциденты. Нештатные ситуации. Поэтому техника безопасности у нас – это не пустой звук. Вы должны будете строго соблюдать все инструкции и предписания. И всегда помнить, что любая ошибка, любая неосторожность может иметь очень серьезные, а иногда и необратимые последствия. Я не хочу вас пугать, но вы должны это понимать.
Вот это уже было не так радужно.
«Не всегда безопасно». «Инциденты». «Необратимые последствия». Звучало как предупреждение из какого-нибудь фантастического боевика. Но, судя по тому, с какой серьезностью говорил Орлов, это были не просто слова.
Я почувствовал, как по спине снова пробежал холодок.
Одно дело – анализировать абстрактные данные на компьютере, и совсем другое – находиться в непосредственной близости от каких-то «неизученных энергий».
– Я… я понимаю, Игорь Валентинович, – сказал я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. – Я буду осторожен.
– Я на это надеюсь, – он кивнул. – Ну, вот, пожалуй, и все на сегодня. Я рад, что мы с вами обо всем договорились. Жду вашего звонка. И… добро пожаловать в команду. Пока еще неофициально, но, надеюсь, это скоро изменится.
Он снова улыбнулся, на этот раз более открыто и дружелюбно.
И я почему-то почувствовал, что эта улыбка была искренней.
Мы попрощались.
Тот же безликий человек в темном костюме проводил меня по длинному коридору до выхода. Скрипнула калитка, и я снова оказался на улице, под моросящим питерским дождем.
Ощущения были… непередаваемые.
Как будто я только что побывал в каком-то другом измерении и теперь вернулся обратно, в свой привычный мир. Но этот мир уже не казался таким привычным. Он как будто немного изменился, потускнел, потерял часть своих красок по сравнению с той невероятной, почти фантастической реальностью, к которой я только что прикоснулся.
Я стоял на тротуаре, глядя на обшарпанное здание из красного кирпича, скрывающее за своими стенами тайны НИИ НАЧЯ.
И я знал, что сделаю все возможное, чтобы вернуться сюда снова. Уже не в качестве гостя, а в качестве полноправного сотрудника.
Даже если для этого придется сразиться со всеми «Выбегалло» этого мира и научиться уворачиваться от «неизученных энергий».
Игра стоила свеч. Определенно стоила.
Осталось только решить одну маленькую проблему – как объяснить Владу свое внезапное двухнедельное исчезновение. Но это уже были детали. Главное – решение было принято. И обратной дороги уже не было. Да я ее и не искал.
Глава 6: Собеседование
Возвращение в офис «ДатаСтрим Солюшнс» после визита в НИИ НАЧЯ было похоже на возвращение из космоса на Землю.
После той атмосферы тайны, значимости и почти фантастических перспектив, которые обрисовал Орлов, привычная офисная обстановка – гул компьютеров, запах кофе, деловитая суета коллег – казалась какой-то ненастоящей, почти картонной. Как будто я смотрел на все это со стороны, через толстое стекло.
Влад встретил меня у входа в свой кабинет с нетерпеливым выражением на лице.
– Ну что, Стаханов? – спросил он, едва я переступил порог. – Докладывай. Что там за «государственная важность»? Удалось обаять своих «геофизиков»? Контракт будет?
Я на секунду замялся.
Что ему сказать? Правду? Мол, Влад, извини, но я, кажется, нашел работу своей мечты в секретном НИИ, которое изучает аномальные явления, и через пару дней собираюсь взять «отпуск за свой счет», чтобы пройти там неофициальный испытательный срок? Думаю, после такого заявления Влад бы просто покрутил пальцем у виска и вызвал бы санитаров.
– Ну, в общем, да, – начал я уклончиво, стараясь придать голосу как можно больше деловитости. – Встреча прошла… конструктивно. Они действительно очень заинтересовались нашими возможностями в плане анализа больших данных. Есть перспектива долгосрочного сотрудничества. Но…
– Но что? – нетерпеливо перебил Влад. – Не тяни кота за хвост! Деньги-то будут?
– Деньги, возможно, и будут, – продолжал я осторожно. – Но там все очень непросто. Структура у них государственная, бюрократия, сами понимаете. Прежде чем подписывать какие-то контракты, им нужно провести… э-э-э… ряд внутренних согласований и экспертиз. И они попросили меня… ну, как бы это сказать… помочь им с этим. В качестве консультанта. На ближайшие пару недель. Чтобы я, так сказать, изнутри посмотрел на их проблемы и помог сформулировать техническое задание для нашего будущего сотрудничества.
Я говорил и сам удивлялся, как складно у меня получается врать.
А самое главное – зачем? Что я пытался добиться ложью? Может быть просто боялся «накаркать»?
Видимо, общение с Орловым и атмосфера НИИ НАЧЯ уже начали оказывать на меня свое «развивающее» влияние.
Влад слушал меня, нахмурив брови.
Видно было, что моя история не очень-то его впечатлила.
– Консультантом? – переспросил он. – На две недели? А платить за эту твою «консультацию» они собираются? Или это так, «за идею»?
– Ну, по поводу оплаты мы пока конкретно не договаривались, – я постарался выглядеть как можно более невинно. – Но они намекнули, что если все пройдет успешно, то и контракт будет хороший, и мои услуги они как-нибудь… отметят.
– «Отметят», – хмыкнул Влад. – Знаем мы эти их «отметят». Ладно, Стаханов, я вижу, что у тебя здесь есть какой-то свой шкурный интересно. Хотя, если честно, вся эта история попахивает какой-то авантюрой. Но если ты говоришь, что есть шанс на крупный заказ… Две недели, говоришь?
– Да, примерно так, – кивнул я. – Может, чуть больше, может, чуть меньше. Я буду на связи, если что.
Влад потер подбородок, размышляя.
– Ладно, – сказал он наконец. – Две недели. Но не больше. И чтобы через две недели у меня на столе лежал либо подписанный контракт, либо внятное объяснение, почему его нет. Иначе… иначе будем разговаривать по-другому. Можешь считать это… неоплачиваемым отпуском за свой счет. Дальше продолжим работу, но с условием, что ты принесешь нам этого жирного гуся на блюдечке с голубой каемочкой. Идет?
– Идет, – с облегчением выдохнул я. Кажется, пронесло. По крайней мере, на ближайшие две недели.
– Вот и договорились, – Влад снова попытался изобразить на лице энтузиазм, но получилось не очень убедительно. – Тогда давай, не теряй времени. Завершай свои текущие дела, передавай все, что нужно, коллегам, и можешь быть свободен. Удачи тебе там, с твоими «геофизиками». Надеюсь, ты знаешь, что делаешь.
– Я тоже на это надеюсь, – сказал я совершенно искренне.
Остаток рабочего дня я провел, разгребая свои текущие задачи и готовя дела к передаче.
Нужно было закончить пару мелких проектов, написать инструкции для коллег, чтобы они могли подхватить мои «хвосты». Работы было довольно много, но я справлялся с ней на удивление быстро и легко. Предвкушение чего-то нового, неизвестного, придавало сил и энергии.
Я чувствовал себя как школьник перед летними каникулами.
Впереди – целых две недели (а может, и больше, если все пойдет хорошо) совершенно другой жизни. Без унылых баз данных, без скучных отчетов, без Влада с его «КанцПарками». Вместо этого – НИИ НАЧЯ, Орлов, «аномальные явления» и задачи, от которых захватывало дух.
Коллеги, конечно, заметили мое приподнятое настроение и то, с какой скоростью я пытаюсь разделаться со всеми делами.
– Ты чего это, Стаханов, такой резвый сегодня? – спросил меня Пашка, один из наших программистов, когда я в очередной раз пробегал мимо его стола с пачкой распечаток. – В отпуск собрался, что ли?
– Можно и так сказать, – усмехнулся я. – В очень необычный отпуск.
– На Мальдивы? – с завистью протянул он. – Или на Бали, как эти… блогеры?
– Нет, – покачал я головой. – Место гораздо более экзотическое. И гораздо более секретное.
Он посмотрел на меня с удивлением, но расспрашивать не стал. У нас в конторе было не принято лезть друг к другу в душу.
К концу дня я более-менее разобрался со всеми делами.
Стол был чист, задачи переданы, инструкции написаны. Я мог со спокойной совестью (ну, почти спокойной, если не считать вранья Владу) отправляться навстречу неизвестности.
Я попрощался с коллегами, пожелал им удачи в борьбе с «КанцПарками» и «ПромТехСнабами», и вышел из офиса.
На улице все так же моросил дождь. Но мне он уже не казался таким унылым и серым. Наоборот, в нем было что-то… романтическое. Как в старых фильмах про шпионов.
Я вдохнул полной грудью влажный питерский воздух и улыбнулся.
Впереди были две недели, которые могли изменить все.
И я был к этому готов.
Первым делом нужно было позвонить Орлову.
Оказавшись на улице, я первым делом достал телефон.
В голове все еще звучали слова Орлова, его спокойный, уверенный голос, обещание «интересных задачек» и таинственная аббревиатура НИИ НАЧЯ. Нужно было ковать железо, пока горячо, то есть пока Влад не передумал и не аннулировал мой «неоплачиваемый отпуск». Я нашел в списке контактов номер Игоря Валентиновича – я предусмотрительно сохранил его после утреннего звонка. Пальцы немного дрожали, когда я нажимал на кнопку вызова.
Гудки шли недолго.
– Орлов слушает, – раздался в трубке знакомый голос.
– Игорь Валентинович, это Алексей Стаханов, – представился я. – Мы с вами сегодня встречались. Я по поводу вашего предложения… Я все уладил на своей работе. Я готов приступить, как только вы скажете.
– Алексей? Очень рад это слышать, – в голосе Орлова, как мне показалось, прозвучала нотка удовлетворения. – Оперативно вы. Я ценю это. Что ж, тогда не будем откладывать в долгий ящик. Вы сможете подъехать к нам завтра утром? Скажем, к десяти часам?
Завтра. Уже завтра. Сердце снова забилось чаще.
– Да, конечно, Игорь Валентинович, – ответил я, стараясь, чтобы голос не выдал моего волнения. – К десяти я буду. Адрес тот же?
– Да, адрес тот же, – подтвердил Орлов. – На проходной скажете, что вы ко мне, вас проводят. Форма одежды… ну, скажем так, свободная, но без излишеств. Джинсы, футболка или рубашка – вполне подойдет. Главное, чтобы вам было удобно работать.
«Удобно работать». Значит, завтра я уже буду «работать»? Не просто знакомиться, а именно работать? Это было… неожиданно. И очень волнующе.
– Я понял, – сказал я. – Буду в джинсах и рубашке.
– Отлично, – в голосе Орлова прозвучала легкая усмешка. – Тогда до завтра, Алексей. И… постарайтесь сегодня хорошо выспаться. Завтрашний день может быть довольно насыщенным.
– Постараюсь. До завтра.
Я закончил разговор и сунул телефон в карман.
«Постарайтесь хорошо выспаться». Легко сказать. После таких новостей я, наверное, вообще не смогу уснуть. В голове роилась тысяча мыслей, предположений, ожиданий. Что меня ждет завтра? Какие «интересные задачки» приготовил для меня Орлов? И как я, обычный программист, смогу вписаться в этот таинственный мир НИИ НАЧЯ?
Я побрел в сторону метро, все еще не до конца веря в реальность происходящего.
Казалось, еще вчера я был просто Лешей Стахановым, который чинил базы данных для «ПромТехСнаба» и мечтал о чем-то большем. А сегодня… сегодня я стоял на пороге этого «большего». И это «большее» оказалось гораздо более странным и невероятным, чем я мог себе представить.
По дороге домой я зашел в магазин и купил молока, как просила Маша в своей записке.
Хотя, какая теперь разница? Она все равно у своих родителей, и вряд ли оценит мою исполнительность. Но привычка – вторая натура. Я бросил пакет с молоком в холодильник, рядом с одинокой банкой шпрот и засохшим лимоном. Кухня выглядела особенно пустынной и неуютной без Машиной суеты, без ее вечных попыток приготовить что-нибудь «эдакое».
Я поужинал чем бог послал – кажется, это были какие-то вчерашние макароны, найденные в недрах холодильника. Вкуса я почти не чувствовал. Все мысли были заняты предстоящим днем.
Чтобы хоть как-то отвлечься, я решил позвонить Маше.
Не то чтобы я хотел обсуждать с ней свои новые «карьерные перспективы» – об этом, как предупредил Орлов, не должен был знать никто. Просто… просто захотелось услышать ее голос. Убедиться, что в моей жизни осталась хоть какая-то точка опоры, хоть что-то знакомое и предсказуемое.
Она ответила не сразу.
– Алло, – голос у нее был немного уставший.
– Привет, – сказал я. – Как ты? Как дела?
– Привет, – она помолчала секунду. – Нормально. У мамы сижу, кино смотрим. А ты что?
– Да так, ничего особенного, – я не знал, что ей сказать. – Работал. Вот, домой пришел. Молока купил, как ты просила.
– Молока? – в ее голосе прозвучало удивление. – А, ну да, спасибо. Я уж и забыла.
Снова повисла неловкая пауза.
Мы как будто разучились разговаривать друг с другом на обычные, повседневные темы. Или, может, эти темы просто исчерпали себя, оставив после себя только пустоту и недомолвки.
– Маш, слушай, – начал я, сам не зная, что хочу сказать. – По поводу нашего разговора… Я тут подумал…
– Давай не сейчас, а? – перебила она меня. – Я что-то так устала сегодня. И мама тут рядом. Давай потом как-нибудь поговорим, ладно?
«Потом». Это «потом» могло означать что угодно – от «завтра» до «никогда».
– Хорошо, – сказал я. – Как скажешь. Тогда… не буду тебе мешать. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, Лёша, – ответила она, и в трубке раздались короткие гудки.
Я положил телефон на стол.
Ну вот. Кажется, и эта ниточка, связывавшая меня с прошлой жизнью, стала еще тоньше. Маша явно не горела желанием «чинить» наши отношения. Да и я, если честно, тоже. Сейчас все мои мысли, все мои надежды были связаны с НИИ НАЧЯ, с Орловым, с той новой, невероятной реальностью, которая, как мне казалось, вот-вот должна была распахнуть передо мной свои двери.
А Маша… Маша оставалась там, в прошлом.
Вместе с «ПромТехСнабом», «КанцПарком» и скучными вечерами перед телевизором.
Может быть, так было и лучше? Для нас обоих.
Каждый пойдет своей дорогой. Она – на свои тренинги по «привлечению изобилия», я – в свой таинственный НИИ, изучать «аномальные явления».
И кто знает, чья дорога окажется более интересной и… изобильной.
Я усмехнулся своим мыслям.
Нужно было действительно постараться выспаться. Завтра меня ждал очень, очень насыщенный день.
И я почему-то был уверен, что он меня не разочарует.
Ночь, вопреки моим опасениям и совету Орлова, прошла на удивление спокойно.
То ли сказалась накопившаяся за последние дни усталость, то ли мозг, перегруженный впечатлениями, просто решил взять тайм-аут, но я проспал почти до самого утра, не видя ни снов, ни кошмаров. Проснулся сам, минут за десять до будильника, с ощущением какой-то странной легкости и почти детского нетерпения. Как будто сегодня был не просто очередной рабочий день, а первое сентября в новой, очень интересной школе. Или, может быть, день рождения, когда тебя ждут подарки и сюрпризы.
Я быстро собрался.
Джинсы, темный свитер – как и советовал Орлов. Посмотрел на себя в зеркало. Вроде бы ничего особенного, обычный Леша Стаханов. Только вот глаза, кажется, блестели сегодня как-то по-особенному. Или это мне просто хотелось так думать?
Наскоро выпив кофе и проигнорировав завтрак (кусок в горло не лез от волнения), я вышел из дома.
Погода, на удивление, немного наладилась. Дождь прекратился, и сквозь рваные серые облака даже проглядывало что-то похожее на солнце. Питер сегодня был ко мне благосклонен. Или это был еще один знак, что я на правильном пути?
Добираться до Черной речки решил на метро, а потом немного пройтись пешком.
Хотелось собраться с мыслями, настроиться на предстоящий день. В вагоне было не так многолюдно, как вчера – видимо, я выехал чуть пораньше. Я снова воткнул в уши наушники, но на этот раз музыка не очень-то помогала отвлечься. Мысли то и дело возвращались к НИИ НАЧЯ, к Орлову, к тем туманным, но таким заманчивым перспективам, которые он передо мной обрисовал.
Что меня там ждет?
Какие люди? Какие задачи? Смогу ли я справиться? Не окажется ли все это каким-то грандиозным розыгрышем или, хуже того, опасной авантюрой?
Вопросов по-прежнему было больше, чем ответов.
Но страха уже почти не было. Вместо него появилось какое-то азартное любопытство, почти спортивный интерес. Как будто я собирался не на работу устраиваться, а участвовать в каком-то сложном и увлекательном квесте, где главный приз – это возможность заниматься тем, о чем я всегда мечтал.
Я вышел из метро на «Черной речке» и пошел по указанному Орловым адресу.
Райончик был довольно специфический. Старые, обшарпанные дома, какие-то промышленные здания, склады, глухие заборы. Не самое презентабельное место для «ведущего научно-исследовательского института». Но, с другой стороны, для секретной организации, занимающейся «аномальными явлениями», такая маскировка была, пожалуй, даже на руку. Кто заподозрит, что за этими невзрачными стенами скрывается что-то из ряда вон выходящее?
Вот и знакомое здание из красного кирпича.
Проходная № 2. Кнопка звонка. Все как вчера. Только сегодня я чувствовал себя гораздо увереннее. Я уже не был просто «посторонним», пришедшим на встречу с неизвестностью. Я был… ну, почти кандидатом на зачисление в штат. По крайней мере, на ближайшие две недели.
В щели калитки снова появилось то же хмурое, небритое лицо.
– Стаханов? – буркнул он, узнав меня. – К Орлову? Проходи. Он уже ждет.
Калитка со скрипом открылась.
Я снова оказался в том длинном, тускло освещенном коридоре. Но сегодня он уже не казался таким мрачным и зловещим. Наоборот, в нем было что-то… интригующее. Как будто это был вход в какую-то тайную пещеру, полную сокровищ.
Меня встретил тот же безликий человек в темном костюме, что и вчера.
Он молча кивнул и проводил меня до кабинета Орлова. Женщина с прической «улей» в приемной тоже лишь мельком взглянула на меня и снова уткнулась в свои бумаги. Видимо, я уже не вызывал у них такого интереса, как вчера. Или просто они привыкли к тому, что в их «институт» приходят странные люди.
Орлов встретил меня у дверей своего кабинета с легкой улыбкой.
– Алексей! Рад вас видеть. Проходите, присаживайтесь. Кофе, чай?
– Здравствуйте, Игорь Валентинович, – я снова пожал ему руку. – Пожалуй, кофе не помешает. Ночь была… не очень спокойная.
– Понимаю, – кивнул он, наливая мне кофе из небольшого термоса, стоявшего у него на столе. – Первое знакомство с нашей… спецификой редко кого оставляет равнодушным. Ну что ж, Алексей, готовы приступить к погружению?
Он протянул мне чашку с ароматным, горячим кофе.
Я сделал глоток. Кофе был на удивление хорош – гораздо лучше, чем в нашем офисе.
– Готов, – сказал я, чувствуя, как по телу разливается приятное тепло и уверенность. – Что я должен делать?
Орлов сел за свой стол и открыл какой-то ящик.
Достал оттуда довольно толстую папку с грифом «Для служебного пользования».
– Для начала, Алексей, вам нужно будет ознакомиться с некоторыми нашими… внутренними документами, – сказал он, пододвигая папку ко мне. – Это, так сказать, вводный курс. Основные направления наших исследований, структура института, правила внутреннего распорядка, техника безопасности – особенно обратите внимание на последний пункт. Читайте внимательно, не торопитесь. Если возникнут вопросы – задавайте. После того, как вы все это изучите, мы с вами немного поговорим. А потом… потом я познакомлю вас с вашей первой «интересной задачкой».
Он улыбнулся, и в его глазах снова мелькнул этот знакомый азартный огонек.
Я взял папку. Она была тяжелой и какой-то… настоящей. Не то что те отчеты и презентации, которые я готовил для Влада. От этой папки веяло тайной, серьезностью и чем-то еще, чему я пока не мог подобрать названия.
Я открыл первую страницу.
«Научно-Исследовательский Институт Научных Аномалий и Чрезвычайных Явлений (НИИ НАЧЯ). Устав».
Ну что ж, Стаханов. Похоже, твой «необычный отпуск» начался.
И он обещал быть гораздо более увлекательным, чем любая поездка на Мальдивы.
Если, конечно, я переживу чтение этого «устава» и не засну на разделе про «технику безопасности при работе с аномальными энергиями».
Я погрузился в чтение.
Папка действительно оказалась толстой, и информация в ней была, мягко говоря, специфической. Устав НИИ НАЧЯ, структура отделов, должностные инструкции, приказы о соблюдении режима секретности… Все это было написано сухим, канцелярским языком, но за этими формулировками угадывалась деятельность такого масштаба и такой направленности, что у меня временами перехватывало дух.
Отдел Теоретической Физики и Мета-Полевых Взаимодействий. Отдел Прикладной Биофизики и Паранормальной Физиологии. Отдел Квантовой Химии и Алхимических Трансформаций… Названия звучали как музыка для моих ушей, уставших от «ПромТехСнабов» и «КанцПарков». Каждый отдел, судя по описанию, занимался чем-то на стыке науки и… и чего-то еще. Того самого, что Орлов называл «неконвенциональными феноменами».
Были там и схемы – структура института, подчиненность отделов, какие-то непонятные диаграммы, изображающие, видимо, потоки «аномальной энергии» или что-то в этом роде. Я внимательно изучал каждую страницу, пытаясь вникнуть в суть, запомнить аббревиатуры, понять, кто чем занимается и как все это связано между собой.
Особое внимание я уделил разделу «Техника безопасности».
Он был написан гораздо более живым и образным языком, чем остальные документы, и изобиловал примерами, от которых у меня волосы на голове вставали дыбом. «При работе с артефактом типа „Гамма-7“ строго запрещается приближаться к нему на расстояние менее пяти метров без индивидуальных средств защиты класса „Дельта“. „В случае несанкционированного открытия пространственно-временного континуума в лаборатории № 3, немедленно активировать систему аварийного схлопывания и эвакуировать персонал в убежище № 5“. „Категорически запрещается вступать в вербальный контакт с сущностями класса „Эпсилон“ без предварительного согласования с руководством отдела и наличия сертифицированного медиума-переводчика».
Я читал это и не знал, смеяться мне или бояться.
Это что, все всерьез? Они действительно работают с какими-то «артефактами», открывают «пространственно-временные континуумы» и общаются с «сущностями класса Эпсилон»? Или это просто такая своеобразная форма научного юмора, понятная только посвященным?
Но, судя по тому, с какой серьезностью Орлов говорил о «нештатных ситуациях» и «необратимых последствиях», шутками здесь и не пахло.
Это была их реальность. Их рабочие будни.
И я, кажется, собирался стать частью этой реальности.
Время за чтением летело незаметно.
Я то и дело поглядывал на Орлова – он сидел за своим столом, просматривая какие-то бумаги, и, казалось, совершенно не обращал на меня внимания. Но я чувствовал, что он наблюдает за мной, оценивает мою реакцию, мою способность воспринимать эту… нестандартную информацию.
Наконец, я дочитал до конца.
Закрыл папку и положил ее на стол. Голова гудела от обилия новых терминов, названий, инструкций. Но при этом я чувствовал какой-то странный прилив сил, возбуждение, как перед прыжком с парашютом.
– Ну как? – Орлов оторвался от своих бумаг и посмотрел на меня. – Впечатляет?
– Более чем, – честно ответил я. – Особенно раздел про технику безопасности. Скажите, а эти… «сущности класса Эпсилон»… они часто здесь появляются?
Орлов усмехнулся.
– Не так часто, как хотелось бы некоторым нашим теоретикам, но и не так редко, чтобы можно было расслабляться. Впрочем, не волнуйтесь, Алексей. В Секторе Интеллектуального Анализа и Прогнозирования вам вряд ли придется иметь с ними дело напрямую. Ваша задача – работать с данными, которые мы получаем из… э-э-э… различных источников. В том числе и от тех, кто контактирует с этими самыми «сущностями».
Он снова улыбнулся, и я понял, что он немного подшучивает надо мной, проверяет мою реакцию.
– Ясно, – сказал я, стараясь выглядеть невозмутимым. – То есть, моя основная работа будет заключаться в анализе данных, полученных в результате экспериментов и наблюдений других отделов?
– Совершенно верно, – кивнул Орлов. – А также в разработке новых методов анализа, создании прогностических моделей, поиске скрытых закономерностей. У нас накопились огромные массивы информации, которые требуют систематизации и глубокого изучения. И ваши навыки в области ИИ и машинного обучения здесь будут как нельзя кстати. Собственно, у меня уже есть для вас первая задачка. Небольшая, для разминки. Но, думаю, она вам понравится.
Он снова открыл ящик стола и на этот раз достал оттуда тонкую флешку.
– Здесь, – он протянул мне флешку, – архив данных с одного из наших стационарных комплексов наблюдения. Комплекс расположен в… скажем так, весьма аномальной зоне. На протяжении нескольких лет он фиксировал различные параметры – электромагнитные поля, гравитационные флуктуации, изменения температуры, состава воздуха и так далее. И вот недавно… там начало происходить нечто странное.
Он сделал паузу, и его глаза блеснули.
– Мы фиксируем периодические, очень короткие, но чрезвычайно мощные всплески какой-то неизвестной энергии. Природа этой энергии нам пока непонятна. И закономерность ее появления – тоже. Ваша задача – проанализировать эти данные, попытаться найти какую-то систему в этих всплесках, выявить возможные корреляции с другими параметрами. И, если получится, построить модель, которая могла бы предсказать следующий всплеск. Справитесь?
Он смотрел на меня с вызовом, с азартом.
И я почувствовал, как этот азарт передается мне.
Анализировать всплески неизвестной энергии в аномальной зоне! Строить прогностические модели! Да это же именно то, о чем я мечтал!
– Я… я думаю, да, – сказал я, беря флешку. Она была теплой, как будто только что извлеченная из работающего компьютера. – Я постараюсь.
– Вот и отлично, – Орлов удовлетворенно кивнул. – Рабочее место вам сейчас организуют. Компьютер, доступ к нашим базам данных – все будет. Если возникнут вопросы – обращайтесь ко мне или к моим заместителям. И… удачи, Алексей. Надеюсь, вы оправдаете наши ожидания.
Он встал, давая понять, что аудиенция окончена.
Я тоже поднялся, чувствуя, как внутри все трепещет от предвкушения.
Первая настоящая задача в НИИ НАЧЯ.
И она обещала быть чертовски интересной.
Глава 7: Экскурсия
Я вышел из кабинета Орлова с ощущением, будто прошел собеседование не просто на новую работу, а на участие в какой-то секретной миссии.
В голове все еще крутились обрывки фраз про «аномальные явления» и «сущностей класса Эпсилон». За дверью меня, как и ожидалось, поджидал тот самый безликий сопровождающий в темном костюме. Сегодня на его пиджаке я заметил крошечный, едва различимый значок – какой-то стилизованный щит с непонятным символом внутри. Мелочь, но она добавляла его образу толику официальности, если так можно выразиться.
Он молча кивнул и жестом указал следовать за ним. Мы прошли в самый конец коридора, мимо таких же безликих дверей, и остановились у одной, ничем не примечательной, без единой таблички или номера. Мой провожатый открыл ее и посторонился, пропуская меня внутрь.
Кабинет оказался небольшим, даже тесным, и производил гнетущее впечатление. Одно окно, забранное матовым стеклом, сквозь которое едва пробивался дневной свет. Стены выкрашены в тот же казенный бежевый цвет, что и у Орлова, но здесь он казался еще более унылым. Из мебели – массивный деревянный стол, два таких же стула, обитых потрескавшимся кожзаменителем, и огромный стальной сейф в углу. Никаких личных вещей, никаких украшений. Голая функция. На столе стоял компьютер с плоским монитором, но какой-то устаревшей модели, и несколько странных приборов, назначения которых я не мог даже предположить. Пахло пылью и чем-то неуловимо металлическим.
Человек, который меня привел, обошел стол и сел в кресло. Только теперь он, кажется, решил нарушить молчание.
– Присаживайтесь, Алексей, – его голос был таким же ровным и невыразительным, как и его внешность. Он указал на стул напротив.
Я сел, стараясь не выдать своего любопытства, смешанного с легкой тревогой.
– Меня зовут Стригунов, Семен Игнатьевич, – представился он, глядя на меня своими бесцветными, но на удивление цепкими глазами. – Я начальник отдела безопасности этого учреждения.
Ну вот, теперь понятно, почему у него такой кабинет и такой вид. Начальник СБ. Классика жанра.
– Игорь Валентинович предупредил, что вы ознакомились с нашими внутренними документами, – продолжил Стригунов. – Все ли вам понятно? Есть какие-то вопросы по режиму, технике безопасности или вашим обязательствам? Со всем ли изложенным вы согласны?
Я кивнул.
– Да, Семен Игнатьевич, я все прочел. Вопросов пока нет. И да, я со всем согласен.
Хотя, если честно, после раздела про «сущностей класса Эпсилон» вопросов у меня было больше, чем ответов. Но задавать их начальнику СБ казалось не самой лучшей идеей.
– Хорошо, – Стригунов пододвинул ко мне толстую, почти амбарную книгу в кожаном переплете и открыл ее на последней заполненной странице. – Тогда распишитесь здесь. О том, что вводный инструктаж вами получен, с содержанием ознакомлены, об ответственности предупреждены. Дата, подпись, расшифровка.
Я взял предложенную им шариковую ручку – обычную, синюю, ничего примечательного – и расписался под каким-то стандартным текстом. В графе «должность инструктирующего» стояла фамилия Стригунова. Похоже, он тут не только начальник, но и главный по инструктажам для новичков. Я было подумал упомянуть про Орлова, но решил не встревать во внутренние дела.
– Теперь процедура получения временного пропуска, – объявил Стригунов, когда я вернул ему книгу. Он отодвинул ее в сторону и указал на один из приборов на своем столе. Это была небольшая камера, похожая на те, что используют для веб-конференций, но какая-то более основательная, на массивной подставке. – Посмотрите, пожалуйста, прямо в объектив. Не моргайте несколько секунд.
Я послушно уставился в темный глазок камеры. Внутри что-то тихо щелкнуло.
– Готово, – сказал Стригунов, поворачивая монитор компьютера немного ко мне. На экране появилось мое лицо – четкое, почти студийного качества фото.
«Оперативно», – подумал я.
– Теперь отпечатки пальцев, – он указал на другой прибор, небольшую стеклянную панель рядом с клавиатурой. – Правая рука, все пять пальцев, по очереди, начиная с большого. Затем левая.
Процедура была знакомой, почти как при получении загранпаспорта. Я прикладывал пальцы к панели, на экране тут же появлялись их детальные изображения. Все стандартно.
– А теперь, Алексей, небольшая формальность, – Стригунов взял со стола еще один прибор, самый странный из всех. Он был похож на толстую авторучку или небольшой медицинский анализатор, с коротким тонким носиком на конце. – Нам необходим ваш биоматериал для полной синхронизации с системами безопасности института. Небольшой укол в палец. Это не больно.
Укол в палец? «Синхронизация с системами безопасности»? Это уже было что-то новенькое. Я слегка напрягся.
– Что за… синхронизация? – спросил я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно.
– Стандартная процедура, – невозмутимо ответил Стригунов. – Идентификация по уникальному биометрическому коду. Плюс, некоторые наши системы требуют… специфической настройки под оператора. Это для вашей же безопасности. Протяните, пожалуйста, указательный палец левой руки.
Я немного помедлил, но потом протянул палец. Терять уже, кажется, было нечего. Стригунов поднес прибор к моей подушечке пальца. Я заметил, как изнутри корпуса этого «анализатора» исходит едва заметное, пульсирующее голубоватое свечение. Секундное, почти неощутимое жжение – и все. Он отнял прибор. На пальце осталась крошечная красная точка. Иглы я не заметил.
– Все, – сказал Стригунов, откладывая «ручку» в сторону.
Я посмотрел на монитор его компьютера. Данные на экране – какие-то графики, строки кода, диаграммы – обновлялись с невероятной, почти нечеловеческой скоростью. Цифры мелькали так быстро, что уследить за ними было невозможно. Потом все замерло, и на экране появилась зеленая надпись: «Синхронизация завершена. Профиль пользователя А. П. Стаханов активирован. Уровень доступа: 2 (временный)».
«Что за технологии у них тут?» – мелькнула у меня мысль. Такого я еще не видел. Никакие известные мне биометрические системы не работали с такой скоростью и не требовали «синхронизации» через забор крови. Это было похоже… да, это было больше похоже на какую-то мистику, о которой иногда в шутку говорят айтишники, когда сталкиваются с чем-то необъяснимым, но работающим. Только здесь это, кажется, было не шуткой.











