Читать онлайн Российско-японское противостояние на море. Дуэль флотов и разведок. 1875-1922
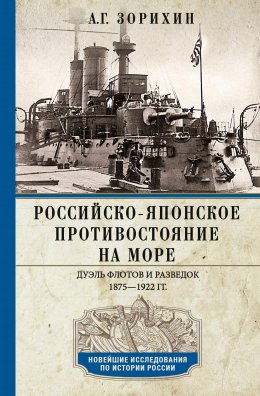
© Зорихин А.Г., 2025
© «Центрполиграф», 2025
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2025
Оформление художника Я.А. Галеевой
Введение
История российско-японских отношений конца XIX – первой четверти XX в. по праву остаётся одной из наиболее востребованных тем для исследователей, поскольку победа Японии в кампании 1904–1905 гг., в которой, казалось бы, должна была выиграть большая по площади, населению и ресурсам держава, не укладывается в привычные стереотипы. Разгром 2-й Тихоокеанской эскадры в Цусимском сражении (1905) стал не только одной из причин поражения России в этой войне, но и имел следствием тотальное доминирование японского флота над царским (советским) на Дальнем Востоке вплоть до капитуляции Токио в сентябре 1945 г.
Однако в тени Русско-японской войны остаётся иностранная интервенция в нашу страну в 1918–1922 гг., в которой Япония и её военно-морские силы также приняли деятельное участие. В обеих кампаниях успех действий этого островного государства и его флота был во многом предопределён результативной работой разведывательных органов империи.
И если о деятельности военной разведки Японии в 1875–1922 гг. известно достаточно много, то об её военно-морском собрате знают в основном посвящённые. Причина проста – исследовательская лакуна связана с малым числом введённых в оборот первоисточников и сложностями с их переводом с классического японского языка начала XX в.
Тем не менее архивная революция и цифровизация документальных коллекций позволяют сегодня пересмотреть устоявшиеся представления о деятельности разведывательных органов ВМФ Японии, оценить их вклад в строительство военной мощи империи, реализацию внешней политики Токио на российском и советском направлениях, рассказать о наиболее ярких представителях военно-морской разведки, среди которых были, например, первый японский морской офицер-стажёр в Санкт-Петербурге легендарный капитан 2-го ранга Хиросэ Такэо или один из творцов победы в кампании 1904–1905 гг. на море резидент Морского Генерального штаба (МГШ) в Чифу капитан 1-го ранга Ямасита Гэнтаро, ставший позднее главнокомандующим Объединённым флотом.
Оценивая изученность вынесенной в заголовок книги проблемы, следует признать, что в отечественной историографии деятельность разведки японского флота рассматривалась слабо.
Впервые на этот вопрос исследователи обратили внимание по окончании Русско-японской войны, когда под впечатлением поражения царского флота в российском обществе стали слагаться легенды о тотальном засилье японских шпионов. Однако даже в таких солидных трудах Военно-исторической комиссии и исторической комиссии при Морском Генеральном штабе, как «Русско-японская война 1904–1905 гг.» (1910–1918), о военно-морской разведке Японии не говорилось ни слова, хотя к агентуре империи в Восточной Сибири, Маньчжурии и на Квантунском полуострове были причислены практически все проживавшие там японские колонисты1. Впоследствии миф о широком проникновении японских разведчиков был повторён А. Вотиновым в книге «Японский шпионаж в русско-японскую войну 1904–1905 гг.» (1939) и коллективом авторов совместной монографии Академии наук и Института военной истории Министерства обороны СССР «История русско-японской войны 1904–1905 гг.» (1977), в которой, в частности, утверждалось, что «задолго до начала войны Генеральный штаб японской армии заслал в район размещения русских войск на Дальнем Востоке большое количество агентов, от которых получал все необходимые сведения о количестве войск, уровне их подготовки, материальных запасах, состоянии и работе транспорта»2.
Необходимо признать, что в советский период в открытых и закрытых исследованиях японская военно-морская разведка если и упоминалась, то лишь в контексте деятельности её резидентуры в Сэйсине (Чхонджине) против Тихоокеанского флота в 1935–1945 гг. и неудачной попытки советской военной контрразведки задержать по горячим следам руководителя этого разведаппарата капитана 1-го ранга Минодзума Дзюндзи3. Период 1875–1922 гг. остался вне поля зрения историков, что обусловливалось отсутствием доступных им источников на японском языке.
Ситуация долго не менялась и после распада Советского Союза. Несмотря на большое количество выполненных за последнее время диссертационных исследований, посвящённых российско-японскому разведывательному противостоянию в конце XIX – первой четверти XX в., ни в одном из них военно-морская разведка империи не фигурирует4. Показателен в этом плане труд И.Н. Кравцева «Японская разведка на рубеже XIX–XX веков (Документальное исследование о деятельности японской разведки в указанный период)» (2004), в котором автор ни разу не упомянул о существовании в императорском флоте самостоятельной разведслужбы, а находившихся в Санкт-Петербурге в 1898–1902 гг. военно-морского атташе капитана 2-го ранга Ясиро Рокуро и его помощника капитана 3-го ранга Хиросэ Такэо причислил к военной разведке5. Единственными работами, в которых фигурируют офицеры военно-морской разведки Японии, действовавшие против России, стали монографии Д.Б. Павлова «Русско-японская война 1904–1905 гг.: Секретные операции на суше и море» (2004) и «Русско-японские отношения в годы Первой мировой войны» (2014), написанные, однако, только на основе российских и британских источников6.
Коренной перелом в исследовании Русско-японской войны и деятельности разведорганов Японии произошёл в 2011 г., когда историк-японист А.В. Полутов (г. Владивосток) защитил кандидатскую диссертацию «Японская военно-морская разведка и её деятельность против России накануне русско-японской войны 1904–1905 гг.». В ней он впервые в отечественной историографии рассмотрел историю становления и результаты деятельности японской военной и военно-морской разведок на русском направлении в 1875–1904 гг. с опорой на ранее неизвестные документы из архивов Научно-исследовательского института обороны министерства национальной обороны (НИИО МНО), министерства иностранных дел (МИД), Национального архива Японии, в том числе «Совершенно секретная история войны на море 37–38 гг. Мэйдзи». В других публикациях этот талантливый историк затронул работу японской военно-морской разведки против нашей страны в 1904–1922 гг., что делает их ценным источником, особенно для тех русскоязычных авторов, кто не владеет японским языком7. К сожалению, скоропостижная кончина А.В. Полутова в 2016 г. не позволила ему обнародовать весь массив накопленной информации по истории российско-японских отношений конца XIX – первой половины XX в.
В европейской и американской историографии фактическое изучение истории японской военно-морской разведки началось после Второй мировой войны, когда в распоряжение американских оккупационных властей попали документы МИД, МГШ и военно-морского министерства Японии.
Классическим трудом по истории разведорганов военно-морского флота Японии стала коллективная монография Дэвида Эванса и Марка Питти «Кайгун: стратегия, тактика и технологии императорского флота Японии, 1887–1941». В ней исследователи провели детальный анализ процесса становления ВМФ Японии, развития его оперативного искусства и судостроения, показали роль флотской разведки в выработке морской доктрины империи и достижении паритета с крупнейшими мировыми державами8. Эти же вопросы рассмотрены британским историком Яном Гоу через биографию начальника МГШ адмирала Като Хирохару (Кандзи), находившегося в 1899–1902 гг. на разведывательной работе в Санкт-Петербурге, и Чарльзом Шэнкингом, изучившим становление японского флота в 1868–1922 г.9
Достаточно подробно деятельность военно-морской разведки Японии накануне и в ходе кампании 1904–1905 гг. описана крупнейшим британским японоведом Яном Нишем и австралийскими историками супругами Дэнисом и Пэгги Уорнэрами10. Отдельные аспекты участия офицеров раз ведки флота в подготовке так называемой «сибирской экспе диции» на советский Дальний Восток в 1917–1918 гг. рассмотрены Джеймсом Морли в монографии «Японское проникновение в Сибирь, 1918», в которой он впервые ввёл в оборот большой объём считавшихся утраченными документов из японских архивов11.
История разведорганов японского флота с 1900 по 1945 г., особенно в контексте их взаимоотношений с разведками Великобритании и Германии, исследована в работах американского японоведа Джона Чэпмэна12. Однако, как и в случае с отечественной исторической наукой, обобщающий труд о деятельности военно-морской разведки Японии в 1875–1922 гг. на Западе ещё не написан, а уже имеющиеся работы акцентируют внимание главным образом на её участии в тихоокеанской кампании Второй мировой войны13.
В японской историографии исследование деятельности военно-морской разведки империи против нашей страны в рассматриваемый период получило широкое распространение, хотя события межвоенного периода, Первой мировой войны и японской интервенции на советском Дальнем Востоке изучены слабо.
Впервые участие разведывательных органов императорского флота в осуществлении «сибирской экспедиции» (1917–1922) было проанализировано специалистами Морского Генштаба Японии в четырёхтомнике «История боевых действий военно-морского флота Японии в 1915–1920 гг.»14.
В 1985 г. профессор Академии национальной обороны Тояма Сабуро опубликовал двухтомник «Исследование истории Русско-японской войны на море», в котором на широком круге источников показал роль разведорганов императорского флота в подготовке и реализации кампании 1904–1905 гг.15
Сегодня одним из наиболее авторитетных специалистов по истории японской разведки является профессор университета «Мэйдзё» из Нагоя Инаба Тихару, который ввёл в оборот большее количество ранее недоступных исследователям документов из архивов МИД и НИИО МНО Японии. В изучении истории японской военно-морской разведки данный исследователь сосредоточился в основном на событиях 1904–1905 гг.16
Процессу становления и развития зарубежного разведаппарата МГШ в первой половине XX в. посвящена статья Утияма Масакума17. В работе Симада Киндзи подробно изучены жизнь и деятельность одного из первых резидентов военно-морской разведки Японии в европейской части нашей страны капитана 3-го ранга Хиросэ Такэо, находившегося в Санкт-Петербурге с 1897 по 1902 г.18 Ещё больший интерес у японских исследователей вызывает фигура последнего военно-морского министра империи Ёнаи Мицумаса, который с 1915 по 1922 г. руководил разведывательным аппаратом МГШ в России и Польше, а в 1926–1928 гг. возглавлял флотскую разведку19.
К числу обобщающих трудов следует отнести монографию полковника в отставке Арига Цутао «Разведывательные органы японской императорской армии и флота и их деятельность». В ней автор сосредоточил внимание на процессах формирования и функционирования разведслужб Генерального и Морского Генерального штабов после так называемого «маньчжурского инцидента» (1931), хотя отдельные параграфы посвящены событиями первой четверти XX в.20
Большой объём фактического материала об организационно-штатной структуре Разведуправления МГШ, руководителях его зарубежного разведаппарата и подробные послужные списки сотрудников содержатся в «Биографическом справочнике офицеров японского флота», «Справочнике по организационно-штатной структуре японского флота», «Полной энциклопедии японской армии и флота» и «Общем обзоре личных дел генералов и адмиралов японской армии и флота. Раздел „Военно-морской флот“»21.
Отдельным пластом исследований выступает история службы радиоразведки и криптоанализа флота, которая, в отличие от её армейского аналога, не подчинялась начальнику военно-морской разведки Японии. Изучением деятельности радиоразведки в Русско-японской войне, в частности, занимались Ёсида Акихико, Томидзава Итиро и Наката Рёхэй22.
Кроме того, вопросы влияния информации разведывательных органов флота на строительство военно-морских сил, военное планирование Японии и выработка ею внешнеполитического курса в отношении Российской империи и СССР в 1904–1922 гг. фрагментарно рассмотрены в первых четырёх томах 11-томной «Истории японского военно-морского флота»23.
Резюмируя вышеизложенное, следует признать, что, несмотря на наличие в отечественной и зарубежной исторической науке исследований о деятельности военно-морской разведки Японии против России и СССР, период с 1875 по 1922 г. изучен недостаточно полно и нуждается в специальном рассмотрении.
Поэтому выносимая на суд читателей работа представляет собой первое в нашей стране комплексное исследование по истории возникновения, развития и функционирования органов военно-морской разведки Японии в конце XIX – первой четверти XX в., написанное в сопоставлении российских и японских источников. Хронологические рамки данной книги охватывают период с 1875 по 1922 г. Нижний рубеж связан с началом деятельности флотской разведки против нашей страны, а вывод японских войск с территории советского Дальнего Востока в октябре 1922 г. обусловил верхнюю границу, хотя в ряде случаев эти границы сдвигаются, что вызвано необходимостью проследить отдельные аспекты становления и развития разведорганов императорского флота.
Территориальные рамки книги в основном ограничены Японией, Китаем, Кореей, Российской империей и Советской Россией, однако в некоторых параграфах для всестороннего рассмотрения затронутой проблематики они включают Европу, Америку, Африку и Ближний Восток.
При подготовке исследования автором было использовано большое количество разнообразных источников, главным образом опубликованных материалов и ранее не вводившихся в научный оборот архивных документов на русском, английском и японском языках.
Опубликованные источники условно поделены на две группы. К первой группе относятся договоры и дипломатические документы, касающиеся Дальнего Востока, представленные в различных сборниках, документы по истории борьбы с японским шпионажем накануне и в годы Русско-японской войны, справочные материалы о состоянии императорского военно-морского флота, Вооружённых сил Российской империи и Советской России, переписка МИД и центральных органов военного управления Японии24.
Вторую группу составляют источники личного происхождения – воспоминания руководителей Белого движения и сотрудников японской военно-морской разведки. Среди них – мемуары командующего Сибирской военной флотилией контр-адмирала Г.К. Старка и дневниковые записи начальника МГШ адмирала Като Хирохару25.
Архивную базу исследования составили материалы Архива внешней политики Российской империи и Государственного архива Российской Федерации, раскрывающие отдельные направления деятельности отечественных специальных органов против японской разведки в 1903— 917 гг.26
Кроме того, при написании книги были использованы две группы материалов на японском языке из архива Научно-исследовательского института обороны министерства национальной обороны, архива министерства иностранных дел и Национального архива Японии27.
К первой относятся императорские указы, нормативно-правовые акты кабинета министров, военно-морского министерства, Морского Генерального штаба, регулирующие деятельность разведывательных органов флота, планирующая и финансовая документация различных ведомств.
Во вторую группу попали доклады военно-морских атташе, руководителей зарубежных разведаппаратов МГШ, донесения дипломатических миссий и разведывательных органов армии, информационные материалы центрального аппарата флотской разведки по российской тематике.
Все даты приводятся по григорианскому календарю (новому стилю). Современные названия населённых пунктов указаны в скобках.
В связи с неоднократными изменениями названий военно-морская разведка Японии далее для краткости будет именоваться «Разведывательное управление Морского Генерального штаба» (РУ МГШ).
Автор благодарит за помощь в написании книги родителей, д.и.н. Ю.С. Пестушко, д.и.н. Р.С. Авилова, к.и.н. С.В. Тужилина, к.и.н. А.В. Полутова, В.Г. Зорихина, В.В. Овсянникова, А.С. Колесникова, С.А. Куртинец, А.Е. Кулагина, доктора наук Здзислава Капера, А.А. Кириченко, М.М. Зензину.
Глава 1
Военно-морское противостояние в 1875–1905 гг.
§ 1. На пути к Цусиме (1875–1901 гг.)
Создание разведывательных органов армии и флота Японии было связано с начавшейся в 1867 г. реставрацией Мэйдзи и превращением империи в регионального лидера. Реализуя свою внешнюю политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Япония в 1871 г. взяла курс на организацию мощных Вооружённых сил. Вплоть до 1882 г. главным противником империи на суше и море, по мнению её руководства, выступала Россия.
На это, в частности, указывал подготовленный министерством военных дел Японии в июне 1870 г. «Проект организации военно-морского флота в целом», который так определял место нашей страны в системе военных угроз для империи: «Заветной мечтой России является, вероятно, объединение под своим началом европейского и азиатского континентов. Прилагая для достижения этой цели усилия, действуя очень расчётливо и на опережение, преодолевая невзгоды, пожиная плоды, она будет постепенно расширять территорию своего государства… Однако Россия до сих пор в общем не добилась поставленной цели, потому что не заполучила в Азии пригодные для развёртывания средиземноморского флота владения. Раньше она планировала, завоевав Турцию, вклиниться в Средиземноморье и тем самым разъединить Европу и Азию. Однако её намерения были сорваны совместным выступлением Великобритании и Франции [речь идёт о Крымской войне 1853–1856 гг.– Авт.]. В последнее время, прибрав к своим рукам лежащие вдоль Амура земли в Маньчжурии [речь идёт об Айгунском договоре 1858 г.– Авт.], Россия вплотную приблизилась к нашему Хоккайдо и Корее и в этой связи будет оказывать давление на северные границы империи, Китая и Кореи»28.
В развитие темы российской угрозы 2 февраля 1872 г. старший заместитель министра военных дел Ямагата Аритомо, младший заместитель по армии Сайго Цугумити и младший заместитель по флоту Кавамура Сумиёси представили правительству докладную записку, в которой отметили, что «в настоящее время Россия, с высокомерием и яростью разорвав севастопольские соглашения [речь идёт о Лондонской конференции 1871 г.– Авт.], разместила свой флот на Чёрном море, на юге покорила все мусульманские страны [речь идёт о присоединении Кокандского, Хивинского ханств, Илийского султаната и Бухарского эмирата в 1850–1872 гг.– Авт.] и протянула руки в сторону Индии, на западе, перейдя границы Маньчжурии, намерена продвинуться по верхнему и нижнему течению Амура», поэтому предложили «в кратчайшие сроки закончить подготовку к столкновению с ней как с наиболее вероятным противником, направив на это все силы нашего государства»29.
В целом Россия оставалась основным потенциальным противником Японии на протяжении семидесятых годов XIX в., даже несмотря на подписание 7 мая 1875 г. петербургского договора «Об обмене Сахалина на Курильские острова», урегулировавшего территориальный спор между нашими странами. Перелом в восприятии японским правительством потенциальной угрозы со стороны России произошёл только в 1882 г., когда обострились противоречия с цинским Китаем за право обладания Кореей.
Строительство военно-морского флота Японии изначально велось в рамках концепции его использования для защиты морского побережья империи под руководством армии. Этот подход обуславливался промышленным отставанием Японии от крупнейших стран Запада, в связи с чем в 1870-е гг. военно-морские силы империи насчитывали 16 деревянных парусных судов, которые были в плохом техническом состоянии и имели слабое вооружение.
По итогам тайваньской кампании 1874 г. правительство Японии взяло курс на достижение паритета с потенциальными противниками на море и разместило в мае 1875 г. заказ на строительство на верфях британских компаний «Earle’s» и «Milford Haven» броненосного фрегата «Фусо», броненосных корветов «Конго» и «Хиэй»30. Ещё раньше, в 1873 г., в Токио прибыла британская военно-морская миссия во главе с капитаном 2-го ранга Арчибальдом Дугласом, которая сыграла ключевую роль в организации боевой подготовки японского флота и знакомстве его командного состава с основами морской стратегии и тактики. Сначала преподавание велось в образованной в 1869 г. Военно-морской академии, которая готовила младший офицерский состав флота, однако 14 июля 1888 г. в токийском районе Цукидзи был открыт Военно-морской штабной колледж, обучавший средний и старший командный состав31.
Осознавая явное отставание японского флота от флотов потенциальных противников, 20 декабря 1881 г. военно-морской министр Кавамура Сумиёси обратился к правительству с предложением заложить в бюджет расходы на строительство в течение 20 лет 60 броненосных кораблей32. Хотя оно было отклонено по финансовым соображениям, через год, 15 ноября 1882 г., Кавамура направил в адрес кабинета министров новое обращение с просьбой одобрить 8-летнюю программу строительства 48 кораблей, мотивируя её обострением из-за спора о принадлежности о. Рюкю и соперничества за Корею отношений с Китаем, имевшим флот в 60 вымпелов, а также потребностью охраны морских перевозок на случай столкновения с Россией33. Правительство утвердило программу строительства только 32 боевых кораблей в дополнение к 10 уже имевшимся или заложенным. В 1892 г. амбиции ВМФ были урезаны до постройки 19 боевых кораблей основных классов (4 эскадренных броненосца, 4 броненосных крейсера, 6 бронепалубных крейсеров 2-го, 3-го и 4-го классов, 3 минно-торпедные канонерские лодки, 2 авизо)34.
Ядром флота должны были стать броненосцы и бронепалубные крейсеры. Однако эскадренные броненосцы «Ясима» и «Фудзи» Токио смог заложить на британских верфях Армстронга только в ходе японо-китайской войны во второй половине 1894 г. Лучше обстояло дело с бронепалубными крейсерами: в 1885–1893 гг. в состав японского флота вошли построенные в Великобритании «Ёсино», «Нанива», «Такатихо» и «Тиёда». Ещё 3 корабля этого класса – «Унэби», «Мацусима» и «Ицукусима» – строились во Франции, войдя в состав императорского ВМФ в 1891–1892 гг. («Унэби» погиб в 1886 г. во время перехода в Японию). Кроме того, в 1888–1894 гг. военно-морское министерство Японии разместило заказ на строительство бронепалубных крейсеров «Хасидатэ», «Акицусима», «Сума» и «Акаси» на верфи образованного в 1884 г. арсенала в Йокосука. Скорость реализации кораблестроительной программы систематически корректировалась с учётом финансового состояния империи: если в декабре 1882 г. в составе японского флота числилось всего 27 боевых кораблей (28 837 тонн), то в декабре 1890 г.– уже 39 (58 449 тонн), а к началу 1894 г. этот показатель достиг 53 единиц (62 474 тонны)35.
Постепенное пополнение новыми боевыми кораблями усложняло организацию японского флота в семидесятых – восьмидесятых годах XIX в. Ещё 14 сентября 1876 г. в Йокогама был образован Восточный военно-морской район (ВМР), являвшийся высшим органом управления корабельными силами, береговыми частями, судостроительными и судоремонтными предприятиями, арсеналами и хранилищами угля ВМФ на восточном побережье Японии. В декабре 1884 г. командование района было переведено в Йокосука. Позднее были образованы ВМР в Курэ (1889), Сасэбо (1889) и Майдзуру (1901), которым в соответствии с «Положением о военно-морском районе» от 22 апреля 1886 г. подчинялись по территориальности все базирующиеся на районы корабельные силы, военнослужащие и гражданский персонал ВМФ, судостроительные и судоремонтные предприятия, арсеналы, склады, хранилища, госпитали, мобилизационные органы и учебные подразделения. В рамках очерченного круга задач на офицеров штаба каждого ВМР возлагалась обязанность сбора информации об обстановке в прибрежных районах36.
По мере роста корабельного состава японские ВМС постепенно превращались из прибрежных в морские, что нашло отражение в развернувшейся в 1885 г. пропагандистской компании под лозунгом «Япония – морская держава!», которая продвигала в массы идею строительства мощного военного и гражданского флота ради усиления японского присутствия в западной части Тихого океана37. Поэтому 12 октября 1882 г. подчинявшиеся командующему Восточным ВМР 3 броненосца, 2 корвета, 2 шлюпа и 4 канонерские лодки были сведены в эскадру, которая под командованием контр-адмирала Нирэ Кагэнори отправилась к берегам Кореи для локализации последствий бунта сеульского гарнизона. Через два года эскадра была преобразована во Флотилию постоянной готовности, а все имевшиеся на тот момент боевые корабли в соответствии с принятым 26 апреля 1886 г. «Уставом ВМФ» распределены между Флотилией и Восточным районом. При этом, если ВМР решал военно-административные задачи и отвечал за оборону территориальных вод, то на командование флотов, флотилий и эскадр возлагалось проведение наступательно-оборонительных операций на ближних и дальних морских театрах38.
29 июля 1889 г. Флотилия постоянной готовности была преобразована во Флот постоянной готовности. В связи с обострением японо-китайских отношений 13 июля 1894 г. часть сил Флота была выделена в самостоятельный Охранный (с 19 июля – Западный) флот, однако с началом войны оба флота были сведены в Объединённый флот под командованием вице-адмирала Ито Сукэюки39.
Параллельно с усилением боевого состава флота Японии, усложнением его организации, повышением уровня подготовки личного состава в последней четверти XIX – начале XX в. шло непрерывное совершенствование центральных органов управления ВМФ, важное место среди которых занимала разведка.
Несмотря на образование 5 апреля 1872 г. на базе бывшего министерства военных дел независимых военного и военно-морского министерств, флот, в отличие от армии, не стал создавать свой орган оперативного управления – Морской Генеральный штаб, – а распределил задачи военного планирования, разведки, мобилизации и боевой подготовки среди 5 министерских бюро. Однако такая организация командования показала свою низкую эффективность, поэтому приказом по военно-морскому министерству от 8 февраля 1884 г. на базе его Бюро военно-морских дел было образовано Военное управление с функциями Морского Генерального штаба40. Хотя эта модель организации командования соответствовала принятому в японском флоте британскому образцу41, императорским указом от 18 марта 1886 г. Военное управление было выведено из состава военно-морского министерства и на правах Управления флота подчинено начальнику Генерального штаба армии.
Существование Управления (с мая 1888 г. Генерального штаба) флота внутри центрального органа военного управления армии явно не отвечало потребностям быстро растущих в 1880-х гг. военно-морских сил Японии, поэтому указом императора от 7 марта 1889 г. объединённый Генштаб был разделён на Генеральный штаб армии и Морское штабное управление, вновь подчинённое военно-морскому министру. Окончательное обособление Морского Генштаба произошло только 19 мая 1893 г., когда в рамках подготовки флота к войне против Китая император подписал указ о его выделении из состава военно-морского министерства и непосредственном подчинении начальника МГШ себе42. Начальник Генштаба армии сохранил руководство над всеми операциями сухопутных войск и флота во время войны в Императорской верховной ставке43.
Как самостоятельное подразделение центральных органов военного управления Японии флотская разведка появилась 14 апреля 1872 г. в виде бюро переводов военно-морского министерства. Месяц спустя бюро было упразднено и разведка на правах документационной группы вошла в состав Секретариата министерства. 19 мая 1874 г. группа была развёрнута в самостоятельный министерский отдел переводов, который только частично решал разведывательные задачи, поскольку занимался обработкой поступавшей к нему информации, но не был наделён правом отправки за рубеж резидентов.
8 февраля 1884 г. флотская разведка перешла в ведение 5-го отдела Военного управления военно-морского министерства, отвечавшего за «сбор документов и материалов по военной истории внутри страны и за рубежом, сведений о вооружённых силах иностранных государств, а также перевод, составление, размножение и хранение документов, имеющих практическое значение для флота»44. В декабре того же года отдел сменил номер на 4-й, а полтора года спустя стал 3-м бюро Управления флота Генерального штаба армии. На этом реорганизация флотской разведки не закончилась: в мае 1888 г. на правах 1-го бюро она вошла в Генштаб флота, а в марте 1889 г. стала 3-м отделом Морского штабного управления. Следующим этапом стало образование в мае 1893 г. 2-го бюро Морского Генштаба, отвечавшего не только за сбор информации, но также за инспекцию боевой подготовки. 26 марта 1896 г. бюро выделилось в самостоятельный разведывательный отдел с функциями «ведения агентурной разведки, перевода и издания иностранной военной литературы». В ноябре 1897 г. отдел был переименован в 3-е бюро45.
Несмотря на частую смену вывесок, штаты центрального аппарата военно-морской разведки на всём протяжении её существования оставались небольшими. Так, в соответствии с «Положением о Морском штабном управлении» от 7 марта 1889 г., в 3-м (разведывательном) отделе проходили службу 5 офицеров, в том числе 1 капитан 1-го ранга (начальник отдела), 1 капитан 3-го ранга и 3 капитан-лейтенанта. После организации 19 мая 1893 г. самостоятельного Морского Генерального штаба штаты его 2-го бюро увеличились на 1 офицера, ответственного за обработку военно-технической информации, 18 инженер-капитан-лейтенантов и инженер-капитанов 3-го ранга, а также 6 военно-морских редакторов и младших редакторов, находившихся за границей. Кроме того, по императорскому указу от 18 октября 1890 г. к Морскому штабному управлению были прикомандированы 13 офицеров из числа находившихся за границей резидентов. После образования в марте 1896 г. разведывательного отдела МГШ его численность уменьшилась до 5 офицеров центрального аппарата, 6 прикомандированных офицеров, 6 гражданских специалистов, и только в следующем году вновь образованное 3-е (разведывательное) бюро МГШ стало насчитывать 8 штатных, 10 прикомандированных офицеров и 10 гражданских специалистов46. Для взаимодействия с военной разведкой указом императора от 3 октября 1893 г. ко 2-му бюро МГШ был прикомандирован 1 офицер Генштаба47.
Штаты центрального аппарата военно-морской разведки Японии в 1889–1904 гг.48
Все поступавшие в РУ МГШ сведения заносились на картонные карточки, соответствовавшие по цвету определённой стране, которые расставлялись в хронологическом порядке в каталожных ящиках. Сотрудники центрального аппарата флотской разведки вели и регулярно обновляли списки боевых, вспомогательных и транспортных судов с разбивкой по странам и классам, к которым прилагались фотографии кораблей, информация о времени и месте их постройки, тактико-технических характеристиках. Кроме того, в 3-м бюро хранились картотека адмиралов и старших морских офицеров ВМФ крупнейших стран мира, подборки карт главных портов с обозначенными на них портовыми сооружениями, батареями, смотровыми вышками, маяками, библиотека со словарями и справочной литературой по военно-морской тематике.
Ежедневно поступавшие в 3-е бюро доклады военно-морских атташе, резидентов МГШ, командований флотов, военно-морских районов, военной разведки, дипломатических миссий и обзоры иностранной печати тщательно сопоставлялись, сверялись с уже имевшейся информацией и в виде разведывательных сводок МГШ доводились до военно-политического руководства страны, нижестоящих штабов, разведывательных органов ГШ и МИД. Одним из главных потребителей продукции флотской разведки было 1-е бюро (впоследствии отделение) Морского Генштаба, отвечавшее за оперативное планирование и боевую подготовку49.
Порядок сбора и обработки разведывательной информации, перечень интересовавших разведку вопросов регламентировались специальными инструкциями начальника МГШ. Основополагающим документом стали введённые приказом от 11 ноября 1896 г. «Указания по агентурной разведке», согласно которым все офицеры флота были обязаны вести сбор информации и направлять её в адрес начальника МГШ или разведывательного отдела в ходе любых заграничных командировок или при обнаружении иностранных боевых кораблей. Командному составу для решения этих задач разрешалось привлекать подчинённых офицеров и гражданских специалистов. «Указания» устанавливали 13 типовых форм разведывательных докладов – «Вопросник по иностранным боевым кораблям» (2 типов), «Вопросник по военно-морским базам и портам» (2 типов), «Вопросник по военно-политической обстановке и социально-экономическому развитию иностранных государств», «Вопросник по иностранным боевым кораблям, стоящим на рейде за рубежом», «Вопросник по иностранным транспортным судам», «Вопросник по организации береговой обороны входов в гавани иностранных портов (баз) и проливов», «Вопросник по организации обороны иностранных портов (баз) с тыла», «Вопросник по минным постановкам на рейдах иностранных портов, в устьях рек и проливах», «Вопросник по иностранной судостроительной и механической промышленности», «Вопросник по иностранным военным и военно-морским арсеналам», «Вопросник по производству порохов за рубежом»50.
Дальнейшим развитием «Указаний по агентурной разведке» явились введённые в действие с 1 марта 1900 г. «Правила организации агентурной разведки на флоте». В дополнение к положениям «Указаний» на всех боевых кораблях появилась должность ответственного за агентурную разведку офицера (по совместительству), который подчинялся непосредственно командиру и чьи доклады направлялись на имя военно-морского министра. При необходимости командир корабля мог привлекать к решению разведывательных задач других подчинённых ему офицеров и гражданских специалистов. Во время стоянки на рейде в иностранном порту 2 или более боевых кораблей японского флота обязанности по организации судовой разведки возлагались на старшего по званию командира, который координировал разведывательную деятельность всех выделенных для этого лиц из членов экипажей. Непосредственный контроль за организацией судовой разведки осуществлял начальник 3-го бюро МГШ. Представленные офицерами судовой разведки и руководителями зарубежных разведаппаратов доклады в соответствии с утверждённым в 1896 г. формами обрабатывались в 3-м бюро и, как уже отмечалось, в виде отпечатанных в типографии Морского Генштаба итоговых сводок рассылались в адрес командований флотов, военно-морских районов, боевых кораблей и других органов военного управления51.
Основой зарубежного разведаппарата японского флота стали развёрнутые в 1880–1890 гг. в странах Европы, Америки и Дальнего Востока военно-морские атташаты при посольствах и миссиях. Первоначально атташе подчинялись военно-морскому министру, однако императорским указом от 18 октября 1890 г. они перешли в ведение начальника Морского Генштаба, что ускорило процесс обработки и оценки поступавшей от них развединформации52.
Первым в ноябре 1880 г. был образован военно-морской атташат при японской дипломатической миссии в Санкт-Петербурге во главе с лейтенантом Такада Масахиса. По до сих пор невыясненным причинам три года спустя он прекратил свою деятельность. Работа военно-морского атташе в России возобновилась в 1886 г. и продолжалась без перерыва вплоть до 10 февраля 1904 г. Как правило, на должность атташе в Санкт-Петербург назначались офицеры флота с опытом организации и ведения разведки в нашей стране. Параллельно с ними сбором информации о российском флоте занимались военно-морские атташаты при японских дипломатических миссиях в Великобритании (1880), Германии (1890), Китае (1887), Корее (1887), США (1884) и Франции (1888).
Несмотря на то что ВМАТ подчинялись начальнику МГШ, их деятельность регулировалась специальными директивами военно-морского министра, которые систематически рассылались зарубежным разведаппаратам. Это были типовые документы, разъяснявшие характер стоявших перед ними задач, принципы взаимодействия с МИД, порядок оформления командировок и финансовых отчётов. Так, в директивах военно-морским атташе при дипломатической миссии в России за 1898–1901 гг. министр Ямамото Гомбээ требовал сосредоточить усилия на сборе и обработке информации об организации и боевой подготовке ВМФ страны пребывания, а также на закупке справочной литературы и картографических материалов флотской тематики. Директива предписывала атташе согласовывать все вопросы организации агентурной разведки с начальником МГШ, вести через него переписку с различными подразделениями военно-морского министерства, но в то же время неукоснительно соблюдать служебный регламент дипмиссии и беспрекословно исполнять указания её главы. Аналогичные инструкции были направлены ВМАТ в Великобритании, Франции, Германии, Италии, США, Корее, Китае53.
Вторую категорию офицеров разведки составляли специально командируемые за рубеж военно-морским министерством и Морским Генштабом стажёры, а также легальные и нелегальные резиденты, которые оседали в стране пребывания в качестве сотрудников японских дипломатических миссий или коммерсантов, путешественников, языковых и флотских стажёров.
Их деятельность регулировали утверждённые военно-морским министром в апреле 1900 г. «Правила для зарубежных резидентов ВМФ», согласно которым зарубежным резидентом являлось лицо, направляемое за границу для обучения или сбора разведывательной информации по военным вопросам. Он подчинялся главному секретарю военно-морского министра по общим вопросам, ежегодно в январе и июле предоставлял детальный отчёт об исполнении служебных обязанностей и планируемых действиях, а по возвращении составлял подробную справку о результатах учёбы или разведки54.
Основной поток офицеров японского флота, выезжавших в шестидесятых – восьмидесятых годах XIX в. на зарубежные стажировки, приходился на Великобританию, США и Германию. Не располагая собственной учебной и судостроительной базой, командование ВМФ Японии направляло туда наиболее перспективных офицеров, стремясь подготовить из них специалистов по штурманской службе, гидрографии, минно-торпедному, артиллерийскому вооружению, энергетическим установкам, строительству и ремонту боевых кораблей. Хотя задачи по разведке перед отъезжавшими за рубеж не ставились, фактически они с легальных позиций изучали организацию, стратегию и тактику иностранных флотов, новейшие достижения в области вооружения и кораблестроения потенциальных противников.
В Великобритании в этот период обучались будущие адмиралы Того Хэйхатиро, Идзюин Горо, Арисугава-но мия Такэхитосинно, Хигасифуми-но мия Ёрихитосинно, вице-адмиралы Куроока Татэваки, Мацумура Дзюндзо; в США – адмиралы Уриу Сотокити, Сибаяма Яхати, вице-адмиралы Иноуэ Ёситомо, Нирэ Кагэнори, Цубои Кодзо и другие; в Германии – адмирал Ямамото Гомбээ и вице-адмирал Акамацу Нориёси. Главнокомандующий Объединённым флотом (1903–1905) Того Хэйхатиро выехал в Англию в 1871 г. и за 7 лет пребывания там прошёл стажировку на учебно-боевых кораблях британского флота, окончил Королевский военно-морской колледж в Гринвиче, принял участие в постройке броненосного фрегата «Фусо». Его подчинённый во время Цусимского сражения командир 4-й эскадры 2-го флота Уриу Сотокити с 1875 г. стажировался в Америке и вместе с будущим контрадмиралом Сэрата Тасуку закончил в 1881 г. Военно-морскую академию в Аннаполисе. Всего же, по подсчётам А.В. Полутова, в 1884–1893 гг. стажировку в Англии, Франции, Германии, России и США прошли 26 офицеров японского флота, в ходе которой они совместно с военно-морскими атташе изучали корабли и суда, крепости и арсеналы, судостроительные и судоремонтные заводы, знакомились со штабной, навигационной и технической документацией ВМФ страны пребывания55.
Отправка за рубеж резидентов флотской разведки для работы с легальных (дипмиссии, торговые компании) или нелегальных позиций началась задолго до организационного оформления РУ МГШ и была вызвана потребностями командования ВМФ в получении достоверной информации о военном потенциале ближайших соседей для оценки степени исходящих угроз и выработки программы строительства национального флота.
Несмотря на сложные отношения с Россией, являвшейся наиболее вероятным противником империи, основной поток офицеров флотской разведки с семидесятых годов XIX в. шёл в Китай. Уже в феврале 1874 г. в Цинскую империю и на Тайвань выехали первые группы флотских разведчиков во главе с младшим лейтенантом Михара Цунэтомо (3 человека) и капитан-лейтенантом Ёсида Сэйкан (2 человека)56. В сентябре того же года в Шанхай отправился лейтенант Сонэ Тоситора, который стал первым в истории японского флота кадровым разведчиком. Хотя в декабре 1875 г. он вернулся в Японию, через три месяца Сонэ снова выехал в двухгодичную командировку в Китай, затем был зачислен в состав экипажа шлюпа «Ниссин», служил в военно-морском министерстве, а в 1880, 1882–1883 и 1883–1886 гг. ещё четырежды выезжал в командировки в Китай, после чего с марта 1886 по февраль 1888 г. исполнял обязанности начальника редакционно-издательского отдела Управления флота Генштаба – параллельного с флотской разведкой подразделения, отвечавшего за «сбор, перевод и систематизацию документов и материалов о Вооружённых силах иностранных государств и по военной истории внутри и за рубежом»57.
В дальнейшем в Китае побывал целый ряд других офицеров флотской разведки: капитан-лейтенант Мороока Ёриюки (1885), капитан 2-го ранга Куроока Татэваки (1885, 1887), группа капитан-лейтенанта Нииро Токисукэ (1886–1887), капитан-лейтенант Мацумото Аринобу (1887, 1890), группа капитан-лейтенанта Имаи Канэмаса (1888), капитан-лейтенанты Ясухара Киндзи (1888–1889), Сэки Бумпэй (1890), Такигава Томокадзу (1892–1894), капитан 1-го ранга Симадзаки Ёситада и капитан-лейтенант Курои Тэйдзиро (1894)58. Фактически в 1874–1895 гг. в Китае непрерывно функционировал разведаппарат, который снабжал командование японского флота достоверной информацией о противнике, а по завершении кампании 1894–1895 гг. переключился на работу против русской Тихоокеанской эскадры (ТОЭ) и ВМФ других великих держав.
Столь пристальное внимание японской военно-морской разведки к Китаю объяснялось наличием многолетних разногласий между двумя странами из-за Кореи, которую Япония рассматривала в качестве сферы своих интересов, хотя Сеул находился в вассальной зависимости от Цинской империи. После подписания в феврале 1876 г. корейско-японского договора о мире Токио получил права на свободную торговлю с этой страной, приобретение там земельных участков и открытие порта Фудзан (Пусан) (в 1880 и 1882 гг. – портов Гэндзан (Вонсан) и Инчхон (Чемульпо)). Со своей стороны Китай вынудил корейское правительство заключить в сентябре 1882 г. неравноправный торговый договор, а после подавления прояпонского переворота партии реформаторов во главе с Ким Оккюном в декабре 1884 г. разместил в Сеуле трёхтысячный гарнизон. Япония в ответ отправила на полуостров свой контингент под предлогом защиты проживавших там соотечественников, и оба государства во избежание открытого столкновения заключили в мае 1885 г. Тяньцзиньское соглашение о выводе войск из Кореи. Однако японо-китайская война была лишь вопросом времени: когда в июне 1894 г. Цинская империя по просьбе корейского правительства направила на полуостров свои войска для подавления крестьянского восстания, Япония незамедлительно ввела туда армию, организовала 23 июля переворот и четверо суток спустя инициировала обращение нового руководства страны к Токио с просьбой об изгнании китайских частей.
Японо-китайская война стала первой настоящей проверкой жизнеспособности выстраиваемой флотом разведывательной организации. Несмотря на малочисленные штаты 2-го бюро МГШ – 6 офицеров в центральном аппарате вместе с начальником и прикомандированным специалистом по двигателям, 4 резидента за границей и 8 военно-морских атташе на 1 июня 1894 г.59 – результативность работы флотской разведки была высоко оценена составителями совершенно секретной «Истории японо-китайской войны на море»: «С момента возникновения корейского инцидента в июне и до начала боевых действий между Японией и Китаем на острове Тэсима в июле [1894 г.] сотрудники МГШ и военно-морские атташе вели разведку по вскрытию замыслов Кореи, Китая, России, присылая большой объём информации. При этом поступавшие от них агентурные сведения являлись ключевым элементом для разрабатываемых Императорской верховной ставкой оперативных планов»60.
К началу войны Морской Генштаб имел резидентуру в Шанхае в составе разведчика-нелегала капитана 3-го ранга Курои Тэйдзиро и журналиста Мунаката Котаро и резидентуру в Тяньцзине, где с позиций японского консульства работали капитан-лейтенант Такигава Томокадзу и военно-морской атташе капитан 3-го ранга Иноуэ Тосио, причём последний в июне 1894 г. перебрался в Чифу, откуда выводил агентуру в Вэйхайвэй и Люйшунь (Порт-Артур). Кроме того, в помощь военно-морскому атташе в Корее капитану 3-го ранга Нииро Токисукэ в июне 1894 г. в Инчхон был направлен старший офицер 2-го бюро капитан 3-го ранга Ясухара Киндзи. Выстроенная таким образом сеть совместно с органами военной разведки, дипломатическими миссиями и боевыми кораблями Объединённого флота регулярно информировала Ставку об обстановке на театре вплоть до решающего сражения в Жёлтом море 17 сентября 1894 г.61
Иначе обстояли дела с ведением разведки против Российской империи. До 1875 г. разведорганы японского флота не проявляли особого интереса к русским военно-морским силам на Тихом океане, поскольку они были малочисленны, не имели судоремонтной базы и в осенне-зимний период уходили на ремонт и зимовку в порты Японии и Китая. Слабость русского флота на Дальнем Востоке объяснялась приоритетным вниманием руководства России в 1857–1881 гг. к развитию Балтийского флота, который требовалось сравнять по мощи с флотами Великобритании и Франции, а с 1871 г., после отмены ограничительных статей Парижского договора (1856) – и к возрождению сопоставимого с турецким Черноморского флота. Поэтому входившие в строй с 1861 г. броненосцы, бронепалубные крейсеры и канонерские лодки поступали на вооружение флотов Балтики и Чёрного моря, в то время как на Дальнем Востоке костяк Охотской (позднее Камчатской, а ещё позже Сибирской) флотилии составляли деревянные парусные суда пришедшего в 1854 г. из Кронштадта отряда боевых кораблей вице-адмирала Е.В. Путятина.
Так же как и на западном театре, на восточном главным противником для Охотской флотилии выступали флоты Великобритании и Франции. Поскольку учреждённый в 1731 г. порт Охотск был неудобен для организации морской обороны, в 1850 г. пункт базирования вновь образованной Камчатской флотилии был перенесён в Петропавловск. Хотя в августе 1854 г. гарнизон порта успешно отразил нападение англофранцузской эскадры, командование флотилии посчитало, что более мощного штурма Петропавловск не выдержит, и в начале следующего года с согласия Санкт-Петербурга перенесло главную базу в Николаевск-на-Амуре. Камчатская флотилия стала Сибирской, а её состав в 1858–1860 гг. пополнился кораблями Балтийского флота, что позволило в 1860 г. образовать на Тихом океане эскадру под командованием капитана 1-го ранга И.Ф. Лихачёва из 1 фрегата, 3 корветов и 2 клиперов для содействия русскому посланнику в Китае генерал-майору Н.П. Игнатьеву.
Однако возможности Николаевска не отвечали требованиям постоянного базирования кораблей из-за отсутствия глубоководных подходов, длительного срока ледостава и удалённости от южных границ Дальнего Востока, поэтому в 1860 г. был основан военный пост и порт Владивосток. Хотя в 1865–1869 гг. там были организованы работы по созданию судоремонтной базы, окончательный перенос пункта базирования Сибирской флотилии и Тихоокеанской эскадры из Николаевска-на-Амуре во Владивосток произошёл только в 1872 г.62 При этом флотилия и эскадра оперативно подчинялись Санкт-Петербургу и решали разные задачи: первая, постоянно базировавшаяся на Дальнем Востоке, занималась транспортными и воинскими перевозками, организацией обороны прибрежных вод и устья р. Амур; вторая, комплектовавшаяся на ротационной основе кораблями Балтийского флота, обеспечивала военно-морское присутствие России в зоне Тихого океана и отвечала за ведение крейсерской войны на дальних коммуникациях потенциальных противников, прежде всего Великобритании.
На состоявшемся в 1881 г. специальном совещании при морском министерстве по вопросу дальнейшего развития флота под председательством великого князя Алексея Александровича с участием военного министра и министра иностранных дел для Дальневосточного театра была определена задача обороны важнейших пунктов побережья береговой артиллерией и постановкой минных заграждений. Для этого предполагалось постоянно иметь небольшую Сибирскую флотилию, а в случае возникновения войны с Японией или Китаем отправить в воды Тихого океана эскадру из состава Балтийского и Черноморского флотов. К 1900 г. планировалось построить для нужд Сибирской флотилии 6 миноносцев в дополнение к доставленным годом ранее во Владивосток 6 миноноскам и перебросить на Дальневосточный театр 6 канонерских лодок к уже имевшимся там 4.
В целом основное внимание руководства Российской империи оставалось прикованным к возрождению Черноморского флота и доведению Балтийского флота «до первенствующего значения сравнительно с флотами других держав, омываемых тем же морем»63. Таким образом, Дальневосточный морской театр вплоть до 1895 г. оставался пасынком царского правительства.
Первым резидентом флотской разведки во Владивостоке стал 24-летний лейтенант Куроока Татэваки. Несмотря на молодость, он был достаточно опытным в вопросах разведки офицером, поскольку по окончании в 1870 г. Военно-морской академии четыре года стажировался в Великобритании и Франции64. Куроока получил назначение во Владивосток 9 сентября 1875 г. и в качестве практиканта был зачислен в экипаж клипера «Абрек» Сибирской военной флотилии, в составе которого совершил несколько переходов в Шанхай и в окрестности Владивостока. Затем Куроока некоторое время оставался во Владивостоке в качестве частного лица, однако 27 мая 1876 г. был прикомандирован к экипажу броненосного корвета «Рюдзё», направленному в Приморье по соглашению с русскими властями для осмотра Владивостока и залива Посьета65. По возвращении в Японию в августе 1876 г. Куроока служил на различных боевых кораблях, возглавлял военно-морскую разведку (1884–1888) и в июле 1887 г. вновь побывал во Владивостоке в рамках служебной командировки «для выполнения задач по разведке в Китае, Корее и российском Приморье»66.
Следующими резидентами флота стали направленные во Владивосток в апреле 1889 г. капитан-лейтенанты Сакамото Хатирота и Номото Цунаакира. Их появление там только через 13 лет после Куроока можно объяснить тем, что состав Сибирской флотилии до 1887 г. был постоянным, а все корабли Тихоокеанской эскадры изучены японской разведкой во время их тимберовки в осенне-весенний период в Нагасаки, Йокогама, Хакодатэ или Шанхае. Лишь в 1886–1889 гг. на Дальний Восток прибыли новые вымпелы – минный транспорт «Алеут», миноносцы «Янчихе», «Сучена», канонерские лодки «Сивуч», «Бобр» и «Кореец», представлявшие интерес для разведки флота Японии. Кроме того, в 1883–1887 гг. во владивостокском порту были введены в эксплуатацию небольшой плавучий док и механическое (судоремонтное) заведение.
В течение 1889 г. Сакамото и Номото находились во Владивостоке как частные лица и совершенствовали знание русского языка, пока между российскими и японскими властями велись переговоры о прохождении ими стажировки на кораблях Тихоокеанской эскадры. При этом оба офицера в полной мере опирались на помощь учреждённого в 1876 г. во Владивостоке коммерческого агентства, которое не только исполняло обязанности дипломатической миссии, но фактически выступало организатором разведдеятельности МИД, МГШ и ГШ в Приморье. С марта по октябрь 1890 г. Сакамото стажировался на броненосном крейсере «Адмирал Нахимов», временно входившем в Тихоокеанскую эскадру по ротации с Балтийского флота, а Номото присоединился к экипажу клипера «Крейсер», также на время откомандированного из Кронштадта, завершив стажировку в сентябре 1891 г.67
Для замены убывших резидентов в июле 1890 г. во Владивосток был направлен капитан-лейтенант Ясиро Рокуро с документами прикрытия на вымышленное имя. Летом следующего года Япония попыталась добиться согласия российских властей на прохождение им стажировки на крейсере «Адмирал Нахимов» вместо ранее переведённого туда с клипера «Крейсер» Номото, однако получила отказ. В ноябре 1892 г. Ясиро вернулся в Японию, после чего ещё несколько раз вёл разведку с легальных позиций как военно-морской атташе в России (1895–1898) и Германии (1905–1908), а в 1914–1915 гг. возглавлял военно-морское министерство страны68.
Не имея возможности направлять офицеров разведки во Владивосток на постоянной основе в связи с кадровым голодом, в мае 1892 г. военно-морское министерство инициировало принятие специального постановления правительства о передаче напрямую докладов коммерческого агентства Морскому штабному управлению по интересующим его вопросам, и, как минимум, с апреля 1895 г. коммерческие агенты Футахаси Кэн, Номура Мотонобу и Каваками Тосицунэ информировали начальника МГШ о прибытии и убытии боевых кораблей, реорганизации Тихоокеанской эскадры, назначениях по гарнизону крепости и реконструкции порта69. Сотрудники флотской разведки выезжали во Владивосток только в период обострения военно-политической обстановки на Дальневосточном театре, как это было накануне японо-китайской и Русско-японской войн.
В европейской части нашей страны сбором информации о ВМФ Российской империи в целом, его Черноморском, Балтийском флотах, развитии судостроения и военно-морском искусстве с 1880 г. занимался военно-морской атташат при японской дипломатической миссии в Санкт-Петербурге. Как уже отмечалось, на должность атташе назначались, как правило, молодые офицеры с опытом разведывательной деятельности и знанием русского или одного из европейских языков. Практика отправки ВМАТ в Россию возобновилась после трёхлетнего перерыва весной 1886 г., когда в Кронштадт прибыл лейтенант Ядзима Исао (1888–1891), до этого работавший в Корее70. В последующие годы разведаппарат возглавляли владивостокские резиденты капитан-лейтенанты Сакамото Хатирота (1891–1893), Номото Цунаакира (1893–1895, 1898–1901), капитан 2-го ранга Ясиро Рокуро (1895–1898) и не имевший разведывательного опыта капитан 1-го ранга Сакаи Тадатоси (1901–1904)71.
Хотя о наличии у них агентурных источников информации ничего не известно, атташе могли по согласованию с царским правительством совершать ознакомительные поездки по военно-морским базам и важнейшим русским портам72. Правда, в ноябре 1899 г. Номото пожаловался Ямамото Гомбээ, что если раньше царское правительство позволяло осматривать базы, порты и заводы, то теперь разрешение аннулировано в ответ на отказ допускать русского военно-морского агента на объекты японского флота. В беседе с русским посланником в Токио Р.Р. Розеном Ямамото выяснил, что Санкт-Петербург расценил данный отказ как признак проводимых Японией мероприятий по подготовке флота к нападению на Россию. Японский министр возразил, что запрет на посещения касался только учений императорского флота и это была общепринятая практика в отношении всех без исключения иностранных атташе. После таких разъяснений Санкт-Петербург возобновил взаимные посещения военно-морских объектов и 14 декабря 1899 г. начальник Главного морского штаба вице-адмирал Ф.К. Авелан и 9 русских офицеров были награждены японскими орденами за то, что «не только брали на себя труд оказывать всяческое содействие нашему военно-морскому атташе капитану 2-го ранга Номото Цунаакира, что приносило огромную пользу, но и занимались организацией посещений прибывшими в Россию нашими офицерами флота оружейных, судостроительных, прочих заводов и военно-морских баз в случае поступления просьбы об этом с их стороны, участливо сопровождая их в ходе осмотров»73.
Разведывательные органы МГШ задействовали в полном объёме возможности по сбору данных о русском флоте накануне войны с Китаем в 1894 г., что обусловливалось, во-первых, усилением Сибирской флотилии в 1892–1894 гг. миноносцами «Сунгари» и «Уссури», а во-вторых, стремлением иметь достоверные сведения о намерениях и действиях Тихоокеанской эскадры для их учёта при составлении Ставкой оперативных планов кампании74. Во Владивосток в июне 1894 г. с паспортами на вымышленные имена выехали сотрудник 2-го бюро капитан-лейтенант Нисияма Санэтика и редактор этого же бюро Аихара Ситиро, в совершенстве владевший русским языком75.
Уже в первом донесении от 25 июня 1894 г. Нисияма проинформировал МГШ об отсутствии признаков подготовки войск Приамурского военного округа и боевых кораблей Тихоокеанской эскадры к переброске на Корейский полуостров. Вероятно, для Токио вопрос о возможности военного вмешательства России в корейские события представлял значительный интерес, поскольку и во втором донесении от 11 июля Нисияма доложил, что «прилагает все усилия для сбора информации о ситуации с отправкой войск из Владивостока», и сообщил о передислокации в район государственной границы 2 стрелковых батальонов и 1 артиллерийской батареи из Новокиевского (Краскино), а также о составе находившегося на стоянке во Владивостоке отряда боевых кораблей, который, как отмечал резидент, пока не планировалось отправлять к побережью Кореи76.
В последующих донесениях за сентябрь 1894 г.– апрель 1895 г. Нисияма информировал МГШ о составе, мероприятиях учебно-боевой подготовки, выходах в море Тихоокеанской эскадры, перебросках в Приамурский край пополнения из европейской части России, дислокации и вооружении частей сухопутных войск в Южно-Уссурийском крае77.
Несмотря на успешное завершение войны 17 апреля 1895 г., РУ МГШ не стало ликвидировать свою резидентуру во Владивостоке, поскольку через неделю после подписания Токио и Пекином Симоносэкского мирного договора Россия, Германия и Франция потребовали от Японии отказаться от аннексии Ляодунского (Квантунского) полуострова, а для демонстрации серьёзности намерений Санкт-Петербург объявил мобилизацию войск Приамурского военного округа. 2 мая владивостокская резидентура докладывала по этому поводу в МГШ: «Введение во Владивостоке осадного положения и подготовка к отправке войск Приамурского округа проводятся по приказу от 30 апреля. 2 мая начался призыв резервистов первой и второй очереди. Есть признаки того, что несколько дней назад начался поиск шпионов среди японцев, задержанных тщательно допрашивают. На якоре во Владивостоке стоят канонерская лодка „Бобр“, 4 миноносца, 3 парохода Добровольного флота, 4 малых транспортных судна»78. 4 мая кабинет министров Ито Хиробуми под давлением трёх стран принял решение о возвращении Ляодунского полуострова Китаю.
В связи с сохранявшейся военной угрозой Нисияма и Аиха ра находились во Владивостоке до августа 1896 г., регулярно докладывая о мобилизационных мероприятиях командования Приамурского военного округа, перевозках по морю пополнения для него из европейской части России, численности и дислокации линейных, стрелковых батальонов, казачьих сотен и артиллерийских частей во Владивостоке, Никольск-Уссурийском (Уссурийске), Раздольном, Анучино, Барабаше, Атамановском, Новокиевском, Посьете, Камень-Рыболове, Хабаровске, Николаевске-на-Амуре, Благовещенске, корабельном составе, учебно-боевой подготовке и выходах в море Тихоокеанской эскадры. 28 декабря 1895 г. Аихара представил в МГШ итоговый отчёт с подробным описанием корабельного состава Сибирской флотилии, её судоремонтных возможностей, береговой обороны Владивостока, состояния его сухопутного гарнизона, хода строительства Уссурийской железной дороги, деятельности Добровольного флота, социально-экономической обстановки в Южно-Уссурийском крае и отношения местного населения к японским гражданам79. При этом, несмотря на рост напряжённости в российско-японских отношениях после «тройственной интервенции», русская Тихоокеанская эскадра даже в 1895–1897 гг. продолжала зимовать в Нагасаки и Кобэ из-за отсутствия судоремонтных мощностей во Владивостоке и железнодорожного сообщения с европейской частью России.
В марте 1896 г. на смену Нисияма и Аихара прибыл резидент МГШ капитан-лейтенант Ики Содзиро с документами прикрытия на имя стажёра русского языка пароходства «Нихон юсэн кайся» «Адзума (Хигаси) Кэндзи». В июне – сентябре 1896 г. он временно находился на лечении в Японии, после чего до ноября вновь работал с нелегальных позиций во Владивостоке, однако в связи с резким ухудшением здоровья был вынужден вернуться в метрополию, и деятельность флотской резидентуры в Приморье до 1903 г. прекратилась80.
Реакцией военно-морских кругов Японии на рост напряжённости во взаимоотношениях с Россией после японо-китайской войны стало принятие программы радикального усиления флота. Ещё в мае 1895 г. начальник Бюро военно-морских дел Ямамото Гомбээ по инициативе министра Сайго Цугумити подготовил докладную записку о строительстве флота в ближайшее десятилетие, которая спустя два месяца была представлена на рассмотрение правительству.
Ямамото считал, что главную угрозу Японии представляли организаторы «тройственной интервенции» Россия, Франция и Германия: «В ходе [японо-китайской] войны ряд стран заявил о сохранении нейтралитета, однако можно было видеть, что в отношении Японии они нередко занимали недружественную позицию, в то время как для Китая их действия носили дружелюбный характер. И, узрев, что венок победителя достаётся Японии и мы намерены твёрдо ступить на землю Азиатского континента, Россия, Германия и Франция внезапно выпустили свои коготки, потребовали от нас отказаться от по праву принадлежащей победы под красивым предлогом вечного мира на Дальнем Востоке, после чего решительно провели интервенцию».
Поэтому неотложной задачей империи Ямамото считал создание таких ВМС, которые могли бы противостоять флоту одного крупного государства, или его коалиции с флотами 1–2 более слабых государств, предназначенных для отправки на Дальний Восток. В идеале, с точки зрения опыта японо-китайской войны, главные силы ВМФ должны были состоять из броненосной эскадры (6 эскадренных броненосцев) и подчинённой ей эскадры броненосных крейсеров 1-го класса (6 единиц) с приданными вспомогательными силами в виде лёгких крейсеров и кораблей рангом ниже.
Для этого Ямамото предлагал усилить флот ещё 4 эскадренными броненосцами водоизмещением 15 000 тонн в дополнение к уже строившимся 12-тысячным «Фудзи» и «Ясима», 6 (в идеале 12) броненосными крейсерами 1-го класса водоизмещением 9000—10 000 тонн, бронепалубными крейсерами 2-го и 3-го класов, авизо, минно-торпедными канонерскими лодками, плавучими базами миноносцев, судоремонтными судами, эсминцами и миноносцами, расширить инфраструктуру ВМР Йокосука, Курэ, Сасэбо, закончить создание ВМР Майдзуру, укрепить учебную базу Военно-морского штабного колледжа, реформировать Военно-морскую академию и специальные школы81.
В июле 1895 г. военно-морской министр озвучил скорректированные им предложения Ямамото на заседании правительства: построить 4 эскадренных броненосца, 4 броненосных крейсера 1-го класса, 7 бронепалубных крейсеров 2-го и 3-го классов, 5 минно-торпедных канонерских лодок, 1 плавбазу миноносцев, 2 авизо, 11 эсминцев и 64 миноносца. Программа была рассчитана до 1905 г. и делилась на два этапа: 1896–1902 гг. (первый этап) и 1902–1905 гг. (второй этап). Хотя в декабре 9-я сессия парламента одобрила бюджетные расходы на строительство флота с некоторыми поправками по числу спланированных кораблей (5 бронепалубных крейсеров вместо 7, 3 минно-торпедные канлодки вместо 5, 12 эсминцев вместо 11, 63 миноносца вместо 64), в мае 1896 г. Сайго Цугумити обратился к правительству с просьбой выделить средства на закладку ещё 2 броненосных крейсеров 1-го класса в связи с «обстановкой на Дальнем Востоке». Вероятно, под этим подразумевалось произошедшее в 1895 г. наращивание сил Тихоокеанской эскадры. Дополнительные расходы были одобрены на 10-й сессии парламента в декабре82. Впоследствии эта программа несколько раз уточнялась: в январе 1900 г. вместо плавбазы миноносцев было решено построить 8 эсминцев, в феврале 1901 г. количество строившихся минно-торпедных канонерок было сокращено с 3 до 1, а высвободившиеся средства направлены на закладку бронепалубного крейсера 3-го класса «Отова» и канлодки, с малой осадкой, в октябре 1902 г. нашлись средства на постройку ещё 1 такой же канлодки, и, наконец, в декабре 1903 г. Ямамото добился перераспределения средств на строительство 3 эсминцев вместо 6 судов обеспечения83.
В итоге судостроительная программа Японии предусматривала двухэтапный ввод в строй в 1896–1905 гг. 584 кораблей различных классов водоизмещением 159 525 тонн, включая 4 эскадренных броненосца («Сикисима», «Асахи», «Хацусэ», «Микаса»), 6 броненосных крейсеров 1-го класса («Асама», «Якумо», «Адзума», «Токива», «Идзумо», «Иватэ»), 6 бронепалубных крейсеров 2-го и 3-го классов («Титосэ», «Такасаго», «Касаги», «Ниитака», «Цусима», «Отова»), 23 эсминца, 63 миноносца и 1 авизо («Тихая»)84. Таким образом, Япония должна была получить сбалансированный флот, в котором эскадренные броненосцы играли главную ударную роль и обеспечивали господство на море, а крейсеры решали задачи преследования противника и уничтожения вместе с эсминцами и миноносцами вражеских сил в их же портах85.
Первая реакция Санкт-Петербурга на ход и итоги японо-китайской войны говорила об отсутствии у него опасений относительно возможного столкновения с Токио на Дальнем Востоке. Куда большую тревогу у России вызывало усиление германского флота, поэтому принятая в 1895 г. кораблестроительная программа была ориентирована на укрепление Балтийского флота и предусматривала ввод в строй до 1902 г. 5 эскадренных броненосцев, 4 броненосцев береговой обороны, 7 крейсеров 1-го и 2-го ранга, 5 канонерских лодок, 54 миноносцев, 2 минных заградителей и 4 транспортов, из которых для Сибирской флотилии предусматривались только 2 канонерки и 8 миноносцев. Однако уже в ноябре 1895 г. Особое совещание под председательством великого князя Александра Михайловича, с учётом полученной информации о намерениях Японии значительно укрепить свой флот, пришло к выводу о необходимости иметь на Тихом океане сильную эскадру, а также незамерзающий порт в Жёлтом или Японском морях на территории иностранных государств. До приобретения такого порта совещание рекомендовало часть кораблей, предназначенных для Тихого океана, держать в Средиземном море для их переброски при необходимости на Дальний Восток. Цель спланированных мероприятий заключалась в том, чтобы «к окончанию судостроительной программы Японией наш флот на Дальнем Востоке превышал значительно японский»86.
Это потребовало корректировки судостроительной программы 1895 г. в пользу Тихоокеанской эскадры, и на Особом совещании под председательством управляющего Морским министерством вице-адмирала П.П. Тыртова в январе 1898 г. была выработана рекомендация монарху сосредоточить на Дальнем Востоке к 1903 г. 10 эскадренных броненосцев, 5 броненосных крейсеров, 10 крейсеров-разведчиков, 10 крейсеров 3-го ранга, 3–4 минных транспорта и минных заградителя и 36 эсминцев87. Николай II утвердил данный проект, предусматривавший в дополнение к программе 1895 г. постройку для Дальнего Востока до 1905 г. 5 эскадренных броненосцев, 16 крейсеров, 2 минных заградителей, 36 эсминцев и миноносцев. В окончательном варианте боевой состав флота на Тихом океане должен был вырасти к указанной дате до 10 эскадренных броненосцев, 5 броненосных крейсеров, 12 крейсеров, 2 минных заградителей, 20 эсминцев и 24 миноносцев88.
Однако уже в апреле 1899 г. на совещании под председательством П.П. Тыртова программы 1895 и 1898 гг. были фактически объединены в новую, которая предусматривала постройку к 1905 г. для Дальнего Востока 12 эскадренных броненосцев, 1 броненосца береговой обороны, 20 крейсеров 1-го и 2-го рангов, 1 минного крейсера, 1 мореходной канонерской лодки, 3 минных заградителей, 56 эсминцев и 10 миноносцев89.
Одновременно с корректировкой планов строительства новых кораблей высшее руководство Российской империи усиливало Тихоокеанскую эскадру и Сибирскую флотилию уже имевшимися боевыми единицами из состава других флотов: если к началу японо-китайской войны на Дальнем Востоке базировались 6 крейсеров («Адмирал Нахимов», «Адмирал Корнилов», «Рында», «Разбойник», «Крейсер», «Забияка»), 4 канонерские лодки («Манджур», «Бобр», «Сивуч», «Кореец»), 4 миноносца («Сунгари», «Уссури», «Янчхе», «Сучена») и 3 миноноски (№77, 79, 80), то в 1895 г. из Средиземного моря туда прибыли эскадренный броненосец «Император Николай I», крейсеры «Память Азова», «Владимир Мономах», канонерские лодки «Гремящий», «Отважный», минные крейсеры «Всадник», «Гайдамак», миноносцы «Свеаборг», «Ревель», «Борго», а в 1896 г. взамен ушедшего в Средиземноморье «Разбойника» – крейсеры «Рюрик» и «Дмитрий Донской». К 1902 г. группировка эскадренных броненосцев на Тихом океане была доведена до 5 единиц – «Наварин», «Сисой Великий», «Севастополь», «Петропавловск» и «Полтава»90.
Морской Генеральный штаб Японии, в свою очередь, внимательно отслеживал наращивание российского флота после японо-китайской войны, получая информацию по линии МИД и от военно-морского атташе в Санкт-Петербурге. Уже 19 октября 1895 г. капитан-лейтенант Номото Цунаакира проинформировал начальника МГШ о спланированной отправке на Дальний Восток эскадренных броненосцев «Гангут», «Наварин» и мореходной канонерской лодки «Гремящий», однако добавил, что переход первых 2 кораблей из-за достроечных работ мог начаться не раньше весны будущего года. Кроме того, он отметил значительную активизацию российской внешней политики на Дальнем Востоке и усиление сухопутной группировки войск в Сибири, а также сообщил, что все построенные с 1894 г. боевые корабли будут по мере ввода в эксплуатацию направляться на Дальний Восток91.
16 мая 1896 г. Номото подготовил новый доклад о состоянии русской военно-морской программы, согласно которому Россия после японо-китайской войны включилась в европейскую гонку по наращиванию броненосного флота, целиком направляя усилия на укрепление своей мощи на Тихом океане. При этом проводимые царским правительством мероприятия позволили значительно сократить сроки строительства крупного флота: если раньше, по данным Номото, на постройку 1 броненосца водоизмещением до 10 000 тонн уходило 4–5 лет, то заложенный в мае 1895 г. 11-тысячетонный броненосный крейсер «Россия» планировалось сдать уже осенью 1896 г. «В судостроении и в производстве вооружения Россия достигла большого прогресса», – констатировал резидент.
Атташе отмечал, что ранее Санкт-Петербург направил в Средиземное море ударную эскадру, самые современные и боеспособные корабли которой позднее ушли на Дальний Восток. Чтобы обезопасить себя на европейском театре, Санкт-Петербург обеспечил прикрытие балтийских баз броненосцами береговой обороны и минными постановками, а перед Черноморским флотом поставил задачу в случае войны запечатать Босфорский пролив и действовать на юге.
Хотя малочисленность транспортного флота, отсутствие судоремонтных и судостроительных мощностей на Дальнем Востоке оставались наиболее уязвимыми местами русской Тихоокеанской эскадры, Номото докладывал, что в результате проводимых царским правительством мероприятий планировалось в середине 1897 г. открыть верфь во Владивостоке, а в середине 1900 г. сдать в эксплуатацию Сибирскую железную дорогу (кроме участка Иркутск – Хабаровск). «Если Япония желает сохранить гегемонию на Дальнем Востоке, сегодня она должна, невзирая на трудности, взяться за увеличение флота»,– подытоживал доклад японский военно-морской атташе92.
Следует отметить, что резидентура МГШ в Санкт-Петербурге испытывала значительные сложности в получении достоверной информации о состоянии и планах развития царского флота. В цитируемом выше докладе Номото подчёркивал, что «сроки строительства и количество спланированных к постройке 100-тысячетонных боевых кораблей гласности не предавались» и «нет никаких способов выяснить подробности этих планов», поэтому резиденту приходилось опираться на обрывки разговоров российских чиновников93.
Схожие проблемы испытывали зарубежные разведаппараты МГШ в странах Европы, что не могло не сказаться на точности сообщаемых ими сведений.
Например, 24 апреля 1896 г. военно-морской атташе во Франции капитан 1-го ранга Уриу Сотокити представил командованию подробный доклад «Нынешнее состояние программ военного судостроения в странах Европы и Америки», в котором отметил, что «сегодня нет методов узнать реальное состояние планов русского флота». Поэтому почерпнутая им в основном из английских газет информация была точна лишь отчасти.
Уриу сообщил в Токио о строительстве на верфях в Санкт-Петербурге и Николаеве 7 эскадренных броненосцев, 4 броненосцев и 3 броненосных крейсеров, указав степень их готовности и сроки ввода в строй. Если в отношении эскадренных броненосцев «Сисой Великий», «Ростислав», «Три Святителя» и «Севастополь» сведения были достоверными, то по другим кораблям этого класса информация не соответствовала действительности: «Петропавловск» и «Полтава» вышли на ходовые испытания вместо заявленного Уриу 1896 г. только в 1897–1898 гг., в то время как «Георгий Победоносец» вступил в строй тремя годами ранее. Впрочем, данные по кораблям других классов были правильными94.
Сопоставив всю имевшуюся информацию, Морской Генштаб Японии 7 января 1897 г. подготовил «Таблицу боевых кораблей ВМФ стран мира», согласно которой русский флот занимал третье место в мире, уступая только английскому и французскому: 213 боевых кораблей против 362 и 320 соответственно. Россия имела 10 эскадренных броненосцев, 9 броненосных, 2 бронепалубных крейсера, 12 броненосцев береговой обороны и порядка 152 миноносцев. Как пола гала японская военно-морская разведка, в постройке на русских верфях находились 39 боевых кораблей, включая 8 эскадренных броненосцев, 2 броненосных, 3 бронепалубных крейсера, 1 эсминец и 20 миноносцев95











