Читать онлайн Не могу, не хочу, не буду
- Автор: Наталья Платонова
- Жанр: Классическая проза
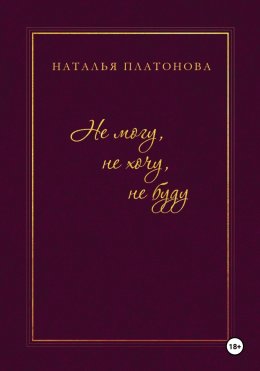
* * *
Каждому человеку,
которому ты даришь своё доверие,
ты даешь в руки меч.
Им он может тебя защитить,
или уничтожить.
Омар Хайям
* * *
Не могу, не хочу и не буду молчать —
ибо зло и подлость должны быть наказаны,
и для этого не обязательно бежать в суд.
Осуждение и презрение людей – это ли не
самый страшный приговор?! Приговор,
который обжалованию НЕ ПОДЛЕЖИТ.
Наталья Платонова
* * *
Мне было тридцать лет, когда умер мой отец Григорий Яковлевич Меркушкин. Вернее, тридцать лет и тридцать семь дней.
Прошло сорок четыре года, и чем старше я становлюсь, тем больше и глубже задумываюсь над тем, что произошло в последние годы его жизни. Вышли в свет и нашли своего читателя две мои книги – «ГНИДЫ» и «МОРДВИН» – посвящённые папе, его нелёгкой судьбе. И тем не менее, нет у меня ощущения того, что я сказала всё, что хотела сказать.
Я хочу написать об уважении достоинства и свободы личности; о человеке как субъекте, к которому недопустимо, я бы сказала, преступно, относиться как к объекту. Но именно это и произошло в жизни моего отца.
Что легло в основу трагедии, пережитой моим отцом и его семьёй?
Зависть и обскурантизм (мракобесие). Зная жизнь моего отца и моей семьи – другого вывода я сделать не могу. Папа мой был абсолютно добрым человеком, редкой эрудиции и редкой же способности «сеять разумное, доброе, вечное» (слова Н.А. Некрасова). Благородный, ответственный, честный человек, для которого слово Родина священно. За что такого человека ненавидеть и предавать? Да за то, что ненавистники и предатели сами таковыми быть не могли. За собственные пороки и собственное же ничтожество ненавидели и предавали.
Отчётливо помню всё, что происходило в нашей семье в годы моего отрочества и юности. Двери в нашу квартиру не закрывались! Ходоки шли потоком… Конечно же, с благородными целями. Ни я, ни Владислав Григорьевич, открывая дверь, не выясняли, кто за чем пришёл.
Разноязычный говор, кто-то смеётся, кто-то слёзы вытирает, рассказывая о своём горе; малые дети теребят доброго дядю Владика, который им ну очень нравился! Именно так мы с Владиславом Григорьевичем и жили в нашей с ним юности.
Приходили друзья, приходили многочисленные родственники. Просто люди, которым хотелось сказать спасибо папе за жизненно важную помощь. Приходили отдать дань благодарности, и … застревали у нас на много дней. Чаще всего это были иногородние и не очень-то состоятельные люди. Приехал человек издалека с визитом благодарности – ночевать ему где до следующего рейса? В моей молодости билет на поезд купить было не очень-то просто. Вот и жили у нас. Сначала до рейса, но время отъезда как-то само собою отодвигалось за приятными вечерними беседами с гостеприимными хозяевами. Опять же, где это они могли так отдохнуть? Простые люди, они и условия жизни имели – вернее, не имели ничего хорошего. Да и питались скудно – картошка да хлеб вдоволь – вот и всё питание. Папа с мамой сознательно устраивали недельный, а то и двухнедельный отдых ходокам. Да ещё и билеты на обратную дорогу покупали.
Время от времени ворчали Владислав Григорьевич и Наталья Григорьевна. Им вообще-то готовиться надо было. Один – преподаватель, другая – студентка, а по квартире бегают гости весьма розового возраста. Да ещё и требуют, чтобы добрый дядя Владик покатал их как лошадка. Я смеялась и говорила:
– Владислав Григорьевич, вам так идёт быть няней всея Руси! Вы и предмет преподаёте для детей заманчивый – ТОРТ! (теоретические основы радиотехники). Вы бы, Владислав Григорьевич, написали научную работу на тему: «Как влияет хобби скакать лошадкой на развитие современной радиотехники».
Владик прятал улыбку, нарочито хмурился.
– Не шурши… Давай работать, пока «наездники» спят.
Запомнился мне один малыш. Понравился ему Владислав Григорьевич. Отца у мальчика не было, и что там случилось в детской головке – я не знаю. Только начал он называть Владика папкой. Деревенский мальчонка – худенький, глазастый и упрямый донельзя. Мама – прекрасный педагог и добрая женщина – и так, и этак старалась объяснить малышу, что дядя Владик не папа, а просто хороший дядя. Да как же! И слушать не хотел. Папка – и всё тут!
Пришло время гостям уезжать. Мамины неподъёмные гостинцы ещё и от пола надо было оторвать. Женщину и ребёнка к поезду кто будет провожать? Владислав Григорьевич, конечно.
Своим сердечком ребёнок понял, что «папка Ладик» с ними не поедет – молча лёг у порога и вцепился в калошницу. Ни всхлипов, ни вздохов – только длиннющие ресницы слиплись от слёз. Я не выдержала, ушла на кухню. Следом явился Владик – залпом выпил бокал ледяной воды из-под крана.
Голос мамы:
– Ребята, отец зовёт…
Папа сидел на стуле и ласково смотрел на ребёнка. Увидел нас, заговорил:
– Лёша, давай с тобой решим: мы кто? Мужчины или женщины? Если мужчины, тогда надо быть сильными и защищать женщин. Я буду тётю Сашу защищать, а ты – маму. Давай, вставай и помоги маме сумки нести. А дяде Владику ты письма пиши. Он же научил тебя писать? Научил! Вставай, Лёша. Будешь лежать – не вырастишь. Ты расти поскорее. Как только подрастёшь – сам к дяде Владику приедешь. Без мамы. Вот уж тогда наиграетесь!!
И ведь встал малыш с пола!
– Папка Ладик, када я балсой буду, ты миня будис любить?
Бедный мой брат! Добрейший человек!! Неделю сам не свой ходил. Я и то язык прикусила, чем очень серьёзно насторожила маму. Она даже температуру мне измерила. Где-то дней через десять Владик и говорит:
– И долго молчать будешь? В царевны Несмеяны подалась?
Ну..у, меня дважды просить не приходилось…!
Помню ещё один случай из раннего моего детства. Мы жили на Гражданской – Гражданская,47, квартира 11. Милый моему сердцу адрес…
Была я маленькая, девочки постарше во дворе играли в дочки–матери. Брали в игру и меня. Я маленькая, а играю с большими – какое счастье!
Непременным условием игры была еда. Дети приносили кто что мог – чёрный хлеб тоже съедался без остатка. Послевоенное детство… Не очень-то сытое, но какое интересное! Мама всегда давала мне много варенья и большую буханку ситного хлеба. Ещё пирожки и кусок отварного мяса из бульона.
У меня была подружка – Света. С ней мы и выносили всё это во двор. Если папа был дома, говорил: – ещё молока налей, Шуринька. Мама возражала – прольют, маленькие ещё.
В моём детстве кроме тяжеленного бидона с подвижной ручкой никакой другой тары не было. И молоко мы со Светланкой регулярно проливали. Хорошо, если оставалось что-то на донышке.
Придумал папа. В пазы, куда вставлялась эта ужасная бидонная ручка, папа загнал несколько спичек (без головок – на всякий случай); ручка перестала крутиться, и всё дворовое детское сообщество с прекрасным аппетитом съедало мамины гостинцы. Варенье выпивалось прямо из миски в порядке честной очереди; мягкий белый хлеб кушали с мясом, отрывая и то и другое руками, предварительно вымыв их в бочке с вечнозелёной водой.
Честно говоря, руки наши от такого купанья чище не становились, но ведь и аппетит наш от наличия головастиков в бочке тоже не ухудшался. Тем более, что на «десерт» нас ждали сладкие пирожки с молоком…! А если всем не хватало – тётя Саша давала ещё и сгущёнку, и толстые бублики с маком…!
Должна сказать, я была малоежкой, и дома за обедом привередничала. Но во дворе…! До чего же мамины гостинцы были вкусными!!! Для послевоенных детей такие пиршества устраивались далеко не в каждом дворе, и далеко не всеми состоятельными родителями.
И сейчас, на склоне лет, вспоминая наш двор на Гражданской, я не устаю повторять:
мама и папа, дай Вам Бог и там, за гранью земной жизни, душевного покоя и осознания того, что Вы прожили свою жизнь на земле ЛЮДЬМИ.
Всё, что могла написать о доброте и благородстве моих родителей, уже написала. И в этой книге я дала возможность читателю представить, какими были и среди каких людей прошли мои детство и юность. Два ярких воспоминания – этого достаточно, чтобы читатель безошибочно сделал правильный вывод.
Год тому назад мне был задан интересный вопрос, на который я не смогла ответить. Не смогла, потому что никогда не задумывалась над этим аспектом папиной жизни.
У папы было очень много родственников – и все необыкновенно близкие. На самом же деле, я знаю одного близкого родственника – Ивана Яковлевича, старшего папиного брата. Я его не любила с детства. Человек эгоистичный, большой любитель выпить (См. «Гниды», «Мордвин»).
У Ивана было девять человек детей. Восьмерых ему родила жена, а о девятом, Юрии, я узнала, будучи взрослым человеком, и первый раз увидела на похоронах своего отца – Григория Яковлевича Меркушкина. Знал о его существовании папа, или нет – я не знаю. Во всяком случае, я не слышала, чтобы Юрий затруднял кого-либо своими проблемами.
Что же касается остальных восьмерых папиных племянников – все знакомые и друзья моей родителей лицезрели их в папиной семье постоянно. Папа относился к детям Ивана Яковлевича как к своим. Жалел их. Более того, сделал в жизни для них больше, чем для нас, его детей.
Трое ивановых детей, папиных племянников – Александр, Зинаида, Николай – предали моего отца – своего «любимого» дядю, ускорили его кончину (см. «Гниды», «Мордвин»).
Возвращаюсь к вопросу журналиста: «Где был Иван Яковлевич Меркушкин в 1941 – 1942 годах?» Я не задумывалась над этим фактом. Ни..ког..да.. Но толчок был дан…, и картины прошлого, как в немом кино, сменяли одна другую…
Пласт папиной жизни прошёл мимо моего сознания. Но он был, этот пласт. И я – живой участник многих событий.
У Ивана Яковлевича один глаз закрывало бельмо. Но это не причина сидеть в тылу молодому, здоровому мужчине. Его младший брат, Григорий Яковлевич Меркушкин, не задумываясь ни на секунду, положил на стол свою бронь, и добровольцем ушёл воевать, оставив молодую беременную жену.
Что же всё-таки мешало Ивану Яковлевичу быть призванным…? Война – сложнейший живой организм. Это не только поле боя. Интендантские службы, полевая кухня, полевой госпиталь, наконец! Работы хватало. Было бы желание работать!
Так почему же коренной, двадцатишестилетний житель села Новые Верхиссы, Иван Яковлевич Меркушкин призван не был?
В Новых Верхисах Меркушкин не он один. Насколько я знаю, другие родственники Меркушкины воевали. Разобраться в этом вопросе – не в моей компетенции.
В моей компетенции другое – дать характеристику (исходя из своих жизненных наблюдений) отношения Меркушкина Григория Яковлевича к вышеизложенному.
Полагаю, мои наблюдения помогут, и вполне возможно поспособствуют историкам Мордовии выбрать единственно правильное направление в изучении тыла и тыловиков села Новые Верхиссы, Инсарского района, в годы Великой Отечественной Войны.
У папы был дядя – Алексей Семёнович Меркушкин – много старше папы и Ивана Яковлевича. Дядя Алексей честно воевал, вернулся с фронта с наградами, но без ноги и нескольких пальцев на руках.
Жил Алексей Семёнович и до, и после войны по соседству с Иваном Яковлевичем – в том же селе Новые Верхиссы. Из этого села и был призван…
Папина тётя – Мария Семёновна – родная сестра дяди Алексея, тоже проживала в селе Новые Верхиссы, и тоже была намного старше и папы, и Ивана. Её муж был призван в том же селе и погиб на фронтах Великой Отечественной Войны.
Я очень хорошо помню, как папа встречал своего дядю Алексея Семёновича. Звонок, кто-то из нас открывает дверь…
– Папа, дядя Алексей…
Папа выходит из кабинета, улыбается… Подаёт руку, крепко жмёт дядину – беспалую, но сильную, крестьянскую. И.. обнимает дядю Алексея. Точно так же папа встречал своего сына, Владислава Григорьевича, после разлуки – сначала пожимал руку, а потом обнимал.
Бытует мнение, что папа очень любил своего брата Ивана. Я тоже так считала. Может, и любил. Но уважал ли?!
Я не раз присутствовала при встрече Ивана Яковлевича и папы. Надо сказать, дядя Алексей Семёнович бывал у нас намного чаще Ивана Яковлевича. Тем более, я всё отчётливо помню – вернее, не помню, чтобы папа подавал руку дяде Ивану, и ни разу не видела, чтобы папа обнял своего брата.
А как вёл себя Владислав Григорьевич? Всегда здоровался за руку с дядей Алексеем, помогал ему снять верхнюю одежду. А дяде Ивану? Просто вежливое «здравствуйте, проходите, пожалуйста». – Абсолютно точно. Так и было! У меня хорошая память.
Приезжал дедушка Кузьма Никитич – мамин отец. Вся грудь у деда в орденах!! Вот уж кому папа жал руку крепко–крепко, двумя руками. И всегда оказывал деду максимум уважения. Да не дай бог кто-то из нас, даже мама, хоть слово против дедушки скажет… Такое в нашей семье не только не приветствовалось – считалось верхом непочтительности – если не хуже.
И дело здесь было не в возрасте. Дед Кузьма Никитич, будучи пожилым человеком и инвалидом, добровольцем воевал, награждён. Для моего покойного дедушки слово Родина всю его жизнь – священно! И дед даже и не мыслил отсиживаться в тылу, когда по его стране «шагал гнусь–фашист. Тварь…!» (слова Кузьмы Никитича Чиняева –моего деда, героя ВОВ)
Никакой ошибки быть не может: и папа, и Владислав Григорьевич делали огромную разницу между людьми, честно воевавшими во время Великой Отечественной Войны и папиным братом – Иваном Яковлевичем Меркушкиным.
Как же это прошло мимо моего сознания? Да, папа любил брата… Любить и уважать – не синонимы.
Любил, не любил… Уважал, не уважал… – философствовать на эту тему можно бесконечно.
У меня возникает важный для меня вопрос: как отразился или мог отразиться на жизни моего отца факт пребывания Ивана Яковлевича Меркушкина по непонятным мне – и не только мне – причинам в глубоком тылу в годы ВОВ.
Почему папы не коснулись репрессии? Сталинизм – страшное, беспощадное время.
Здесь может быть только одна версия: Григорий Яковлевич и Иван Яковлевич, скорее всего, не родные братья. Допускаю – возможно, папа и Иван не кровные родственники; возможно, однофамильцы.
К папе претензий быть не могло. – Доброволец. Геройски воевал. Награждён.
Не могло быть претензий и по поводу Ивана Яковлевича, но только в том случае, если они НЕ кровные родственники.
Это всего лишь теория. А теория, как известно, расходится с практикой.
После войны страна нуждалась в срочном восстановлении. И такие люди, как Григорий Яковлевич Меркушкин, Сталину были просто необходимы.
Годы шли… СССР вызывал удивление и уважение всего мира. Мордовия из безграмотного придатка России преобразовалась в республику, стремящуюся к высшему образованию.
И в этой более чем серьёзной метаморфозе, прежде всего, заслуга моего отца – Меркушкина Григория Яковлевича (см. «Мордвин»)
Сталин умер 5 марта 1953года. А если бы не умер? Как долго папа был бы нужен «вождю всех народов»?
И не положили ли бы последователи Ежова под пресс папину жизнь, припомнив ему его брата, неизвестно по какой причине «загоравшего» в глубоком тылу, когда вся страна воевала.
Полагаю, так оно и было бы.
Что же касается Ивана Яковлевича Меркушкина – вполне возможно, ему бы тоже несдобровать, проживи Сталин на два–три года дольше.
Но, честно говоря, эта тема меня мало интересует.
Я уже писала, что папино детство прошло не в Новых Вехиссах, и родители его не были крестьянами.
Напишу ещё раз, ссылаясь, как мне кажется, на интересные факты.
К нам приезжало много людей из Инсарского района. Из села Новые Верхиссы тоже были ходоки. Говорили о многом, но однако ни один человек «не вспомнил», как учился с папой в одной школе.
И вопрос папиного детства в Верхисах ни одним из них не был поднят.
Папа не жил до двенадцати лет в Новых Верхисах, и не учился с верхиссинскими детьми в одной школе.
С двенадцати лет мой отец, Григорий Яковлевич Меркушкин, жил и получал среднее образование в Инсаре – и этому есть очевидцы.
Более того, дети и внуки этих людей–очевидцев живы и сейчас. Наверняка многие из них живут в Мордовии, возможно и в Инсаре.
Между братьями наблюдалась несоизмеримая разница во всём – в отношении к людям, долгу, восприятии жизни как таковой; в моральных устоях, наконец!
То, что папа испытывал огромное чувство долга по отношению к Ивану Яковлевичу – это точно.
Это самое чувство долга у папы было настолько неординарным, что точно разобраться в многогранье папиных переживаний не представляется возможным.
Я полагаю, не только мне…
Именно поэтому я уверена в том, что у папы не было крестьянских корней.
От антропологических данных, до недюжинного интеллекта – всё не только говорило – кричало о том, что к крестьянам Григорий Яковлевич Меркушкин никакого отношения не имеет, ибо сын безграмотных родителей из забытой богом глуши, не может быть настолько интеллектуально непредсказуемым.
К слову: в историю крестьянского сына Михайла Ломоносова я тоже не верю.
И как это крестьянский сын Михайло Ломоносов смог добыть грамматику Смотрицкого и арифметику Магницкого? Уж не отец ли, простой крестьянин, ему их купил?
Насколько я знаю, эти учебники больших денег стоили.
А впрочем, есть историки – маститые и не очень. Пусть и разбираются…
К сожалению, у меня нет документального подтверждения того, что папа по рождению не относится к рабоче-крестьянскому сословию.
Но есть мелочи, далеко не эфемерные. А из мелочей, как известно, складываются интересные жизненные пасьянсы.
Окончила я вуз, уехала работать в Москву и уговорили меня выйти замуж. Что ж, дело житейское.
К тому времени я привыкла, что ни одежды на меня, ни украшений советская промышленность не производит.
Платья были велики, золотые кольца и цепочки имели непомерные размеры, а серьги почему-то напоминали серп и молот.
Мама, жених и будущая свекровь с ног сбились, отыскивая обручальное кольцо пятнадцатого с половиной размера.
Не было таких. Всё «обручение» начиналось с семнадцатого размера.
Да под этот фундаментальный атрибут у меня и пальцев-то не было!
Помню, как сейчас… Сидели мы в номере гостиницы «Москва».
Папа с мамой приехали знакомиться с будущей роднёй, а Владик, по- моему, – в МЭИ.
Он часто приезжал за новинками книг по специальности. В МЭИ в те времена было чем поживиться.
Разговор, понятное дело, крутился возле моего замужества.
Мама ума не могла приложить, где взять кольцо и перчатки по моему размеру, а папа почему-то был обеспокоен устройством предстоящей свадьбы – не нравился ему выбранный мною ресторан.
В общем-то, никаких серьёзных разговоров не было…
До тех пор, пока Владик не сказал:
– Папа, надо из них сделать два кольца. Одно на помолвку, другое – обручальное.
– Тут я не вправе решать, сынок. Как скажешь…
Я ничего не поняла, но спрашивать не стала. Чувствовала, что вопросы неуместны.
Промолчала и мама.
Папа предложил пойти поужинать, мы спустились в ресторан, и больше к этим двум фразам ни папа, ни Владик не возвращались.
До свадьбы оставалось два месяца; мама с папой уехали домой, а мне надо было работать.
Москва – огромный город. Работать я начинала в семь тридцать утра, а добираться – больше часа.











