Читать онлайн Дзен-фото как психотехника самопознания
- Автор: Владимир Олийник
- Жанр: Саморазвитие, Личностный рост
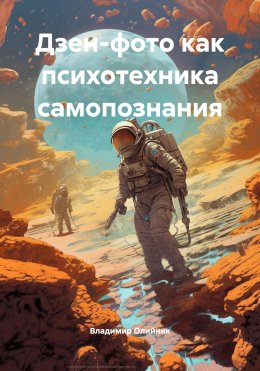
ОБ АВТОРЕ
Владимир Анатольевич Олийник – философ и путешественник. Родился в Украине. Окончил Львовский техникум радиоэлектроники, служил в Советской Армии. После службы в армии поступил на философский факультет Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко и окончил его по специальности «философия» в 1980-ом году.
По окончанию ВУЗа преподавал философию в Львовском государственном университете и Львовском политехническом институте.
Во второй половине 80-х годов переехал в Сибирь. Работал в районах Крайнего Севера Тюменской и Иркутской областей. Преподавал в ВУЗах Сибири философию, историю религий, логику. Работал проректором по науке филиала Иркутского педагогического университета в городе Усть-Илимск, советником главы города Шелехов по социально-правовым технологиям.
С середины 90-х годов занимался социально-культурным проектированием. Автор более 20-и проектов федерального и международного уровней в сфере образования и культуры.
Как автор актуальных образовательных проектов был приглашен Американской федерацией учителей на стажировку в США. Прошел ее в образовательных учреждениях и органах власти Вашингтона, Бостона, Трои, Олбани и Нью-Йорка, в том числе в Гарвардском университете.
В качестве эксперта в области духовной культуры стажировался Мiddlesex University (Лондон, Великобритания) и системе образования города Далянь (Китай).
Является Победителем или Лауреатом ряда Всероссийских конкурсов:
Лауреат (II призовое место) Всероссийского конкурса концепций учебника «История мировых религий».
Лауреат (грант II степени) Всероссийского конкурса инновационных проектов (за разработку проекта «София-Плюс» в рамках федеральной программы «Обновление гуманитарного образования в России»).
Лауреат (грант II степени) Всероссийского конкурса «Обновление управления учебными учреждениями в России».
Победитель Международного конкурса «Civitas».
Лауреат Всероссийского конкурса «Организация учебного процесса, научно-методической и экспериментальной работы в школе».
Победитель Всероссийского конкурса проектов «Модель школы ХХI века».
Лауреат Всероссийского конкурса «Социально-педагогические инновации».
Лауреат Всероссийского конкурса «Лидер образования – 2001».
Автор более десяти книг и многочисленных публикаций в научно-педагогических изданиях страны. За значительные заслуги в системе образования РФ имеет почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».
Как свободный путешественник, с целью изучения духовных традиций и практик разных народов объехал полмира. В том числе Филиппины, Индонезию, Таиланд, Камбоджу, Вьетнам, Китай (включая Гонконг и Тибет), Индию, Палестину, Египет, Израиль, Кипр, Великобританию, США. Обучался в буддийских и даосских монастырях Китая (монастыри Шаолинь и Цинъян-гун). Владеет китайскими боевыми искусствами, цигун и техниками медитации. Практиковал недельные ретриты в медитационном центре Dipabhavan буддийского лесного монастыря Suan Mokkh (остров Самуи, Таиланд).
Результатом духовных поисков стала разработка оригинальной методики и психотехники постижения своего Истинного «Я» с использованием, как инструмента, дзэн-фотографий и специальной медитативной техники.
Примечательной особенностью творчества Владимира Анатольевичв является то, то, что он не только разработал свою, авторскую методику самопознания (постижения Истинного «Я»), но и обосновал ее теоретически в своей философско-психологической концепции, которую назвал «Софиралогия»
У него есть свой канал в YouTube.
Проживает в Севастополе
Евгений Волосов
доктор исторических наук, профессор
В начале работы с книгой обратите внимание на несколько важных обстоятельств:
при прочтении книги следует иметь в виду, что текст написан философом для вступающих на путь самопознания и тут, помимо практических наставлений, будут даны некоторые теоретические разъяснения. По сути речь идет о философско-психологической концепции, построенной на основе личного опыта автора и подкрепленного мнениями разных духовных Учителей; философов и психологов
здесь в малом объеме текста содержится большой объем информации, которой нельзя пренебречь в практике. Поэтому читать и усваивать текст лучше небольшими порциями и размышлять над ними;
тем, у кого философско-психологическая концепция вызывает затруднения в ее понимании можно ее опустить и сосредоточить свое внимание на практической части.
следствием предлагаемого Пути будет, как минимум, три уровня результатов:
1) будет создан биографический фотоальбом, состоящий не из обычных фотографий, а из медитативных слайд-шоу. В этих слайд-шоу (чаньках) будут представлен «Дух места» тех локаций, в которых делались снимки.
2) в связи с тем, что дзен-фотографии являются отражением души фотографа фотоальбом можно представить «Другому» как свою духовную фотолетопись.
3) идя Путем, предложенным автором, используя медитативные слайд-шоу (чаньки) и технику медитации Джи-Гуань читатель постигнет собственное Истинное «Я».
ключевым моментом книги является процесс создания, просмотра и перепросмотра медитативных слайд-шоу (чанек), а для примера авторские чаньки представлены им на собственном канале в YouTube. Вот адрес этого канала: http://www.youtube.com/channel/UCtHHeK_U0YStSPcGJejW6Lg/videos
при просмотре чанек на канале следует иметь ввиду, что нужный нам медитативный эффект будет иметь место в случае, когда просматриваете чаньку о месте, в котором вы бывали. Тут речь идет о самовоспоминании.
в книге используются некоторые термины из китайского и японского языков, пали и санскрита, а их традиционный перевод, к сожалению, далек до совершенства, в первую очередь потому что выбранные определения основных понятий неконкретны и далеки от современной жизни, однако это не вводит читателя в заблуждение. В отдельных случаях даны авторские переводы и собственные толкования иностранных терминов. Некоторые японские термины, такие как «коан» вместо «кунь-энь», «сатори» вместо «у», «Дзэн» вместо «Чань» и т.д. установились и широко употребляются как на Западе, так и в России, они же применяются в этой книге наряду с оригинальными китайскими терминами.
в тексте книги одинаковые термины могут означать разные понятия в зависимости от контекста, и их толкование может отличаться от толкования разных авторов.
в книге используется термин «Бог», который не надо понимать, как образ на подобие человека. Поэтому обращения к Богу необходимо понимать в переносном смысле, который близок к китайскому понятию «Дао»
всё изложенное в книге – это всего лишь примерная и относительная попытка описать методику личного продвижения по Пути самопознания, и не более того. Но книга завслужиивает самого пристального внимания.
одной из особенностей предлагаемой книги является постоянное возвращение к некоторым основным понятиям психологии и дзен-буддизма. Цель – более полное раскрытие их смысла путем рассмотрения с разных сторон и в разных контекстах.
хотя в целом книга имеет вводный характер, она по некоторым вопросам и в некоторых областях постижения своего Истинного «Я», более практико-ориентированная, чем другие книги такого рода, имеющиеся в настоящее время на русском языке.
при подготовке рукописи книги использовались нейросети.
ВНИМАНИЕ! Прочтение этой книги может иметь и негативные последствия. Они заключаются в том, что ваше мировоззрение – все то, в чем вы были убеждены до сих пор, пошатнется. Этот процесс можно назвать «разрушением ментального каркаса», или просто обесцениванием могого из того, что вы знаете и чувствуете.
Но, постижение своего Истинного «Я» приведет к духовному преображению и мир вы увидите совершенно другими глазами, увидите Сердцем.
Обычно, когда люди начинают сталкиваться с чем-либо подобным, их никто не предупреждает о последствиях такого ознакомления.
Вы предупреждены!
«ВЕЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ» – ОСНОВА САМОПОЗНАНИЯ
(ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ)
«Будьте для самих себя спасительным островом,
не ищите убежища в других».
(Будда)
«Внемли себе»
(Григорий Сковорода)
Герой рассказа А.П.Чехова «Скучная история», пытаясь осознать свою сущность, говорит: «Познай самого себя» – прекрасный и полезный совет, жаль только, что древние не догадались указать способ, как пользоваться этим советом».
Здесь А.П.Чехова со своим героем ошибаются. Древние мудрецы указали не один способ, а много и разных. Предлагаемая книга об этом, о авторской психотехнике самопознания, которая своими корнями уходит в практику дзен-буддизма, философию Григория Сковороды и аналитическую психологию, а в качестве инструмента используется дзен-фото.
Призыв «Познай самого себя» красной нитью проходит по практически всем религиозным и философским учениям от древних времен до наших дней. Этот призыв лежит в основе всех религий как их эзотерическая их часть. С некоторых времен основные принципы призыва «Познай самого себя» получили популярность и название «Вечная философия».
С этого и начнем.
В 1945 году свет увидела книга британского философа Олдоса Хаксли «Вечная философия». В ней автор дает обзор духовного наследия мировых религий и религиозно-философских учений. Свои выводы он подкрепляет выдержками из текстов Великих Учителей человечества и Священных книг разных религий.
Суть его книги можно свести к следующему:
«Вечная философия» – это мировоззрение, которое разделяло большинство величайших духовных учителей, философов, мыслителей и даже ученых во все эпохи и во всем мире. Она называется «вечной» потому, что ее можно обнаружить абсолютно во всех культурах народов мира и во все времена. В том числе и в России. И во всех частях света, где бы мы ее ни находили, ее основные черты сходны.
Вот как описывает это очевидное обстоятельство британский философ и писатель Алан Уоттс: «Таким образом, мы остро ощущаем исключительную уникальность собственных взглядов, и нам трудно признать тот простой факт, что по некоему философскому вопросу существует универсальное согласие. Оно разделяется людьми, мужчинами и женщинами, которые сообщают об одних и тех же прозрениях, учат одной и той же базовой доктрине, и неважно, живут эти люди сейчас или жили шесть тысяч лет назад; неважно, откуда они – из Нью-Мехико или из Японии».
Это действительно весьма примечательно. Я думаю, что, по большому счету, это свидетельствует об универсальной природе этих истин, универсальности всечеловеческого опыта, который повсюду согласуется с некоторыми глубинными истинами о человеке и его связях с мирозданием. Только так можно описать то, что называется «philosophia perennia» – «вечная философия».
Роджер Уолш – учёный и психолог, автор книг по трансперсональной психологии и духовным практикам полагает, что средоточие «вечной философии» составляют четыре принципа, которые основаны на собственном опыте и непосредственных интуитивных прозрениях продвинутых духовных практиков:
1. Существуют две сферы реальности (Григорий Сковорода говорит о двух натурах). Первая из них – мир физических объектов и живых существ. Это сфера, доступная нашему познанию, нашему зрению и слуху, которую изучают естественные науки.
Но за привычными вещами и явлениями скрывается еще одна сфера – сфера невидимая, сфера Духа, Разума, Бога, Дао, или как бы мы ее не называли другими словами. Для нас нет принципиального значения кто и как ее называет, но этот мир недоступен физическим органам чувств и его можно познавать лишь косвенно.
2. Человек входят в обе сферы. Мы не только физические, но также и духовные существа. У нас есть тело, но в центре нашего существа, в глубинах нашей психики есть некий центр сознавания. Этот центр описывают как Чистое сознание, Космический разум, Дух, Истинное «Я», Познающее «Я», или Самость, и он издавна известен под такими именами, как «Нешама» в иудаизме, «Божественная искра» в христианстве, «Атман» в индуизме, или «природа Будды» в буддизме. Я его буду называть Истинное «Я» или Самость. Это Истинное «Я» тесно взаимосвязано с основой всей реальности – некоторые духовные традиции даже говорят об их неразделимости и тождественности. Мы не оторваны от Дао (или, если угодно, Божественного), а тесно связаны с ним.
3. Человек способен осознать свое Истинное «Я», свою Самость. Это подразумевает – и это имеет решающее значение – что принципы-утверждения «Вечной философии» не следует слепо принимать на веру. Каждый из нас может проверить их на себе и судить об их справедливости на основании собственного непосредственного опыта. Хотя Истинное «Я» или, другими словами, Самость, будучи нематериальной реальностью, недоступна познанию с помощью органов чувств или научных приборов, ее можно познавать путем специальных духовных практик и определенного образа жизни.
Это вовсе не так легко. Хотя некоторым людям могут быть дарованы спонтанные проблески видения своей Самости, но обычно требуется духовная практика, позволяющая в достаточной мере прояснить сознание. В этом предназначение духовных практик. В разных культурах и традициях они могут быть разными, но в основных чертах они совпадают. И предлагаемая в этой книге методика постижения Истинного «Я» не выходит за рамки традиции, но она модифицирована в соответствие с культурой современного мира вообще и культурой России в частности. В этом ее смысл и предназначение.
Когда мы входим в некое состояние с помощью медитации, или молитвы, или других специальных духовных упражнений, мы можем непосредственно переживать свою Самость. Это не понятие и не интеллектуальная теория Самости. Скорее, это непосредственное познавание, прямое интуитивное постижение, при котором человек не только чувствует и «видит» свою Самость, но и отождествляется с ней, осознавая, что это и есть его Истинное «Я». Григорий Сковорода и многие мыслители прошлого и настоящего считали, что его вместилищем является Сердце. Именно Сердцем можно видеть невидимое. «Видеть глазами сердца» – этими словами начинается книга «Сердце» учения Живой Этики
По сравнению с таким непосредственным осознанием своего Истинного «Я», книжное учение и теоретическое знание – это всего лишь жалкие заменители, столь же далекие от непосредственного опыта, как текст «Кама-сутры» – от живых объятий влюбленных.
4. Четвертый постулат Вечной философии гласит, что осознание нашей духовной природы есть величайшее благо: высочайшая цель и наибольшая польза человеческого существования. Перед этим бледнеют все другие цели. Все другие наслаждения удовлетворяют человека лишь частично. Никакое другое переживание не может быть столь экстатическим, никакое другое достижение не вознаграждает в такой степени, никакая иная цель не будет столь благотворной для самого себя или других людей. Так говорят мудрецы разных времен и традиций.
Опять же, это не бездоказательная догма, которую приходится принимать, основываясь лишь на чужих словах или слепой вере. Скорее, это выражение непосредственного опыта тех, кто уже вкусил этих плодов. И что важнее всего, это приглашение всем нам вкусить и испытать их вкус самим.
Если вычленить самую суть этих четырех утверждений, что же мы находим? Центральную тему вечной философии можно свести к призыву «Познай самого себя!».
Слова разных культур и традиций различаются, но передают одну и ту же суть: Ты больше, чем тебе кажется! Взгляни внутрь себя, и ты обнаружишь, что твое «Эго» – это лишь внешняя оболочка твоего Истинного «Я». Загляни в себя, и в самом центре своего Сердца, в глубинах своей души ты найдешь свою подлинную суть, свою Самость, увидишь, что эта Самость теснейшим образом связана с Богом, Дао, Брахманом, Космическим разумом, Абсолютом и т.д. Как бы мы эту реальность не называли.
Истинное призвание каждого состоит только в одном – прийти к самому себе. Кем бы ты под конец ни стал, сантехником, военным, автомехаником, поэтом, художником, айтишником, безумцем или пророком, – это в конечном счете не важно. Наше дело – найти собственную, а не любую судьбу и отдаться ей внутренне, безраздельно и непоколебимо.
Так просто и так сложно. Смысл жизни в том, чтобы найти и реализовать свое Истинное «Я». То, радии чего ты явился в этот Мир.
Григорий Сковорода говорит о «Внутреннем человеке». В его философии «Внутренний человек» – это то, что составляет суть каждого человека. Философ считал, что Бог дал план как миру, так и человеку, и этого человека каждый должен найти в себе и открыть, хотя он уже изначально есть в каждом. Более того, он говорит о «сродности». то есть следования человека своей природе, своему Истинному «Я». Познавшие сродность составляют, по Сковороде, «плодоносный сад», гармоничное сообщество людей, соединённых между собой как «части часовой машины» причастностью к «сродному труду» (сродность к медицине, живописи, архитектуре, хлебопашеству, воинству, богословию и т.п.). Своя «сродность» или, как ещё пишет Сковорода, своя «стать» есть у каждого человека.
Подлинных методов постижения своего Истинного «Я» немало, но и подделок, конечно, достаточно. Среди подлинных методов лучшего или худшего нет, все они реальны, нужно лишь найти подходящий себе. Но я возражаю против слепого копирования и превращения человека русского мира в пародию на индуса или китайца посредством тупого копирования чуждых обычаев и поведения. Технология самопознания вненациональна и будучи преломлена через призму своей культуры и собственную психофизику, избавлена от разных религиозно-философских интерпретаций, мистики, работает вполне эффективно. Ключевым моментом тут является преломление техник самопознания, существующих в мире, через призму своей культуры и психофизической организации конкретного человека.
В основе настоящей книге лежат принципы «Вечной философии» наиболее полно выраженные в философии и психотехнике дзен-буддизма и русской ее форме в учении Григория Сковороды (с моей токи зрения). О Сковороде следует сказать отдельно, так как корни его учения уходят в Вечную философию, но большинство «сковородинознавцев» этого факта не «видят».
Основными положениями философии Сковороды являются идеи о двух натурах и трех мирах. Три мира: макрокосм (природа), микрокосм (человек) и «мир символов» (духовный мир символов Библии) представляют себя в «двух лицах» – видимой натуре, внешним, не подлинным бытием и невидимым образом – истинным бытием абсолютного смысла. Две натуры Г.С. Сковороды – это материальная и духовная. Видимую, материальную натуру он называет такими уничижительными словами как «тварь», «ложь», «рухлядь», «вздор» и т.д. Совершенно другое дело натура духовная, наиболее полно выраженная в символах и образах.
Мир символов у Григория Сковороды —это образно-символический мир Библии, текстов древних философов и Отцов церкви. Почему Библия? В те времена (середина 18-го века) это была единственная книга Российской Империи, более-менее читаемая большинством людей. Но простое чтение Священных текстов ничего на дает, кроме слепой веры. По мнению Григория Сковороды, там «ложь» и «вздор». За буквами и словами надо уметь видеть Истину. В письмах своему ученику Михаилу Ковалинскому Сковорода наставляет подопечного – выбери понравившийся текст из Библии и «жуй» его, «жуй», т.е. думай, медитируй. Выбранный текст должен быть знаком-образом. Проще говоря Сковорода говорит об образно-интуитивном восприятии символов и с их помощью проникновении в духовный мир (натуру). Символы Библии, писал Сковорода, «открывают в нашем грубом практическом разуме второй разум, тонкий, созерцательный, окрыленный, глядящий чистым и светлым оком голубицы. И Библия поэтому вечно зеленеющее плодоносящее дерево. И плоды этого дерева – тайно образующие символы».
В своих размышлениях Сковорода видит в образах-символах Библии путь духовного самопознания личности, проникновения в духовный мир, а не догматический сборник церковных наставлений. Библия здесь выступает в роли особой сферы реальности. Она оказывается тем универсальным символическим языком, с помощью которого можно добиться правильного понимания смыслов бытия и прийти к истинному познанию себя самого.
Примечательно то, что язык образов является для Сковороды универсальным языком Духа не только в Библии, но и писаний древних мудрецов. «Древние мудрецы, – пишет Сковорода, – имели свой язык особливый, они изображали мысли свои образами, будто словами…».
По глубокому его убеждению, истина с наибольшей силой раскрывается человеку лишь тогда, когда он преодолеет ее первоначальную сложность, загадочность, когда научается во внешнем «знамении» обнаруживать внутренний смысл, под скорлупой – ядро, под шелухой – зерно.
Итак – образ, образ фотографический. Но, сначала, о психологических аспектах дзен-фото.
«Художник конструирует, фотограф раскрывает».
(Сьюзен Сонтаг)
«Что такое индивидуальность, как не проявление нашего эгоизма?
Пока душа не избавится от него, она не может слиться с Абсолютом».
(Сомерсет Моэм)
РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЗЕН-ФОТОЗ
Изобретение фотографии и создание технического образа считается вторым переломом в человеческой культуре. Образ – это воображение, иллюзия, это отражение чувственного мира. Фотография позволяет запечатлеть мгновение жизни, одно только мгновение – нет ни до, ни после, есть только здесь и сейчас. Еще Августин Блаженный говорил, что настоящего не существует, есть только прошедшее и будущее, но тогда, в те времена, о возможности фотографировать настоящее даже не подозревали. А в любой фотографии есть настоящее, это мгновение между прошлым и будущим, и оно есть, оно запечатлено, оно отображает это мгновение. Отражает всё многообразие чувственного мира, которое свойственно событию или месту, запечатленному в фотографическом образе.
Французский философ и культуролог М.-Ж. Мондзэн приходит к выводу, что образ фотографии не только отражает чувственный мир, но и «фотография – инструмент объективации духа», его след. На фотографии, точнее в фотографии есть след Духа, фотография отражает душу фотографа. Если точнее, то фотография – это прямая речь нашей души, сито через которое окружающий мир входит в нас и возвращается в этот же мир в образах, которые мы материализовали в фотографиях. Каждый видит то, что может увидеть. Для нас это очень важно
Совершенно ясно, что фотограф снимает себя, свой внутренний мир. За всеми пейзажами, натюрмортами, портретами и другими жанрами сокрыт тот человек, который их создал. Точнее – его сущность. Фотография – это высказывание вашей души, но самая большая заслуга фотографии заключается в в том, что она запечатлевает именно мгновение, позволяя увидеть то, что увидеть практически невозможно.
И ещё есть одна важная деталь: оказывается, если смотреть на мир через объектив, то мир становится осознанным. Мы сотни раз видели цветы и бабочек, но всегда не так, как на фото. Мы каждый день видим закаты, но восхищаемся и теми, что опять же на фотографии. Всё это делает фотографию подлинным искусством, где в качестве соавтора присутствует ещё и душа человека, рассматривающего снимки, то есть наша с вами.
Образ в восприятии зрителя многозначен. Взгляд человека в качестве центра восприятия может ухватывать один элемент пространства, но затем, переключаясь на другой отрезок кадра, он может увлечься другим аспектом, который и станет центральной точкой восприятия. Это свидетельствует о том, что взгляд может устанавливать множественные связи с объектом. И если это характерно для отдельно взятой фотографии, то это будет характерно и для серии фотографий места или события. Когда мы говорим о фотографии, то, в первую очередь, имеем в виду Дух самого фотографа, который выбирает объект, создаёт свой образ увиденного в сознании и мышлении, затем пытается отразить этот образ в своём продукте, который может получиться совершенно отличным от задуманного варианта. Это, как правило, общая схема фотосъемки. Но я говорю о другой технике съемки. Той технике, которая позволяет «проявить» и Дух фотографирующего, и Дух места съемки. Речь идет о слайд-шоу, которое я называю «чанька».
«Западная логика является точным аналогом западной перспективы,
которая, исходя из одной единственной точки пространства,
проецирует ее по прямой линии на объект, исключая все другие
одновременно существующие аспекты и объективные данные».
(Лама А. Говинда)
Но вернемся к серии фотографий. В книге речь идет именно о них. О сериях фотографий какого-либо места или события. Такую серию можно назвать фоторассказ, фотозарисовка или фотоэтюд. Я называю ее «чанька». Почему «чанька»? От китайского чань-буддизм. В Японии это направление буддизма называют дзен-буддизм. Т.е. «чань» и «дзен» – это одно и то же. Слово чань\дзен образовано от «дхьяна» на санскрите – сосредоточение, созерцание, медитация. Таким образом чанька – это фоторассказ о месте или событии в форме слайд-шоу, который сделан в измененном состоянии сознания и на которую наложена музыка или песня.
Чанька – это именно серия: Все вместе фотоизображения чаньки работают как открытый ряд потому, что в открытом ряду один-единственный смысл не получает закрепления. Мы смотрим, и наше движение от одного изображения к другому не позволяет нам остановиться, чтобы сделать заключение, определить в точности, что это такое. Обычно понимание сводится к словам: «я знаю, что это такое», «это есть то-то и то-то». А в данном случае этого не происходит. Мы как бы постоянно проскакиваем саму возможность фиксации – наделения изображения, возникающего перед нами, единственным определяющим значением. Мы идем насквозь, движемся все время «через» или по месту. Это ситуация незавершенного – или открытого смысла: серийность предоставляет нам такого рода возможность. Но это возможность иного уровня восприятия. Здесь необходимо образно-интуитивное восприятие, которое обладает большим объемом творческого потенциала.
Обычное восприятие не разрешается в единый гармоничный опыт восприятия, если оставаться в пределах самого изображения. Для того чтобы получить целостный образ места или события, нам необходимо достроить его в своем восприятии. Иначе говоря, то единственное пространство, где все эти соседствующие элементы соединяются или, говоря точнее, где мы обретаем долгожданную полноту восприятия, является воображаемым местом. Этого места нет на фотографиях, но именно они побуждают выстроить его. Опять же мы имеем дело не с изображением, а, если угодно, с неким вынесенным топосом. И у этого хронотопа (пространства/времени) есть свой Дух места, который древние римляне называли «Гений места».
Вот здесь есть одна особенность. В каждой фотографии, как и чаньке в целом, присутствует невидимый фотографирующий. И то, что он может увидеть глазом – это область сознания, а то, что фотокамера фиксирует – область бессознательного. Таким образом, получаемую фотографию можно рассматривать не как определенный тип изображения, но как специфический метод, способ познания бессознательного.
А это, если разобраться, не что иное, как указание на герменевтическое измерение и отдельной фотографии. и чаньки. Это значит, что в чаньке есть некая истина, которую нам предстоит постичь, войдя в измененное состояние сознания (медитация, молитва и т.д.), т.е. «включить» бессознательное. В данном случае мы можем говорить о противостоянии идеального и материального. Точнее, не противопоставление, а видении в материальном идеальное. Как говорил Г.Скрврпрда – видеть в тексте Библии ее духовное содержание. Но вернемся к фотографиям.
Фотографии можно прочитать так, что поверхность кадра выступает некоей маской, или завесой. А это, если разобраться, не что иное, как указание на совершенно другое измерение фотографии. Это значит, что в чаньке есть некая истина, которую нам предстоит постичь, войдя в состояние измененного сознания, углубившись в свое бессознательное. В данном случае мы можем даже говорить о противостоянии идеального и материального, или разума и тела. Отсюда понятны постоянные призывы Г.Сковороды к «жеванию» образов Библии. Если сказать современным языком, то Сковорода призывает к медитации над символами-образами Библии. Именно это позволяет увидеть истинный смысл Божественного писания и прикоснуться к Истине.
Итак, мы удерживаем вместе два плана – план изображения и план, где фотография выступает в роли познавательного механизма, т.е. инструмента познания. Когда речь идет о репрезентации (изображении), имеется в виду то, что нам представлено, что явлено нашему взгляду. Но когда мы говорим о том, что фотография подразумевает и что не относится к порядку представимого, т.е. к самому изображению, то это уже то, что вчитывается нами в фотографии, но только не произвольностью интерпретации, а благодаря тому, что так называемый «решающий момент» как раз и открывает моменты познаваемости. Если немного упростить эту схему, то можно сказать, что восприятие фотографии это и то, что мы привносим от себя в ее восприятие и интерпретацию. Более того – это есть и необходимость, обусловленная культурно=историческим моментом и психическим состоянием фотографа, его бессознательным. Но это следует понимать и таким образом, что фотография все время существует как бы в двух планах: мы имеем дело с ее материальной данностью – фотография как объект, и в то же время фотография помогает ухватывать какие-то вещи, которые не сводятся к изображению. Это «невидимое» я называю «Дух места». Но для того, чтобы видеть это невидимое надо научится смотреть глазами души, ибо настоящий объектив фотокамеры – это сердце и душа фотографа. Именно они способны видеть Дух места.
«Genius loci (дух места. – лат.) подействовал на меня так сильно,
что я смог не только представить саму возможность жизни,
столь беззаветно посвященной Богу,
но даже, не без внутреннего содрогания, понять ее»
(Карл Густав Юнг)
Чанька «схватывает» Дух места. При этом воплощения Духа и его восприятие человеком многообразны. Они могут быть связаны с органами зрения – и тогда мы чувствуем особенную притягательность ландшафта, маленьких улочек в приморском городке или горной гряды; с органами слуха – своим очарованием обладает колокольный звон или даже городской шум; с органами обоняния – и тогда место может связываться с запахом свежевыпеченного черного хлеба или утреннего моря. В общем, огрубляя и упрощая, Духом места можно назвать едва ли любую индивидуальную черту, присущую той или иной локации на географической карте. И, конечно, при всей своей предельной индивидуальности, чувство Духа места имеет некие ассоциации, общие для многих людей, и способно меняться с течением времени или смещать акценты. Любое пространство имеет свой характер, а Дух места выражает его индивидуальность.
Но есть еще один момент, о котором следует сказать, если речь идет об окультуренных местах. Город, парк, монастырь или комплекс строений – все они еще и несут Дух своих создателей. В них опредмечен (объективирован) этот Дух. И задача фотографа – его распредметить и попытаться показать на фотографии. И если на отдельной фотографии это сделать достаточно трудно, то серией фотографий (чанькой) одного места, особенно если оно известно и достаточно популярное, гораздо проще.
Но и тут есть сложность. Если Дух места воспринимать зрением, органами слуха или обоняния, то тут работает память, а вот «распредмечивание» Духа в материальном объекте требует совершенно иной техники. Здесь требуется особая форма медитации и умственного состояния.
В японских боевых искусствах и художественной практике такое состояние называют «мусин». О нем и поговорим дальше.
«Когда конечное совершенство достигнуто, тело и его органы
действуют сами по себе, как им полагается, без вмешательства ума».
(Судзуки Тантаро)
Термин «мусин» – сокращение от «мусин но син». Выражение из дзэн-буддизма и его можно перевести как «ум без ума». Это значит, что ум не занят ни мыслями, ни эмоциями, и, таким образом, открыт для всего.
Что же конкретно имеется в виду? И почему для нас это важно? «Мусин» – состояние ума, при котором человек ни о чём не думает, не испытывает желаний, не делает предположений. Его разум чист и свободен, а потому текуч и спонтанен. Он не испытывает волнений, не подвластен эмоциям. Как понимаете, очень полезное состояние для мастеров боевых искусств. Но, разумеется, не только! «Мусин» – полезное состояние для творческих людей, практикующих разные виды искусства. В том числе и фотографию. А для дзен-фото особенно.
Состояние «мусин» хорошо описал дзен-буддийский монах и мастер боевых схваток на мечах Такуана Сохо (1573-1645) в своей работе «Освобождённый разум». В ней разные аспекты дзэн буддизма рассматриваются на примере практик боевых искусств. Описание ниже отлично объясняет, что происходит в голове бойца с мечем, когда он находится в состоянии «мусин»: «Когда мечник встаёт напротив своего противника, он не должен думать о противнике или о себе, не должен предугадывать движения меча в руках противника. Он должен просто стоять с мечом в руках, забыв о технике, действовать, подчиняясь своему подсознанию. Ему стоит забыть о том, что он мастер меча. И когда он совершит удар, ударит не человек, а сам меч из подсознания того, в чьих руках он находится».
Перефразируя цитату ее можно отнести к процессу фотосъемки. Это будет выглядеть приблизительно так: «Когда фотограф встает напротив объекта съемки, он не должен думать о фотографируемом или о себе, не должен предугадывать мгновение лучшего момента для фотосъемки. Он должен просто стоять с фотокамерой в руках, забыв о технике, действовать, подчиняясь своему подсознанию. Ему стоит забыть о том, что он фотограф. И когда щелкнет затвор фотоаппарата, то сфотографирует не фотограф, а сам фотоаппарат из подсознания того, в чьих руках он находится. Смысл здесь в том, чтобы действовать, не думая о действии. Это как ездить на велосипеде: когда научишься, будешь кататься, не думая о том, как катится велосипед.
В практике «мусин» разум и тело действуют сообща, но человек главным образом опирается на бессознательное.
Почему для нас архиважно вхождение в состояние сознания «мусин»? Не вдаваясь в полемику психологов разных школ и направлений о строении психического и взаимоотношений сознания, подсознания и бессознательного отмечу, что для нас ключевую роль играет то, что Истинное «Я», или Самость локализуется за пределами сознания, оно неосознаваемо. А куда мы его поместим – в подсознание, бессознательное, на стыке сознания и бессознательного, или в Сердце, не столь важно. Важно то, что в состояние «мусин» играет ведущую роль в процессе фотосъемки. Истинное «Я», или Самость «проявляет» себя в фотографии. А что такое Истинное «Я», т.е. Самость? Но, сначала, несколько слов об «Эго», осознаваемое как «Я».
«Привязанность к своему Эго, и власть чувств и идей над нами –
вот главная причина наших страхов, беспокойств и страданий».
(Будда)
«Постигать путь будды означает постигать себя,
постигать себя – забывать Эго, забывать Эго
означает становиться единством с Космосом».
(Судзуки Тантаро)
Эго (Я) – согласно психоаналитической теории, та часть человеческой психики, которая осознаётся как «Я» и находится в контакте с окружающим миром посредством восприятия. Эго является восприятием человеком себя как отдельной личности и осуществляет планирование, оценку, запоминание и иными путями реагирует на воздействие физического, духовного и социального окружения. Формируется в процессе социализации.
Эго можно образно представить, как кокон в середине которого находится Самость (Истинное «Я»). И если Самость дана нам с рождением, то Эго формируется в течение жизни. Этот процесс есть социализация человека, который позволяет ему адаптироваться к окружающей среде, занять подобающее место в социуме. Начало формирования Эго начинается в семье. Потом детский садик, школа, ВУЗ и т.д. Эго «впитывает» в себя фрагменты жизненного опыта, на него воздействует идеология, образование, пропаганда, реклама, мода, ПР, тренды общественной жизни, СМИ и т.д., и т.п. Формируется личность, а личность – это совокупность выработанных привычек и предпочтений, психические установки и характер, социокультурный опыт и приобретённые знания, набор психофизических особенностей человека, определяющих повседневное поведение и связь с обществом и природой. Также личность можно рассматривать как проявления «поведенческих масок», выработанных для разных ситуаций и социальных групп взаимодействия. «Личность» в переводе с древнегреческого языка означает «маска». Именно ее мы развиваем и укрепляем с самого детства, а не индивидуальность, как принято считать. Вместо того, чтобы быть самим собой, мы как в театре играем свои роли, где самоидентификация человека отождествляется с мнением о нем окружающих.
Но на каком-то этапе жизни у человека появляется то, что в христианстве называют «потребностью в стяжании Духа Святого». Ощущение, что бессмертие есть, но оно какое-то другое, а какое оно непонятно. И кто «Я» такой, тоже, в принципе, непонятно. И в чём смысл жизни: непонятно. И как устроено мироздание: непонятно. И почему в мире несправедливость: непонятно. И как должно быть по-справедливости –тоже непонятно. И вообще непонятно всё. Вот на этом этапе многие люди и их души очень уязвимы для всяких манипуляций, попадания в социальные группы, в том числе психологические, эзотерические «школы магии», религиозные секты, потому что слишком много плохо осознаваемых вопросов, стремлений, а информации масса (не самая, кстати, качественная и добросовестная масса). Фильтровать эту массу инфы можно только тогда, когда ты уже понял и осознал, что ищешь, а на определенном этапе жизни есть только непонятный зов и плохо приспособленная к интерпретации этого зова личность, которой общество навязало стремление к власти, славе, престижу. материальному достатку и прочим «прелестям».
Наверное, вот эта моя книга сейчас для тех, кто на этом этапе жизни. Дабы назвать словами то, что они ищут интуитивно. Ищут эти люди внятный голос своего Истинного «Я», образ своей души, способность отличать её голос от внешнего шума, ищут бессмертную часть самих себя, ищут свою «сродность» и свое сродное Дело. Карл Юнг, назвал это ищущее Самостью.
«Не завися ни от чего, ты должен найти
свое собственное сознание».
(Хуэй Нэнг)
Приверженцы разных психологических школ едины в своем стремлении обосновать существование в психике человека некоего гипотетического «органа», подобного органу физическому – который они могли бы называть «Самость». Я буду говорить о ней отталкиваясь от аналитической психологии Карла Юнга и его последователей.
К. Юнг определяет «Самость» как «единство личности как целого» – это «психическая целостность, состоящая из сознательных и бессознательных содержаний» и, таким образом, она – «лишь рабочая гипотеза», поскольку бессознательное не может быть познано. В других работах, будучи еще в поисках этого определения, Юнг обозначает этим термином то бессознательную психику, то совокупность сознательного и бессознательного, которая не есть Эго. В любом случае, здесь предполагается возможность диалога между Эго и Самостью, в котором Самости отводится роль «короля».
По мнению Юнга, цель психического развития состоит не в том, чтобы Эго «подчинило» себе бессознательное, а в том, чтобы оно признало силу Самости и уживалось с ней, приспосабливая свои действия к потребностям и желаниям своего бессознательного партнера. Он утверждал, что Самость обладает мудростью, превышающей понимание отдельным человеком себя, поскольку Самость одного человека связана с Самостями всех остальных человеческих (а возможно, и не только человеческих) существ.
Для Юнга Самость первична: она приходит в мир первой и уже на ее основе возникает Эго. Она первична ещё и в том смысле, что это более широкое понятие, чем Эго; кроме того, она постоянно, на протяжении всей жизни, подпитывает творческие силы психики. Она кажется неистощимой – ведь нам становится известной лишь та её часть, что проникает в наше сознание, и мы никогда не сможем оценить весь спектр её возможностей. Но мы по опыту знаем, что именно Самость «правит» в нашей жизни. Можно сказать, что именно ее потребности, желания и замыслы определяют то, какой будет наша жизнь: чем мы будем заниматься, с кем вступим – или не вступим в брак, какими болезнями заболеем, вплоть до того, когда и как умрём. Это как в теории хаоса, принятой в современной физике: в кажущейся случайности и неупорядоченности жизни скрыта глубокая упорядоченность и целенаправленность. Я называю эту Самость по происхождению «родовой матрицей» и она является важнейшей составной частью нашей психики.
Юнг часто очеловечивает Самость, говоря о ней как о личности, живущей внутри бессознательного и имеющей собственные цели и устремления. Самость, пишет он, «это, так сказать, как бы, «тоже» наша личность» Он пытается отделить от «второго Я» (Эго) эту «бессознательную» личность, возможно, «спящую» или «грезящую».
По мысли Григория Сковороды, Сердце есть «истинный человек» (Самость), а вся внешняя наружность в человеке не что иное, как маска. Внешний человек, преображаясь во внутреннего, постигает суть бытия, постигает Абсолют. Здесь открывается подлинная метафизическая реальность: в глубине своего Сердца человек находит Бога, и только Бог (Абсолют) может измерить бездну человеческого сердца. Г.Сковорода пишет: «Истинный человек есть сердце в человеке, глубокое же сердце и одному только Богу познаваемое не что иное есть как мыслей наших неограниченная бездна, просто сказать душа, то есть истое существо, и сущая истина, и самая эссенция (как говорят), и зерно наше, и сила, в которой единственно состоит (сродная) жизнь и живот наш».
Если мы представляем себе Самость именно таким образом, это значит, что мы всерьез прислушиваемся к ней, как к другому человеку, ожидая от него целенаправленных, разумных действий, компенсирующих привитые культурой установки сознания. Мы можем говорить о ином восприятии реальности. Св. Исаак Сирин писал: «Потщись войти во внутреннюю свою клеть и узришь клеть небесную; потому что та и другая – одно и то же, и, входя в одну, видишь обе. Лествица оного царствия внутри тебя, сокровенна в душе твоей».
А вот что говорит писатель и поэт Дмитрий Быков (иноагент) о своем Истинном «Я» и его отношении к Эго. Стихотворение написано без разбивки на строчки, но внутренне организованно ритмически и посредством рифмы, что придает ему еще большую интимность:
«Жил не свою. Теперь кукую, все никак не разберу – как обменять ее? В какую написать контору.ру? Мол, признаю, такое горе, сам виновен, не вопрос, был пьян при шапочном разборе, взял чужую и унес, и вот теперь, когда почти что каждый вздох подкладку рвет, – прошу вернуть мое пальтишко, а в обмен возьмите вот. Я не сдавал ее в кружало, не таскал ее в кабак. И не сказать, чтоб слишком жала, – проносил же кое-как до тридцати семи неполных, не прося особых прав, не совершив особо подлых и не слишком запятнав. Тут брак какой-то, там заплата, что хотите, крепдешин. Тут было малость длинновато, извините, я подшил. Но, в общем, есть еще резервы, как и всюду на Руси. Иные чудища стозевны скажут – сам теперь носи, но до того осточертело это море дурачья, получужое это тело и душа незнамо чья, и эти горькие напитки (как ни бился, не привык), и эти вечные попытки приспособить свой язык, свои наречия, глаголы и служебные слова – под эти проймы, эти полы, обшлага и рукава, но главное – под эти дырки, дешевый лоск, ремень тугой… И «Быков» вышито на бирке. Но я не Быков, я другой! Причем особенно обидно, что кому-то в стороне так оскорбительно обрыдла та, моя! Отдайте мне! Продрал небось, неосторожный, понаставил мне прорех, – а ведь она по мерке сложной, нестандартной, не на всех, хотя не тонкого Кашмира и не заморского шитья… Она моя, моя квартира, в квартире женщина моя, мои слова, мои пейзажи, в кармане счет за свет и газ, и ведь она не лучше даже, она хуже в десять раз! И вот мечусь, перемежая стыд и страх, и слезы лью. Меня не так гнетет чужая, как мысль, что кто-то взял мою, мою блистающую, тающую, цветущую в своем кругу, а эту, за руки хватающую, я больше видеть не могу.
Но где моя – я сам не ведаю. Я сомневаюсь, что в конце она венчается победою и появляется в венце. В ней много скуки, безучастности, что вы хотите, та же Русь – но есть пленительные частности, как перечислю – разревусь. Я ненавижу эти перечни – квартира, женщина, пейзаж, – за них хватаюсь, как за поручни в метро хватается алкаш; ну, скажем, море. Ну, какая-то влюбленность, злая, как ожог. Какой-то тайный, как Аль-Каеда, но мирный дружеский кружок. А впрочем, что я вам рассказываю, как лох, посеявший пальто, – про вещь настолько одноразовую, что не похожа ни на что? Похожих, может быть, немерено, как листьев, как песка в горсти. Свою узнал бы я немедленно. Куда чужую отнести?
Теперь шатаюсь в одиночку, шепча у бездны на краю, что все вовлечены в цепочку, и каждый прожил не свою. Сойтись бы после той пирушки, где все нам было трын-трава, – и разобрать свои игрушки, надежды, выходки, права! Мою унес сосед по дому, свою он одолжил жене, она свою дала другому, – и чья теперь досталась мне? Когда сдадим их все обратно, сойдясь неведомо куда, – тогда нам станет все понятно, да фиг ли толку, господа».
Конечно же, в действительности представление о сознании и бессознательном носит фигуральный характер речевого выражения, ибо психика не имеет «слоев», выделяемых в сознании. Сознание, как его рассматривает, скажем Налимов, не есть целое с какой-либо структурной раздробленностью. Но, с точки зрения практического объяснения, теория двухструктурного уровня весьма удобна.
А Путь к Сердцу (Самости) необходимо пройти и этот Путь К.Юнг называл «индивидуация».
«Но когда дело касается личного опыта, собственных переживаний,
тогда все, что может сделать учитель, – это дать ученикам понять,
что они во тьме лабиринта, и единственное, на что они могут
уповать, это то, что лежит гораздо глубже интеллекта и у других не занять».
(Дзягю Тадзима)
Говоря о Самости Юнг часто использует образ спирали: мы движемся, вращаясь в пределах своего Эго вокруг Самости, постепенно приближаясь к центру, снова и снова встречаясь в разных контекстах и под разными углами, с сердцевиной своей Самости. Этот процесс есть не что иное, как самопознание, постижение собственного Истинного «Я», т.е познания своей Самости. К. Юнг говорит об Индивидуации, т.е. пути всё более и более полного осознания самого себя. Пройти путь индивидуации – значит стать неразделённым индивидуумом, и поскольку индивидуальность охватывает нашу сокровенную, самую глубокую, ни с чем не сопоставимую уникальность, индивидуация также подразумевает постижение собственной Самости, приход к самому себе. Мы можем, таким образом, перевести с языка К. Юнга слово «индивидуация» как «становление индивидуальности», «самопознание», «самореализация» или постижение своего Истинного «Я».
В самых общих чертах процесс индивидуации врожден человеку и развивается по единой модели. Он делится на две взаимно независимые, контрастные и дополняющие друг друга части, которые совпадают с первой и второй половинами жизни. Задача первой половины – «инициация», посвящение во внешнюю действительность». На этом этапе процесса индивидуации, благодаря укреплению «Я», выделению основной функции и доминирующей установки, развитию соответствующей «маски» достигается адаптация индивида к требованиям окружающей среды. Что же касается второй половины жизни, то её задача состоит в «посвящении во внутреннюю действительность», то есть в углубленном самопознании и познании человеческой природы, в рефлексии над теми чертами собственной природы, которые прежде оставались неосознанными или в какой-то момент сделались таковыми. Делая их достоянием сознания, индивид устанавливает внутреннюю и внешнюю связь с миром и космическим порядком. Или, говоря другими словами, с Дао, Богом, Космическим разумом…
Есть множество примеров, когда вполне состоявшиеся люди, имеющие достаток, серьезный статус в обществе и прочие достижения вдруг все бросали и начинали жизнь с нуля. Таких людей мало и действуют они, как правило, спонтанно. Скажем так, в основе философии дауншифтинга лежит отказ человека от навязанных обществом целей и стремление к духовному совершенствованию. С.Моэм начинает свой рассказ «Вкусивший нирваны» о «дауншифтинге» Томаса Уилсона (управляющего отделением «Йорк и Сити» банка на Крофорд-стрит) так: «Люди в большинстве, – собственно говоря, в подавляющем большинстве, – ведут ту жизнь, которую им навязывают обстоятельства, и хотя некоторые тоскуют, чувствуют себя не на своем месте и думают, что обернись все иначе, так они сумели бы себя показать, прочие же, как правило, приемлют свой жребий если не безмятежно, то покорно. Они подобны трамваю, который вечно катит по одним и тем же рельсам… И не так часто встречаешь человека, который сам смело определил ход своей жизни…»
Именно так поступил американский философ, профессор Джордж Сантаяна, поселившийся вдалеке, в Италии, в прекрасном уединении. Будучи преподавателем в Гарвардском университете в его Золотой век, однажды утром он заметил своим студентам: «Джентльмены, весна», – и покинул аудиторию, чтобы никогда в нее больше не возвращаться.
Путешествуя по Индии, Таиланду, Индонезии или Филипинах мне достаточно часто приходилось встречаться с такими людьми. Даже некоторое время жить вместе с ними.
Расскажу о духовной атмосфере (Духе места) в рыбацкой деревне Арамболь Северного Гоа (Индия).
В 60-х годах XX века молодежь из движения хиппи, которое тогда распространилось в США и странах Европы, стала массово приезжать в Индию, страны Юго-Восточной Азии, в том числе и в Гоа, чтобы наслаждаться морем, солнцем, организовывать концерты, заниматься самопознанием, ходить голышом и вести, в целом, беззаботную жить. Основным занятием для них стало духовное развитие, выражающееся в тех или иных духоных практиках. Зародилась традиция – восхищение гоанским закатом. Эта традиция и сегодня объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий. Созерцание и медитация во время заката, когда солнце медленно погружается прямо в океан местные и приезжие Искатели называют «тачдаун».
И сейчас дух хиппи живёт в Арамболе, куда приезжают люди со всего побережья Гоа – чтобы медитировать, танцевать, играть на барабанах, покупать и продавать рукотворные художественные изделия, ощущать дух свободы и радости.
В любой день вы встретите на пляже умудрённых опытом, но молодых душой хиппи, которые до сих пор живут в Арамболе или приезжают сюда уже со своими внуками, так и не сумев найти лучшее место для своей души.
Говорят, что в Арамболе музицировали сами The Beatles. Возможно это лишь слух, легенда, так как никто точно не скажет, правда это или нет.
Позже, в 70-е годы прошлого века Арамболь, который тогда еще называли Хармалом, стал популярен не только среди хиппи. Сюда съезжались дауншифтеры, йоги, дервиши сыроеды и другие нестандартные личности со всех уголков земли. Он и сейчас остается местом Силы и отличным местом для «дикарей» и самостоятельных туристов, не располагающих большими материальными средствами.
Одной из достопримечательностей Арамболя является огромный старый баньян (священное дерево буддистов) под которым живет Баба. Словом Баба (ударение на последний слог) индусы обозначают иудреца, Учителя, старейшину, уважаемого человека, отца и т.д. Осмелюсь предположить, что тот Баба, который сидит под деревом в Арамболе, вероятно полностью соответствует этому ёмкому индийскому слову.
Пройдя от береговой линии вглвь и углубившись в джунгли по натоптаной тропинке, вы рано или поздно должны будете услышать бой барабанов, людские голоса и стойкий запах гашиша – всё, вы на месте. Попадая сюда впервые не понимаешь, как себя вести и что делать, но на самом деле все просто, ведите себя естественно не забыв снять перед входом на площадку под баньяном обувь.
Если вам повезет и в момент вашего прихода не будет очередной туристической группы, то вы сможете понаблюдать за естественными эмоциями главного персонажа и его окружения. Во время наплыва туристов они ведут себя более сдержанно и более цивилизовано.
Публика под арамбольским баньяном не сильно отличается от основной арамбольской, той что каждый вечер провожает солнце и целую ночь танцует под барабаны, но вокруг Бабы сконцентрированы самые яркие и запоминающиеся жители Арамболя.
Каждый за своим приходит к арамбольскому Бабе. Те, кто считают его святым, приходят задать свои вопросы, в надежде на то что молчаливый старик ответит на всё и сразу. Те, кто любит экспериментировать с запрещенными веществами приходит к Бабе для совместных экспериментов. Для Искателей вечных истин и просветления, у Бабы тоже найдется место под баньяном.
Я пришел к нему с бутылкой русской водки, которую Баба тут-же разбавил водой в большой чаше, и она пошла по кругу всех собравшихся.
Тут нет четких правил, явных ограничений, каждый вправе провести ровно столько времени сколько ему нужно, каждый вправе делать то что считает верным. Иногда из-за подобных вольностей под баньяном случаются всякие неприятные инциденты и в гости приходят полицейские, но это уже совсем другая история.
Сам Баба вызывает противоречивые эмоции, с одной стороны это явный аскет, который отказался от всего мирского, но на запястье надеты дорогие механические часы, он говорит добрые слова, но имеет хитрый, смеющийся взгляд и т.д.
В моменты отсутствия организованных групп туристов жизнь под баньяном более колоритна, а с ней колоритен и уважаемый Баба. Курения чилима, пение и игра на всевозможных музыкальных инструментах чередуется с пятиминутками полного безмолвия и покоя, но уже через несколько минут всем надоедает молчать и начинается все по новой, курение, пение, барабаны и т.д.
Самое интересно начинается, когда приходят (вернее их приводят) туристы. Большинство пришедших явно не понимают куда они попали, зачем все эти люди и что за ароматические палочки издают такой приятный запах. Баба или кто-то еще жестом приглашает войти внутрь и начинается обмен дарами.
После принятия даров от Бабы туристы начинают задавать вопросы, некоторые даже просят снять боль и после всех уверяют, что боль прошла. Не видя поблизости кассы, туристы дают символический донейшен и расспрашивают проведшего их гида, немного ли они заплатили. Все сопровождается фото и видео съемкой для семейного архива, который они и сами не пересматривают. Через пятнадцать минут туристы уходят, а им на смену приходит новая группа и так может продолжаться целый день.
Здесь очень интересный момент, когда в одном пространстве сходятся какки-то древние традиции и сосвременность. Дух места постоянно меняется у вас на глазах.
Слово «дауншифтинг» заимствовано из лексикона автомобилистов – так называется переключение коробки передач на меньшую скорость. Но как гласит поговорка: «Тише едешь – дальше будешь», т.е. при таком ритме достигнешь большего, нежели новая машина, яхта и замок, а именно – найдешь себя и гармонию с самим собой.
Цель дауншифтера не бросить работу, а делать работу по душе и не быть отчужденным от результатов своего труда. Увы, в условиях капитализма люди на это могут рассчитывать только будучи уже экономически независимыми и то, лишь отчасти. Свободным от системы не может быть никто.
Недовольство существующей системой общественных отношений и сознание невозможности ей противостоять приводит к такого рода бунтарству и одновременно к вынужденной адаптации в рамках этой же системы. Тем не менее дауншифтинг явление, хотя и буржуазное по происхождению, не только протестное по форме, но и антибуржуазное по сути. Собственно, на чем основана идеология шифтинга? На идее освобождения человека от такой формы труда, которая разрушает его личность, от такого труда, который превращает человека в вещь, который делает его рабом вещей. Об этом много говорил еще К.Маркс.
Ярким примером такого бунтарства и преображения является жизнь Пётра Мамонова (1951-2021) – советского и российского рок-музыканта, певца, актера, поэта, радиоведущего. Он также известен по музыкальной группе «Звуки Му», кинофильмам и моноспектаклям.
В середине жизни он написал: «У меня был полный крах жизни. Я упёрся рогом в сорок пять лет, когда у меня и бабки были, и слава, и дети, и жена хорошая. А жить мне стало незачем». Выход из сложившейся тяжёлой ситуации он нашёл в православном христианстве. «Стал думать, для чего вообще жить, для чего мне эти отпущенные семьдесят— или сколько там – лет жизни. А прапрадед мой был протоиереем собора Василия Блаженного. Дай, думаю, куплю молитвословчик, посмотрю, о чём они там молятся». С тех пор он занялся самосовершенствованием в православии, стал регулярно посещать местную церковь, исповедоваться и молиться. Думаю, что глубинной сутью духовных поисков Мамонова был исихазм. И в фильме Лунгина «Остров» он сыграл самого себя, как монаха-исихаста.
Таким образом можно сказать, что самые широкие интересы в жизни – в познании сути своей природы, своего Истинного «Я», а все остальное проистекает отсюда. Когда человек разберется в себе, почувствует, что из коротких штанишек прошлых удовольствий он уже вырос, и захочет примерить большие, то вполне возможен дауншифтинг, который можно рассматривать как этап к апшифтингу – полному отказу от прошлой жизни. Но апшифтинг свойственен только «радикалам» в поиске себя.
Но «дауншифтинг» и «апшифтинг» – подъем вверх, не уход от своих желаний, но наполнение их всех. Для этого нужно знать, что, собственно, мне нужно, т.е. познать свое Истинное «Я». А потом и понять, как наполнять свой кувшин желаний и как сделать его бездонным.
Еще один пример. Эпизод из собственной жизни. После окончания философского факультета Киевского университета я начал преподавать марксистско-ленинскую философию в Львовском политехническом институте. С одной стороны, мне открывалась перспектива карьерного роста и достойное место в обществе. Кандидатская, а потом докторская диссертации, деньги, уважение, почет и прочие блага, а с другой стороны было какое-то внутреннее чувство недовольства. Мое понимание философии расходилось с тем, что я был вынужден говорить студентам. Это выливалось и глушилось пьянками с несколькими товарищами по цеху. Я был в системе. Оставалось смириться, или попытаться из нее выйти. Последней каплей в пользу выбора второго варианта стал мой доклад о философских аспектах творчества Владимира Высоцкого на кафедральном теоретическом семинаре. Точнее, не доклад, а реакция на доклад основной части моей философской братии (это был конец 1980 года). Последовали заявление в партком института, донос в КГБ, душедробибельные беседы с руководством кафедры и секретарем партийной организации, ну и т.д. Плюс семейные проблемы. Я плюнул, взял билет и улетел на Крайний Север. Поменял работу преподавателя философии в институте на должность электрика в Сургутском отделении Тюменьэнергоспецремонта. Так начались мое странничество и поиски себя. Тут есть примечательный момент. В Сибирь, на Дальний Восток или Крайний Север в те времена ехали не только «за туманом», «за запахом тайги», «за деньгами», но и за свободой от идеологического пресса. За свободой от «Системы».
Игнорируемые прежде или казавшиеся неприемлемыми аспекты Истинного «Я» достигают сознания; устанавливается контакт. Мы перестаём быть домом, перегороженным на отдельные изолированные друг от друга части; становимся индивидуальностью, нераздельным целым. Наше Истинное «Я» становится реальным, приобретает фактическое, а не только потенциальное существование. Оно существует в реальном мире, «реализуется» – как говорится об идее, воплощённой в жизнь.
А вот как описывает этот процесс Григорий Сковорода. Внешний человек, преображаясь во внутреннего, постигает суть бытия, постигает Бога (Абсолют). Здесь открывается подлинная метафизическая реальность: в глубине своего Сердца человек находит Бога, и только Бог может измерить бездну человеческого сердца. «…Истинный человек есть сердце в человеке, глубокое же сердце и одному только Богу познаваемое не что иное есть как мыслей наших неограниченная бездна, просто сказать душа, то есть истое существо, и сущая истина, и самая эссенция (как говорят), и зерно наше, и сила, в которой единственно состоит (сродная) жизнь и живот наш».
Внутренний человек Сковороды – это то, что составляет суть каждого человека. По мысли философа, Бог дал план и миру, и человеку. И он настаивает на том, что внутренний человек – это не некая абстрактная идея человека, но новый человек, в которого преобразился старый. Этого нового человека каждый должен в себе открыть, хотя он уже есть изначально в каждом. Сковорода противопоставляет тело «земное» и «тело духовное, тайное, «вечное», новую руку, скрывающуюся в старой, новое сердце и т.д., и этими противопоставлениями придает понятию «внутренний человек» личностный характер, подчеркивает его индивидуальность, такую же полную, как индивидуальность эмпирического «старого» человека. И старое, и новое, согласно Сковороде, – целостности, но разной природы. Новый, внутренний человек – это смысл, цель, стремление, направление жизни для старого.
Вот здесь возникает вопрос. Как постичь этого «внутреннего человека», Самость, свое Истинное «Я»? Выше уже отмечалось, что способов есть много. Многие мудрецы, духовные Учителя и философы отвечали на этот вопрос. Не только отвечали, но и предлагали конкретные пути самопознания. Грубо говоря их можно свести к тем или иным формам медитации. Но медитация дело трудное и не у каждого хватит терпения часами сидеть в позе лотоса.
Предлагаемый Путь основан на специфической медитативной практике с использованием, как инструмента, дзен-фотографий и перепросмотра медитативных слайд-шоу (чанек).
Но, сначала о технике получения дзен-фото.
«Зрение свой мир сотворило».
(Р.М. Рильке)
РАЗДЕЛ 2. ФОТОКАМЕРА И СЪЕМКА В СТИЛЕ ДЗЕН-ФОТО
Прежде чем говорить о психотехнике фотографирования в стиле дзен, определимся с техническими понятиями и правилами.
Сначала несколько слов о фотокамере.
«Камера для меня – альбом для рисования,
инструмент интуиции и спонтанности».
(Анри Картье-Брессон)
1. Совершенно неважно, на что снимать. Ваш фотоаппарат может быть любым. Это может быть даже камера на телефоне.
2. То, на что сделан кадр, не влияет ни на ценность снимка, ни на его суть Вы можете снимать на телефон, на пленочный фотоаппарат, на «зеркалку» и «беззеркалку». Хорошие у вас фотографии или плохие – зависит не от этого. Да и цель у вас иная, а не просто сделать хорошую фотографию.
3. Вместе с тем техника сильно влияет на эстетику кадра. У пленочной фотографии есть свой язык – точно так же, как у мобильной или цифровой фотографии есть свой.
4. Фотография одного и того же объекта, снятая на телефон с плохой передачей цвета и на крутую беззеркальную камеру, – это просто две разных фотографии. Первая, безусловно, будет уступать второй с технической точки зрения. Но может быть и так, что объекту, запечатленному на фото, гораздо больше соответствует язык и эстетика мобильной фотографии – в этом случае технически «плохой» снимок может оказаться сильнее технически безупречного кадра. Особенно это заметно при реализации наших целей.
5. Именно поэтому гонка за правильной экспозицией, идеальным фокусом, балансом белого и ровным горизонтом по большому счету не имеет смысла. Технические характеристики – это средство, а не цель. Нужно знать возможности и особенности своей камеры и просто использовать их.
6. Вообще, если немного упростить, то общее правило такое – навороченная техника, ультрадорогие объективы – это устройства, предназначенные для съемки материала, который потом пойдет в журналы и на рекламные билборды, на фотовыставки и конкурсы фотографического мастертва. Если вы собираетесь использовать фотографии как инструмент самопознания и создания чаньки, вы можете сильно сэкономить.
7. Благодаря дзен-фото я открыл для себя минимализм. Это меньшее, что является бо́льшим. Чтобы иметь больше, нужно чтобы было меньше. Я понял, что чем меньше и компактнее камера, чем легче она и дешевле – тем лучше. Чем меньше мой фотоаппарат, тем больше шансов, что он поместится в мой карман и всегда будет под рукой в «решающий момент». Чем легче будет камераы, тем больше я смогу ходить и снимать ею без усталости. Чем фотоаппарат меньше и с менее вычурным дизайном, тем больше я смогу сосредоточиться на спонтанной съемке. Но не только это. Чем проще камера, тем меньше «сложностей» она создает в процессе съемок на улице, чем «обычней» ее вид, тем меньше она пугает людей.
8. Современные камеры дают огромные возможности для творчества. Будет очень полезно, если вы освоите ручные настройки. Особое внимание следует уделить диафрагме (регулятору диаметра отверстия объектива); выдержке (как долго затвор остается открытым) и ISO (чувствительности матрицы камеры или пленки к свету). Это главные инструменты работы с камерой. Найдите хорошую книгу, видеоуроки или курсы, которые научат вас основам фотографирования. Освоив настройки камеры, вы сможете снимать в ручном режиме, использовать приоритет диафрагмы или выдержки, контролировать экспозицию, глубину резкости и использовать имеющиеся возможности для фотографирования движущихся объектов. Узнайте, как работает экспонометр вашей камеры, как замерять экспозицию и контролировать настройки автофокуса, чтобы объект представал в фокусе или вне фокуса по вашему желанию. Телефонных камер это тоже касается. Освойте настройки, предусмотренные в вашем смартфоне. Если встроенные возможности ограниченны, есть много приложений, позволяющих расширить функциональность камеры. Даже с камерой телефона стоит познакомиться поближе, чтобы снимать быстро и интуитивно.
9. Очень важно быть с камерой на «ты». Она становится продолжением ваших рук и глаз, и вы уже не бьетесь с настройками в момент съемки, когда от вас требуется быстро запечатлеть стремительно меняющийся объект
10 Если вы собираетесь купить фотоаппарат, стоит подождать до тех пор, пока у вас не появится некоторый опыт. Камер много, каждая предназначена для конкретной цели. При покупке мы учитываем такие факторы, как портативность, вес и размер, число пикселов, формат сенсора, качество объектива, простота в использовании, репутация бренда, цена, возможность ремонта и многое другое. Я стараюсь не рекомендовать конкретные модели камер и объективов, пока не пойму, для чего человеку они нужны. Прежде чем что-то покупать, ответьте себе на этот вопрос.
Для наших целей подойдет любая камера – фотоаппарат с ручными настройками или смартфон, желательно последнего поколения. Позже вы можете перейти на более продвинутую модель – всё зависит от того, что вы снимаете, что видите и какие технические потребности возникнут у вас со временем.
«Великая фотография – это глубина ощущения,
а не глубина резкости».
(Питер Адамс)
Современные камеры дают огромные возможности для творчества. Будет очень полезно, если вы освоите ручные настройки. Есть много отличных книг и онлайн-ресурсов по технике фотографии. Ознакомьтесь с ними. Но я, как правило, снимаю в автоматическом режиме. Есть импульс из подсознания – «щелк». Никаких раздумий, выбора ракурса, настроек. Фотографирую спонтанно, часто «от бедра» (если в кадре есть люди). Но это уже дело опыта.
«Важен не алфавит. Важно то, что вы пишете,
что вы выражаете.
То же самое относится и к фотографии».
(Андре Кертес)
Возвращаемся к Духу места. Попытаюсь определить это понятие.
Дух места – это материальные и нематериальные (идеальные) места и их составные части которые люди наделяют значением, ценностью и эмоционально на них откликаются. Дух места – это всегда конкретное, определенное место. Оно обладает не только объективными, фиксируемыми параметрами, наличием или отсутствием истории, но и индивидуальным характером, духом, который можно только почувствовать, уловить на иррациональном уровне.
В чем же заключается Дух места? Чтобы ответить на этот вопрос надо рассмотреть взаимоотношения между Духом и Местом, между материальным и идеальным. Часто допускается, что Дух места происходит из одного или другого, т.е. возникает либо из Гения его создателя (отдельной личности, группы, сообщества, прародителя или даже сверхъестественного существа), постоянным присутствием которого отмечено это место, либо берет начало из самого места, что наделяет определенным значением как его создателя, так и его пользователей. Но часто люди отделяют Дух от места, нематериальное от материального. И рассматривают их как две противоположности. Но это делать не стоит.
Дух места имеет множественный и динамичный характер, способностью обладать многозначностью, меняться во времени и принадлежать разным социальным группам.
Но тут возникает вопрос. Как, каким образом, при каких условиях контекста передается или постигается Дух места? О психотехнике фотосъемки поговорим позже. А теперь о факторах, которые так или иначе влияют на восприятие Духа места.
Существенным оказываются звуковые составляющие окружающего мира. При этом очевидно, что в сельской местности или любом городе они будут различаться. Шелест листвы, пение птиц, далекая музыка, шум моря, местный говор людей и многое другое, цепляясь друг за друга, оживляют память и подсказывают разные моменты съемки.
Запах также характеризует определенный ландшафт, будь это сельская местность с ее специфическими атрибутами – просторами полей и лугов, запахами трав, леса, животных. На городских улицах человек ощущает другие запахи – запах бензина, духов, запах открытой кофейни и т.п. Одни писатели блестяще описывали природный или городской ландшафт, а другим удавалось блестяще передать ощущения их вкуса и запаха. Борис Пастернак передал в стихах и прозе Дух своего любимого места – дачи в Переделкино. Читая его стихи, вы можете ощущать Дух этого места.
Все эти элементы, важные составляющие ландшафта и влияют на наше духовное восприятие. Этот Дух можно передать в художественном произведении – в рисунке, живописи, фотографии или музыке. Но основным способом восприятия Духа места является состояние мусин. А в это состояние требуется войти. При этом необходимо иметь ввиду, что восприятие Духа места у разных людей может быть совершенно разное. Связано это с тем, что разные люди воспринимают окружающую действительность по-разному. Причиной тому являются разные факторы – от возраста и содержания Самости, до уровня образования, культуры, жизненного опыта, подсознательных установок и т.д. Восприятие Духа места всегда индивидуально и Дух места всегда сливается с этим индивидуальным Духом. Наша задача –вычленить индивидуальный Дух фотографа. А для этого необходимо войти в измененное состояние сознания, состояние – мусин. Как войти? В нашем случае это медитация.
Когда спокойно наше тело, успокаиваются и наши чувства.
Дыхание ровное и спокойное, мускулы расслаблены,
и наш ум естественно становится медитацией.
(Тарсанг Тулку Ринпоче)
РАЗДЕЛ 3. МЕДИТАЦИЯ, МЕДИТАЦИЯ, МЕДИТАЦИЯ…
«Медитация – это дверь к безмерной силе.
Медитация – это дверь к сверхсознанию».
(Сан Лайт)
Под термином «медитация» понимается широкий круг психических состояний и порождающих их техник, зачастую радикально отличающихся друг от друга. Поэтому любая работа, в которой используется термин «медитация», должна содержать в себе уточнение, определяющее, в каком смысле употребляется это понятие. В дальнейшем под медитативными состояниями я буду понимать состояния, аутогенные (самопорождающееся) по своему происхождению, интровертные (направленное внутрь) по направленности, спонтанные (произвольные) по протеканию, характеризующиеся тем, что не чувственные компоненты психики управляют движениями смыслов, а смыслы спонтанно формируют чувственную ткань.
Существует множество техник медитации. В большинстве традиций во время медитации практикующему обычно требуется принять определённую позу. Объектом концентрации внимания служат ощущения внутри организма, внутренние образы, реже эмоции. Объектом концентрации может быть также внешний физический предмет. Медитация может сочетаться с дыхательными упражнениями. Существуют и динамические медитативные (танцевальные) техники – кружение суфиев, медитации Ошо Раджниша и др.
Медитативное состояние относится к категории измененных состояний сознания. Оно более организовано, чем любые нормальные состояния сознания. И если на первых этапах медитативного состояния есть визуальные, звуковые и иные формы как объекты внимания, то на более глубоком уровне они «растворяются» и интенсивно переживаются смыслы как таковые, смыслы, лишенные формальных оболочек.
В нормальных состояниях сознания смыслы тесно связаны с выражающими их формами и манипуляция смыслами происходит за счет манипуляции формами. Факт удержания смысла или перехода от смысла к смыслу фиксируется переходом от формы к форме (словесной, визуальной, тактильной и любой другой). Для того, чтобы перейти от смысла, скрывающегося за ломаной линией к смыслу, выраженному кругом необходимо перейти от исходной формы (ломаной линии) к результирующей (кругу). В медитативном состоянии смысл удерживается и переходит в другой смысл вне формальных соответствий, наоборот, спонтанный смысловой поток может формировать те или иные символы как концентрированные и совершенные выражения смысла. Но это результат медитативного состояния, а не его характеристика. Да и уровень погружения в медитативное состояние должен быть достаточно глубоким.
У самых разных школ медитации есть два общих компонента, которые в терминологии буддийской психо-культуры описываются как:
1) «шаматха» (пали «саматха»), что можно перевести как «безмятежность», «мир», «внутреннее спокойствие», умственное и/или физическое. Достигается оно, как правило, концентрацией внимания на том или ином объекте.
2) «випашьяна» (пали: «випассана»), что можно перевести как «осознанность», «созерцание», «видение мира таким, какой он есть», а не таким, каким мы хотели бы или не хотели бы его видеть. Достигается путем деконцетрации внимания или переходом с глубокого уровня шаматха.
В китайской культуре практики шаматха/саматха и випашьяна/випассана называют Джи-Гуань. Вот об этой технике и будем говорить дальше.
«Благодаря медитации мы можем прикасаться
к материи пространства и времени».
(Дхалсим)
О древней практике чжи-гуань (на языке пали – ««саматха-випассана», на санскрите «шаматха-випашьяна») говорить трудно. Уж слишком много о ней написано и описано много техник. Можно только сказать, что она является мощным средством вхождения в состояние мусин, получения дзен-фото и постижения своего Истинного «Я». Помогает управлять своими эмоциями, избавляться от негативных мыслей, пребывать всегда в хорошем настроении и познавать себя и окружающий мир в совершенно иных красках.
По своей сути практика Чжи-Гуань – лишь развитие обычных для нас навыков концентрации внимания и созерцания, но до очень тонкого и высокого уровня, недоступного современному человеку, погруженному в суету своих сиюминутных забот и дел. Да и требует эта практика выхода за пределы своего Эго, а дело это весьма трудное.
Медитация чжи-гуань появилась в Китае в традиции тяньтай, одной из древнейших китайских школ буддизма. Тяньтай больше других школ впитала в себя даосскую традицию, начиная от терминов и заканчивая практикой. Эта школа отличается от других буддистских школ большим вниманием к практике медитации, элементы которой позже стали основой для практик в Чань/Дзэн буддизме. В тоже время чжи-гуань имеет много общего с древнейшими индийскими медитативными практиками.
Постижение Истинного «Я» осуществимо многими методами, существенные черты которых годятся в качестве практики чжи и гуань.
Чжи есть приведение к молчанию активного ума и освобождение от всевозможных шаблонов и стереотипов, а гуань – наблюдение, исследование, созерцание, смотрение внутрь. Когда физический организм отдыхает, это называется чжи, а когда ум видит ясно, то это является гуань. Главная цель – сосредоточение ума специальными методами для ясного прозрения в Истину и освобождение от иллюзий. Чжи есть первый шаг для развязывания всех уз, а гуань предназначен для выкорчевывания нашего заблуждения. Чжи доставляет питание для сохранения знающего ума, а гуань есть тонкое искусство для развития духовного понимания. Но речь тут идет о двойственном осуществление обеих практик. Это значит, что именно двойственное осуществление подобно двум колесам тачки и двум крыльям птицы. Практикование только одной из них ошибочно. В Лотосовой Сутре говорится: «Практика одной Дхьяны (Чжи), пока Мудрость (Гуань) находится в пренебрежении, причиняет глупость, а практика одной Мудрости (Гуань), пока Дхьяна (Джи) находится в пренебрежении – безумие». Поэтому Чжи Гуань китайцы называют Главные Ворота к Дхарме, непревзойденному Пути самосовершенствования, направляющему к совершенству всех великолепных добродетелей, постижению Истинного «Я» и открытию источника творчества, обретения истинной Свободы.
Это в общих чертах, но вернемся к технике медитации. Чжи – это средоточение, концентрация внимания до остановки умственной деятельности, Гуань – это наблюдение, внимательность, созерцание или осознанность. Для решения наших задач под «Чжи» мы будем понимать концентрацию внимания. Под «Гуань» – созерцание.
Но, прежде, чем говорить о технике медитации дам некоторые пояснения.
Сам по себе буддизм не является цельным и единым. В реальности есть много разных Учителей, которые имеют собственные точки зрения на ряд положений тех учений, что сохранились до наших дней в Палийском Каноне. Одним из самых противоречивых таких моментов является медитация, без которой невозможно достичь плодов буддийской практики. В Канонических Комментариях Палийского Канона путь практики медитации разделён на «саматху» и «випассану» (чжи-гуань) – медитацию концентрации внимания и созерцания.
Однако, не все современные учителя соглашаются с обоснованностью медитации, предлагаемой Каноническими Комментариями, равно как и с самим разделением практики на отдельные методы «випассаны» и «саматхи» (Чжи и Гуань). Некоторые из них в своей аргументации опираются на личный опыт, сутты (наставления самого Будды и его ближайших учеников) и на буддологические, исторические, филологические исследования буддизма, считая недостаточно надёжными такие источники как Канонические Комментарии и палийская Абхидхамма.
Другие же, вероятно, наиболее ортодоксальные, строго придерживаются Комментариев и Абхидхаммы, и именно на этом выстраивают свою практику и учительство. По этой причине в последнее время появились и стали доступны различные версии объяснения базовой медитативной практики. Изучая написанные по этой теме работы разных Учителей, иногда можно встретить полностью противоположные наставления, касательно тех или иных аспектов медитации, а также заметить, что разные Учителя считают наиболее важными и разные аспекты практики. Тем не менее, есть много общего даже среди наиболее непохожи друг на друга наставлений. Поэтому каждый, кто желает серьёзно заниматься медитацией, должен сам разобраться в этом вопросе и сделать для себя выводы на основании собственного медитативного опыта, знания канонических текстов, понимания и интуиции.
Я в своей духовной практике чжи применяю технику Анапанасати, как одной из разновидностей техники концентрации внимания (чжи). А если точнее – первые четыре ступени из первой четверки четырех групп предметов медитации, а именно концентрацию внимания на дыхании.
«Медитация – это открытие того, что смысл жизни
всегда достигается в немедленный момент».
(Алан Уотс)
Итак, медитация означает вхождение в интимный контакт со своей Самостью, точное определение внутреннего единства и гармонизацию с универсальной жизнью.
Как я уже отмечал выше, все медитативные практики буддизма делятся на две большие группы. Первая группа основана на практике концентрации внимания, а вторая на созерцании, т.е. деконцетрации внимания. Но есть практики, в которых обе техники объединяются в единый комплекс. Одной из них является «Анапанасати» (осознанности к дыханию). Я обучался этой технике в медитационном центре Dipabhavan буддийского лесного монастыря Suan Mokkh (остров Самуи, Таиланд) и практикую ее в работе с чаньками. Если сказать более точно, то чжи» в моей методике – это и есть техника Анапанасати избавленная от специфически буддийских наслоений. При этом речь идет не о полном варианте практики, а о ее части, достаточной для целей постижения Истинного «Я».
Есть множество различных видов развития ума. Существуют разные системы и техники тренировки ума. Но из всех техник, с которыми я встречался наилучшая (с моей точки зрения) называется Анапанасати – развитие внимательности к вдоху и выдоху. Вот об этой практике я и буду говорить дальше.
Точный и полный смысл Джи/Анапанасати – это брать один объект, или реальность и внимательно рассматривать, а также исследовать ее в уме параллельно со вдохами и выдохами.
Таким образом наблюдение за дыханием позволяет нам концентрировать внимание и наблюдать любую важную природную реальность вместе со вдохом и выдохом.
Этой технике Будда Гаутама придавал очень большое значение как в своей личной практике, так и при изложении Учения ученикам. В течение более чем 2500 лет эта практика сохранялась и поддерживалась. И она до сих пор продолжает оставаться важнейшей частью жизни практикующих буддизм в Азии, а также в Европе, США и России. Схожие практики можно найти и в других религиозных традициях. Действительно, те или иные формы наблюдения за дыханием существовали и до появления Будды. Но Гаутама переосмыслил и развил их, благодаря чему практика наблюдения за дыханием смогла быть интегрирована с глубокими учениями Дхаммы (термин можно перевести как тайна природы, которую следует понять, дабы развить жизнь с максимально возможной пользой). Таким образом, эта всеобъемлющая форма наблюдения за дыханием, которой он учил, ведет к «достижению высшего человеческого потенциала – просветления».
Но есть и другие результаты – ближайшие или долгосрочные, имеющие мирскую или духовную пользу для людей всех стадий духовного развития.
Начнем с первой стадии Анапанасати. Но еще раз подчеркну, что всего есть четыре группы объектов, на которые традиционно концентрируют внимание практикующие эту технику. Каждая группа включает по четыре объекта медитации. Таким образом всего получается шестнадцать объектов. Из этих шестнадцати нас интересуют лишь первые четыре практики связаны с концентрацией внимания на дыхании. Остальные четырнадцать ступеней связаны с другими объектами. Но нас интересуют только первые четыре ступени концентрации внимания на дыхании.
Итак – подготовки к практике Анапанасати. Прежде всего мы должны выбрать место, в котором будем «ловить» его Дух. Во-вторы- надо найти место для нашей практики. Надо постараться найти место, которое достаточно тихое и спокойное, где условия и погода хорошие и где нет того, что может побеспокоить. А, вообще, технику Анапанасати можно практиковать при ходьбе, стоянии, сидении или лежании. Сидячая поза (поза Лотоса) наиболее подходящая для практикующих. Именно на ней я и остановлюсь. Но если хорошие условия недоступны, то мы выбираем лучшее из того, что есть
Следующая подготовительная ступень – это подготовка тела. Необходимо иметь достаточно нормальное тело, не больное и не имеющее никаких проблем с дыханием или пищеварением. Я обычно чищу нос, чтобы дыхание было нормальным и мягким. Использую немного подсоленную чистую воду, которую втягиваю в нос из ладоней, а затем резко выдыхаю воду с носа. Если сделать это два или три раза, то нос очистится, будет лучше дышать и нос будет гораздо более чувствительным к дыханию.
Теперь я бы хотел сказать несколько слов о времени для практики. Особенно когда мы настроены на фотосессию. Если вы не можете найти благоприятное время, тогда можно используем любое доступное. Не следует быть привязанным к определенному времени суток. Если возможно, то время для фотосъемки выбирайте, но тогда, когда нет отвлечений и беспокойств. Но если нет такого времени без мешающих обстоятельств, то необходимо использовать наиболее подходящее.
Хочу обратить внимание – на фотосъемку желательно ходить в одиночку. С друзьями лучше не ходить. Они будут отвлекать.
Поза Лотоса.
Теперь мы подходим к действительной практике самой медитации. Первым предметом для обсуждения – сидячая позиция. На этой позиции остановлюсь более подробно, так как в других позах техника дыхания соответствует «позе Лотоса».
Следует сидеть в устойчивом и безопасном положении, чтобы, когда ум оказывается в полубессознательном состоянии, мы бы не упали.
Нужно уметь сидеть как пирамида. Пирамида не может упасть, поскольку она обладает очень прочным основанием, а ее стороны сходятся у вершины. Учитесь сидеть как пирамида.
Наилучший способ – это сесть со скрещенными ногами. Поместите свои ноги перед собой, затем положите правую стопу на левое бедро, а левую стопу на правое. Те, кто никогда не сидел таким образом и не привык сидеть на полу, возможно, должны натренировать свое тело, чтобы сесть так, но это стоит усилий. Вы можете терпеливо и постепенно упражняться, чтобы сесть в эту позицию. С давних времен такой способ сидения назывался «позой Лотоса».
Но если вы все-таки не можете сесть в позу лотоса, то начинать надо с позы полулотоса. На первый взгляд она может показаться лёгкой для выполнения, но порой для начинающих практиков достаточно затруднительно сесть в данную позу, так как в нашем современном мире у многих наблюдается закрепощенность в тазобедренных суставах. Но гораздо легче, чем в позу лотоса.











