Читать онлайн Не забываются школьные годы. Воспоминания
- Автор: Василий Колесников
- Жанр: Документальная литература, Биографии и мемуары
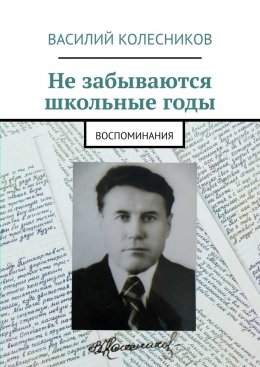
Составитель Светлана Адаменко
Составитель Галина Колесникова
© Василий Колесников, 2025
© Светлана Адаменко, составитель, 2025
© Галина Колесникова, составитель, 2025
ISBN 978-5-0067-4040-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ПРЕДИСЛОВИЕ
Перебирая материалы по истории архаринской школы №172, я обнаружила стопку листов, испещрённых машинописным шрифтом. С первого взгляда было понятно, что передо мной ценный исторический источник – воспоминания бывшего ученика школы некоего Василия Колесникова.
Стоило большого труда разобрать эти строки: шрифт от времени стал практически не читаем. Тем увлекательней оказалось путешествие в прошлое. С каждой страницей документа мне открывалась новая страница истории школы, района, страны через автобиографию одного человека – автора воспоминаний, о котором на тот момент я ничего не знала.
Когда-то директор местного Дома пионеров Лапкина Валентина Григорьевна, которая собиралась создать музей народного образования Архаринского района, озадачила Василия Семёновича Колесникова просьбой написать о детстве, о своей учёбе. Благодаря этому поручению родились на свет заветные страницы, сохранённые в школе №172 п. Архара. Не только картины из тяжёлого детства 30-х годов предстают перед читателем, но и история нашей страны на примере небольшого села, которого на карте-то нынче нет, история образования довоенной поры через прошлое первой поселковой школы.
Жизненный путь каждого человека – целая история. Наверное, любой сверстник и земляк Василия Семёновича мог бы вспомнить то же самое, что и он. Но вот беда – никто из них так и не поведал нам о своём прошлом. А Василий Семёнович рассказал.
Почти век минул с той поры, о которой вспоминал автор. Много это или мало? Смотря как взглянуть. Людей, рождённых в 30-е годы, почти не осталось с нами, а тех, кто помнил бы этот период – уже нет вовсе. Потому найденные воспоминания ещё ценнее, уникальнее, интереснее.
Автор жил на переломе эпох, мыслил другими идеалами и ценностями, верил в иное будущее. Он родился в 1919 году в семье крестьянина-бедняка в небольшом селе Смяльч Брянской области. В 1929 году из-за малоземелья Колесниковы, как и тысячи таких же крестьянских семей, по плановому переселению переехали на Дальний Восток и начали обживаться на новом месте – в Хингано-Архаринском районе Амурской области. Ново-Алексеевка – тогда ещё молодое, а ныне уже стёртое с карты страны село, расположенное в десяти километрах Архары – стало ещё одной малой родиной Василию. Здесь он прошёл начальные классы, отсюда отправился на учёбу в Архаринскую железнодорожную школу – тогда единственную школу в посёлке (год основания 1912). Он окончил 7-й класс в 1937 году, мечтая продолжить обучение и получить аттестат о среднем образовании. Но для его многодетной семьи это было невозможно.
Как выяснилось, найденные машинописные страницы – копия авторской рукописи, оригинал которой бережно хранит дочь Василия Семёновича Галина Васильевна. С её согласия воспоминания были оцифрованы, оформлены в настоящую книгу и теперь доступны для читателя. Кроме школьных воспоминаний в книгу вошли рассказы Василия Семёновича «Запах земляники» (о его дошкольных годах) и «Первый галстук юного пионера» (о зарождении детской организации в селе Смяльч). Эти автобиографические очерки можно назвать энциклопедией жизни русских крестьян переломной для страны эпохи – 1920-х годов. Современного читателя, особенно юного, несомненно, многое из того, что было обыденностью для маленького Василия, удивит. Ещё бы, ведь с той поры, на которую пришлось его детство, сменилось несколько поколений.
Текст приводится в авторской редакции, с сохранением стиля автора. Книга снабжена фотографиями, среди которых фото как из личного архива Колесниковых, так и из архива школы №172. Примечания в тексте – от составителя.
Адаменко С. В., краевед, учитель истории средней школы №172.
Не забываются школьные годы
(Воспоминания бывшего ученика Архаринской железнодорожной школы)
ЧТО ВСПОМИНАТЬ?
Было для меня неожиданностью предложение написать воспоминания о далёком времени моей учёбы в школе. Мои ученические годы прошли в трёх школах, и это было так давно, что, по моему мнению, уже не могло представлять какого бы то ни было общественного интереса.
Начальные классы я прошёл в двух деревенских школах, которые в далёкие двадцатые годы именовались школами «первой ступени», и я помню, как мне была выдана справка о том, что я «…учился во втором классе Смяльчесской школы первой ступени имени Луначарского», когда мы уезжали на Дальний Восток в 1929 г. из ныне Брянской области. Школой первой ступени была школа и здесь, в Ново-Алексеевке, где я окончил третий и четвёртый классы. Когда я стал учиться в Архаринской семилетней транспортной школе №1, то увидел, что мои одноклассники подписывают свои тетради как ученики «Архаринской школы второй ступени» и «Архаринской транспортной школы ФЗС» (ФЗС – фабрично-заводская семилетка), что с гордостью и удовольствием сделал и я.
Это была третья школа в моей жизни, и я гордился тем, что это была «школа второй ступени». И, чтобы наиболее полно отразить, где я учусь, подписал тетрадки так, чтобы было яснее ясного, что я «ученик 5-го „Г“ класса Архаринской семилетней транспортной школы второй ступени ФЗС №1». Велико же было моё недоумение и смущение, когда после проверки тетрадей учительницей, я увидал, что я ученик 5-го «Г» класса Архаринской семилетней транспортной школы №1. Слова «второй ступени» и «ФЗС» были зачёркнуты красными чернилами. А для меня гордостью было именно то, что я учусь в школе «второй ступени». Я мог с высоты этой второй ступени, с чувством превосходства взирать на своих деревенских сверстников, большинство из которых даже «первую ступень» одолели не полностью.
Обычно пишут воспоминания известные личности, выдающиеся деятели, участники знаменательных событий, имеющих отношение к истории. А что можно вспомнить о деревенской захолустной школе, где кроме как умению кое-как читать и писать и с трудом разбираться в четырёх арифметических действиях, ничему более в годы моего далёкого детства и не учили? Не каждый, окончивший сельскую школу «первой ступени», полностью знал таблицу умножения, и это никого не смущало. Такой грамотности деревенскому жителю было тогда вполне достаточно, и никто, за редчайшим исключением, не помышлял о «второй ступени». Потому что «вторые ступени» были далеко, по деревенским понятиям, чуть ли не за тридевять земель, где-то в городах, куда надо было уезжать от родной семьи, из родной деревни, жить неведомо как и вообще оказаться в неизвестном, и потому пугающем мире.
Так что же я могу написать о деревенской школе? И как писать? Этот вопрос я задал Валентине Григорьевне Лапкиной, директору районного Дома пионеров и школьников, загоревшейся идеей создания музея народного образования в Архаринском районе.
– Пиши о школе, где ты учился, об учителях, кого вспомнишь, которые вас тогда учили, чему и как учили. Пиши простыми словами, простыми предложениями, – ответила она.
И я подумал: «А ведь и в самом деле будет важно не то, как я напишу, а то, о чём я вспомню». Для задуманного музея, может быть, моё упоминание о Ново-Алексеевской начальной школе будет единственным, из которого станет известно, что она уже существовала более полувека тому назад, что учились в ней дети не только новоалексеевские, но и расположенной в километре за падью крохотной деревушки Некрасовки1. Нет теперь тех убогих деревенек, даже места те позарастали кустарником и молодым осинником, но ведь и там когда-то зажигался огонёк просвещения, и как бы он ни был мал, он тоже был частицей истории народного образования в Архаринском районе. А учеников, ходивших в ту школу, здесь в районе, кажется, и совсем не осталось, так что я, пожалуй, единственный, кто ещё может что-то об этом вспомнить.
Но легко сказать: пиши. Писать надо ещё уметь, а практики писать повествовательные сочинения у меня нет. Моя непродолжительная в прошлом журналистская работа не успела сделать из меня сочинителя, и я, как умел, стал писать «простыми словами».
Я даже и не предполагал, что так отчётливо многое всплывёт в памяти, стоит только поворошить в уме прошлое. Я постарался написать всё так, как вспомнил, как отложилось в моей памяти: время учёбы с первого по седьмой класс, упомянул учителей, чьи имена до сих пор мной не забыты, друзей-школьников, с которыми пришлось учиться в одно время в том или ином классе. В основном я написал об Архаринской железнодорожной школе №1 (она тогда именовалась транспортной школой), в которой учился три года, и где получил представление о том, как велика область человеческих знаний, и понял, как много надо знать и уметь, чтобы строить жизнь новую, не похожую на ту, которой мы жили тогда. А светлые горизонты будущего всё шире раскрывались перед нами в школе потому, что время нашей учёбы совпало с годами первых пятилеток2, с годами начала небывалого строительства и перестройки вековых укладов всей жизни. Эта перестройка особенно была заметна на селе с самых первых дней советской власти, а я родился в деревне на втором году ещё не очень прочно установившейся власти рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, в разгар Гражданской войны, и детство моё проходило в те годы, когда утверждались социалистические начала в молодом Советском государстве, только что разгромившем контрреволюцию и иностранную интервенцию.
Всё новое, что входило тогда в крестьянскую жизнь, было настолько необычно, что вызывало какую-то радостную ошеломлённость даже у взрослых деревенских жителей, и нас, крестьянских детей, тоже волновали эти необыкновенные новшества. Самым волнующим событием был раздел помещичьей земли, и не было большей радости у деревенских хлебопашцев, чем щедрые прибавки к скудным дореволюционным наделам. Помню, с каким удовольствием чуть ли не все поголовно пели завезённую городскими шефами песню: «Как родная меня мать провожала…», с каким особым удовольствием радостно подхватывались слова:
- …Как дела теперь пошли —
- Любо, мило!
- Сколько сразу нам земли
- Привалило!..
А городские шефы – рабочие Стодольской суконной фабрики из города Клинцы, заводили разговоры о сельских коммунах, о товариществах по совместной обработке земли, затем пошли разговоры о колхозах и совхозах, и всё это было ново, неясно, непонятно, как перекрёсток на незнакомой дороге в чужой и далёкой стране. Тогда же, в ещё дошкольные мои годы, я уже слышал такие непонятные слова, как «индустриализация». «ГОЭЛРО3», «Волховстрой», слышал, что строятся какие-то диковинные электростанции: Шатурская, Каширская, Штеровская, от которых будут гореть лампы, которым будут не нужны ни фитили, ни керосин, а светло от них будет, как днём от солнца. А потом уже, когда я пошёл в начальные классы, появились новые названия строек: Днепрогэс, Турксиб. Магнитогорск, Кузнецк, Тагил, Беломорканал, Тракторострой, БАМ, и в пятом классе Архаринской транспортной школы мы писали под диктовку учительницы: «На месте скифских курганов и Запорожской сечи создаётся город Большое Запорожье» и даже на уроках немецкого языка учили стихотворение «Вир бауэн» – «Мы строим», в котором говорилось, что мы строим:
- «Нойе штадтэ, Нойе верке,
- Нойе банн,
- Унд машинен, унд турбинен
- Нах ден план…»
Что в переводе означало: «Мы строим новые города, новые заводы, новые дороги (имелись в виду дороги железные) и машины, и турбины по плану.
Вот в такое необыкновенное время выпало моему поколению овладевать грамотой и готовиться к жизни в условиях социалистических преобразований в стране. К этому нас готовила школа. В школе нам открывалось новое мироидение, и школа воспитывала у нас новое социалистическое миропонимание.
Я с благодарностью вспоминаю нашу Архаринскую транспортную школу – семилетку тридцатых годов и её учителей – истинных просветителей, учителей в самом высоком смысле этого слова.
ВСПОМИНАЮ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
Впервые порог Архаринской семилетней железнодорожной школы я перешагнул в августе 1934 года. Более полувека минуло с тех пор, но я отчётливо помню тот день, когда с замирающим сердцем я в канцелярии школы приблизился к столу, за которым сидела по-городскому одетая молодая женщина. Я робко поздоровался и спросил, можно ли мне записаться в пятый класс.
– Можно, – ответила она, – только сначала расскажи кто ты и откуда, а то, может быть, ты пришёл не в ту школу. У нас учатся только дети железнодорожников.
Я даже испугался: вдруг да не запишет меня в семилетку эта такая красивая женщина, совсем не похожая на наших деревенских баб. А мне очень хотелось учиться.
В первом и втором классе я учился в далёкой отсюда Брянской области, в селе Смяльч, там, где я родился. В школу мы тогда ходили, когда начиналась зима и ложился снег, и бросали учёбу с началом таяния снега, когда наши лапти и онучи (портянки) целыми днями были мокрыми, а мы кашляли, чихали и вытирали носы рукавами ещё больше, чем в крещенские морозы. Учёбу бросали, кому когда хотелось: кто-то по приказу родителей, жалевших свои мокроносые чада, а кто по своей воле и по великому нехотению читать скучные буквари и решать такие трудные задачи, где надо было складывать и отнимать так много яблок, груш или пудов жита или проса, сколько их никогда и ни у кого из нас сроду не было и не будет.
Я учился охотно, но и мои лапти беспрепятственно пропускали воду, а ходить в школу надо было за три версты (тогда на километры расстояния ещё не мерили, не была ещё введена в стране метрическая система мер и весов). А во второй класс я ходил и вовсе чуть более половины зимы. Перед весной наши родители собирались переселиться на жительство в невообразимо далёкую и сказочно богатую землю, туда, где и до моря недалеко, и горы высоченные, аж до самого неба, и леса без конца и края, и в реках рыбы больше, чем воды, в озёрах утиных и гусиных яиц насыпано – как картошки в корзинах, а земли – паши, сколько хочешь, а травы – коси, сколько твоей душеньке угодно. И называлась эта даль-далёкая – Амур. Вот в этот Амур и собирались ехать наши родители весной 1929 года.
Сборы к отъезду начались уже в феврале. Надо было приехать в тот далёкий край как можно раньше весной, чтобы к началу пахоты и сева устроиться на новом месте. Ну а коль нам предстояло жить в другом далёком месте, то стоило ли теперь здесь ходить в школу, и мы со старшим братом Иваном, который учился уже в четвёртом классе, тут же поставили точку в своей учёбе. В последний раз мы пошли в школу, чтобы все нас увидели обутыми в сапоги, которые нам купил отец перед дальней дорогой. Это были первые в нашей жизни сапоги.
А дорога и на самом деле оказалась дальней: целых пять недель, тридцать пять суток, с грохотом никогда нами не слыханном трясло нас в двухосном вагоне-теплушке, пока нас тащили чумазые, громкошипящие и дымящие паровозы от станции Клинцы Брянской области до станции Архара Амурской области, почти через всю страну. Ехали в той теплушке не мы одни, ехали материны родители – наши дед и бабка – с младшей дочкой Верой, материн брат с женой и малолетней дочкой, свёкор и свекровь самой старшей материной сестры, сосед с женой и двумя детьми. Ехало в той гремящей и дребезжащей теплушке двадцать живых душ – все, состоящие в близком родстве, за исключением семьи соседа.
Волна переселения захлестнула в те далёкие годы западные области России, Украину, Белоруссию. Тысячи и тысячи семей потянулись на далёкие восточные окраины страны, заселяя почти безлюдные пространства от Байкала до берегов Тихого океана, куда только что протянулась стальная нить железной дороги, и стали возникать здесь новые сёла и посёлки, в названиях которых отразилась география покинутых родных мест. Даже в нашем районе есть Черниговка, Могилёвка, Украинка, где первыми селились выходцы с Украины, Черниговской, Могилёвской областей, а в Приморье даже есть село Смяльч4, где поселились наши односельчане, уехавшие раньше и дальше нас и давшие своему новому месту жительства наименование своего родного села.
Пять первых лет жили мы здесь в деревне Ново-Алексеевка в десяти километрах от Архары на запад. Деревня в самом деле была новая. Самые первые жители прожили в ней ещё не более пяти лет5, так что школы как таковой в Ново-Алексеевке не было. В центре деревни стояла кем-то из новосёлов брошенная изба. Не захотели её хозяева пахать несчитанные десятины земли, косить густые травы на необозримых лугах. Не было около Ново-Алексеевки реки с задыхающейся от тесноты рыбой и озёр, в которых утки и гуси сидели в два этажа друг на друге. Была там твёрдая дернистая земля, которую не раздерёшь и пароконным плугом, густой от комаров и мошки воздух, которым аж трудно было из-за этого дышать. Были здесь свирепые морозы зимой, леденящие внутренности, и палящая жара летом с проливными дождями и непролазной грязью и в деревне, и на полях, и на дорогах. И нужен был изнурительный труд от темна до темна, чтобы деревенскому мужику-единоличнику6, да если он ещё и бедняк, свести концы с концами и не голодать на Амурском приволье.
Вот и в той покинутой неуютной хате сельский совет и открыл школу в 1929 году временно, пока будет подыскано другое помещение. Там я и начал учиться в третьем классе. А через непродолжительное время школа расположилась в избе Ивана Шерянко. Изба Шерянко была так называемая пятистенка7, одна из трёх таких в деревне, а семья у них состояла из четырёх человек. Их сын Николай был лучшим другом моего брата Ивана, и «Шерянкова школа» стала для нас прямо-таки родным домом.
Школа разместилась в передней более светлой и более просторной половине избы, в которой была прорезана отдельная дверь, чтобы не ходить ученикам через жилую хозяйскую половину, а внутреннюю дверь закрывали хозяева на железный крючок. Парт в Шерянковой школе не было. Стояли там в два ряда восемь узких столов с табуретками, и за этими столами могли сидеть по трое учеников, а всего двадцать четыре на одну смену. Занятия шли в две смены, в одну смену занимались первый и третий классы, в другую – второй и четвёртый.
Но столы в классах всегда на половину пустовали: так мало было в деревне учеников. Не все дети школьного возраста ходили в школу, да и не все родители понимали тогда необходимость учёбы своих детей. В единоличном хозяйстве нужны были работящие парни и девки, а грамота для них – дело необязательное: пуды и фунты намолоченного зерна они как-нибудь сумеют посчитать, да и рубли, которые выручат от продажи того же зерна, несчитанным в карман не положат, так что такой арифметике можно научиться и без школы. Вот и ходили тогда в школу деревенские огольцы, среди которых больше половины были в возрасте 15—16 лет, кто до половины зимы, кто – два-три раза в неделю, смотря по настроению своему и родителей, а кто приходил и просто устроить потасовку и досадить учительнице, поставившей в журнале «неуд» ленивому лоботрясу. А девчонок вообще было человек 5—6 во всех четырёх классах.
Ранней весной 1930 года, не видя иного выхода из тяжёлого положения, в котором оказалась семья на новом месте жительства, отец нанялся в деревенские пастухи. Дома они с матерью решили, что пасти стадо будем мы со старшим братом, а они будут заниматься всеми остальными хозяйственными делами.
На свой урожай надеяться не приходилось, а за пастьбу хозяева заплатят по два пуда зерна с головы, а это сулило нам такое количество хлеба, какого нам сроду не приходилось иметь со своего поля.
Очень трудным был для нас хлеб деревенских пастухов. Брату было 15 лет, мне – 11, мы были ещё дети, а каждый день надо было вставать до восхода солнца, за целый день исходить за стадом десятки километров по высокой, с утра мокрой от росы траве, по кочковатым заболоченным падям, по крутым склонам сопок. Коровы были неутомимы, а мы выбивались из сил. Мать плакала, встречая нас вечером, усталых и измученных.
Той осенью я пошёл в школу, в четвёртый класс, уже в ноябре, так как мы пасли деревенское стадо, пока не выпал снег. Брат уехал учиться в Благовещенск, в чём ему посодействовал райком комсомола.
Запомнилась мне первая учительница, к которой я пришёл в третий класс Ново-Алексеевской школы – Агриппина Павловна Козлова, настолько молодая, что от учеников её отличала только одежда, вроде бы городского покроя. Видимо, была она направлена в нашу школу после окончания учительских курсов, которые практиковались в то время, и на которых могли обучаться вчерашние семиклассники, изъявившие желание стать учителями. Немало пролила она слёз с нашей, хотя и немногочисленной, но довольно хулиганистой оравой. Были среди нас настолько зловредные типы, что могли заставить треснуть и камень-булыжник, а что уж говорить о нежной душе и нервах девчонки никак не старше 18—19 лет. И не раз бывало, что, откинув крючок с внутренней двери, врывалась в нашу школу, потрясая кочергой, хозяйка дома бабка Шерянчиха на помощь заливающейся слезами учительнице, вконец заклёванной бессердечными охламонами. И тогда, поднимая восторженный вой и визг, большинство учеников, гремя столами и опрокидывая табуретки, чуть ли не по головам друг друга вываливались на улицу, и уже ни о каком продолжении занятий не могло быть и речи. Лучшего предлога уйти с занятий не надо было и желать.
На следующую зиму у нас появился учитель-мужчина Владимир Иванович Зайцев. Владимир Иванович не был суровым и волевым учителем, но всё же даже самые отъявленные забияки вели себя потише, чем с кукольно-беспомощной «козулей», как прозвали Агриппину Павловну за её мягкий и робкий характер. Был Владимир Иванович близорук, носил круглые, в железной оправе очки, и, когда однажды он их безвозвратно потерял, то ходил, как в густом тумане, с трудом находил дорогу в школу, а в классную доску он почти упирался носом, когда на ней писал или пытался прочитать то, что на ней написали ученики. С великим нетерпением ожидал он новые очки, которые ему должны были привезти из Архары. Ждали те очки и мы, ученики, и некоторые взрослые парни и девки. Дело в том, что Владимир Иванович горячо взялся за организацию художественной самодеятельности, в которую стремился вовлечь не только учеников, но и взрослых, а без очков ему было никак нельзя, тем более что репетиции проводились вечерами при свете керосиновой лампы.
В нашей деревенской художественной самодеятельности мне была отведена постоянная роль суфлёра: я хорошо читал, и только один раз Владимир Иванович выпустил меня на сцену как действующее лицо в трагической пьесе «Гирт Вилкс»8 в роли мальчика Вольдемара, которого убивает из ружья родной отец по прозвищу Гирт Волк. Мы свои спектакли ставили так же в школе, и они проходили с большим успехом. В день постановки, ещё задолго до окончания занятий второй смены перед дверями школы уже толпились зрители со своими табуретками, скамейками и деревянными чурбаками, на которых можно было бы сидеть. А к началу спектакля, когда из досок намащивали сцену, завешивали её домоткаными дерюжками9, которые охотно давала бабка Шерянчиха, в школу набивалось столько народу, что уже не войти, не выйти было невозможно. И те, кому не посчастливилось попасть в «зрительский зал», толпились, заглядывая в окна с улицы.
Мы ставили любую пьесу, которую привозил из Архары наш «Заяц», «зайка», «зайчик», как его без злобы прозвали в школе, наш Владимир Иванович Зайцев. Привозил он шекспировского «Короля Лира» или «Ромео и Джульетту», мольеровского «Мещанина во дворянстве» или пушкинского «Бориса Годунова». Мы бы взялись и за такую постановку, разве что не хватало бы по всей деревне исполнителей. Так был велик наш театральный энтузиазм, и так плохо мы понимали, что значит поставить хороший спектакль: главное для наших артистов было так одеться и намазаться сажей и нарумяниться свёклой, чтобы никого на сцене нельзя было узнать.
В зиму 1930 на 1931 год я закончил четвёртый класс. Учёба мне давалась легко, и мои родители очень хотели, чтобы я учился дальше. Но где учиться? В районе тогда было только две семилетние школы: в Архаре железнодорожная, куда принимали только детей железнодорожников, и в Аркадие-Семёновке10 – ШКМ (школа крестьянской молодёжи), в которую трудно было попасть из-за наплыва учеников со всего района. Но всё-таки ШКМ – это школа для деревенских ребят, и в одно прекрасное время нас небольшая группа из четырёх человек отправились на поиски Аркадьевки, в которой никто из нас ещё ни разу не был. Мы шли до Архары по линии железной дороги, была она тогда ещё одноколейная, а из Архары – по хорошо накатанной просёлочной дороге, по которой идти босиком было намного лучше, чем по шпалам.
Аркадие-Семёновка (теперь она Аркадьевка) не была похожа на нашу Ново-Алексеевку. Село это было старинное, основанное ещё во времена освоения здешних земель амурским казачеством, поэтому и стояли вдоль улицы добротные дома с резными наличниками на окнах под железными крышами из гофрированных оцинкованных листов и, чего не было даже в Архаре, в центре села возвышалась церковь.
ШКМ найти было не трудно: она была тут же, напротив церкви. К нам вышел кто-то из учителей и, узнав, зачем мы пришли, сказал, что мы опоздали, школа уже набрала учеников, даже больше, чем нужно, и посоветовал моим друзьям, которые все были старше меня, приходить в будущем году и не опаздывать. «А тебе ещё надо подрасти, и тогда тоже приходи годика через два и тоже не опаздывай», – сказал он, обращаясь ко мне.
Может, кто-то подумает, что я ошибся, написав «школа крестьянской молодёжи». Здесь ошибки нет. Школами колхозной молодёжи стали называться ШКМ в период сплошной коллективизации, и этим подчёркивалось то, что закостенелым единоличникам в этих школах места нет.
Дома, узнав о моей неудаче, отец сказал: «Ну, ничего, не горюй. Походи в эту зиму ещё раз в четвёртый класс, чтобы ничего не забыл, а на будущий год я сам повезу тебя в ШКМ». Так я ходил вторую зиму в 4-ый класс, и Владимир Иванович сделал меня вроде как своим помощником. По его поручению я помогал одноклассникам решать примеры и задачи, писать затруднительные слова, разучивать стихотворения. Нередко, объясняя новый материал и видя, что он не совсем понятен, Владимир Иванович говорил: «Ну-ка, разъясни им ты своими словами». Я «разъяснял», и ребята в самом деле начинали понимать. «Да, – говорил Владимир Иванович, – тебе надо учиться и быть учителем, у тебя есть способности». А я и сам мечтал стать учителем.
Так прошла зима с 1931 по 1932 год. Но не пришлось отцу везти меня в ШКМ. Жизнь поворачивала круто. В деревню зачастили из Архары уполномоченные, пошли нескончаемые разговоры о сплошной коллективизации, о колхозах, и единоличная Ново-Алексеевка бурлила, как кипящий чугунок. Все новосёлы, в основном земляки, приехавшие из той же местности, откуда и мы, хотели организовать свой, отдельный от других колхоз и создать его на новом месте, где-то дальше, в сопках, по речке Домикан11. Но таких набиралось чуть больше десяти дворов, да и то, в основном, такие же бедолаги, как мой отец, которые все вместе не смогли бы вывести на поле и полдесятка плугов, а на трактор надеяться тогда ещё не приходилось. А тут началась прокладка второй колеи Транссибирской железной дороги, рядом с Ново-Алексеевкой строился разъезд Журавли: молодые мужики и парни пошли работать на железную дорогу, и задуманный колхоз в нашей деревне так и не состоялся.
К весне 1934 года у отца создалось безвыходное положение. Зерна дома не было ни продовольственного, ни семенного. С колхозом ничего не получилось, а жить дальше единолично было невозможно, и тогда отец ушёл из деревни устраиваться на работу на пригородное хозяйство паровозного депо станции Облучье. Оно тогда только создавалось в семи километрах от Архары. Так потомственный хлебороб – мой отец – из класса крестьян перешёл в класс рабочих. Мы все были рады такому повороту в жизни: отцу на всю семью давали паёк, а это было большим счастьем для нашей большой, беспросветно бедствовавшей семьи. Нас только детей к тому времени было уже восемь человек, а мать часто болела, хороших помощников в семье родителям не было, и отец, как говорится, бился, как рыба об лёд. Каждую зиму его по трудгужповинности (гужповинность – это значит с конём) отправляли на лесозаготовки. Дома на хозяйстве оставались мы с матерью, так как брат Иван учился в Благовещенске. Мне было ещё не под силу справляться со всем мужскими делами в хозяйстве, но я был мужчина, и я старался: ездил один в лес за дровами, научился валить и пилить, грузить на сани не очень толстые деревья, дома тоже один пилил и колол дрова, чистил стайки и кормил нашу комолую12 корову и серую монгольской породы кобылу, норовистую и злую. Ездил на ток, где молотил осенью зерновые, за овсяной половой для коровы, ездил за сухостойным осинником для растопки печи, занимался другими более мелкими делами, которых в деревенской единоличной жизни было всегда край непочатый. Так нигде не пришлось мне учиться ещё два года.
Я вспоминаю так более подробно те пять лет с весны 1929 года по весну 1934 года, потому что все обстоятельства складывались так, что надежд на дальнейшую учёбу у меня становилось всё меньше и меньше. И как же я был рад, когда отец, устроившись работать на пригородное хозяйство, сказал мне: «Ну, сын, теперь и ты можешь учиться в железнодорожной школе-семилетке. Теперь и мы стали железнодорожниками».
Отец наш Семён Трофимович всячески поощрял нас, детей своих, учиться грамоте. Потомственный деревенский мужик-хлебороб, он приобщился к грамоте с детства, закончив церковно-приходскую школу в родном селе на древней Черниговщине. Солдат русской армии, георгиевский кавалер в Первую мировую войну, будучи грамотнее многих своих сослуживцев, он очень хорошо понял лозунги большевиков: «Долой войну!», «Мир хижинам, война – дворцам!», «Земля – крестьянам!», «Фабрики – рабочим!», и оказался в той солдатской массе, которая после октябрьского переворота, воткнув штыки в землю, устремилась из окопов в родные селения помогать большевикам устанавливать новую власть.
Но события той огненной революционной поры и особенно немецкая оккупация Украины, Белоруссии и других областей, в том числе и родного села Смяльч в 1918 году, привели отца сначала в партизанские отряды, а затем и в Щорсовскую дивизию, боровшуюся с немецкими оккупантами, а позднее и с белополяками, также посягавшими на земли Украины. Те же бурные события привели его в Первую конную армию Будённого, когда она, громя войска пана Пилсудского, рвалась на запад с боевым кличем «Даёшь Варшаву!» И вернулся он к родному очагу после разгрома «чёрного барона Врангеля в Крыму».
В кровавой кутерьме империалистической13 войны, в вихрях революции и огне войны Гражданской, понял он, как нужно людям образование. Особенно ясно он это увидел в Гражданскую войну, когда ротами, эскадронами и даже полками командовали люди с такой, как у него, грамотой.
В Первой конармии он не до конца находился в боевых порядках. Как грамотный по тем временам боец, он был прикомандирован к штабу одной из воинских частей и, оказавшись в окружении по-настоящему грамотных штабных командиров, постарался научиться и перенять от них всё, что могло пополнить его знания и повысить грамотность.
Помню его чёткий красивый почерк, выработанный на штабной работе, бережное, аккуратное обращение с любыми бумагами, что говорило о штабной культуре, к которой он был приучен, и его огромное уважение к печатному слову. Он любил книги, любил читать, если была у него минута свободного времени. Для деревенского мужика по тем временам обладал немалыми знаниями. По любому непонятному вопросу шли к нему сельчане за разъяснениями, а если кому-то было нужно написать в волость или уездному начальству «прошение» (заявлений тогда не знали) или другую какую бумагу, и даже письма далёко живущим родственникам, то другой дороги, кроме как к нему, у соседей и знакомых сельчан не было.
С самого раннего детства, как я себя помню, дома у нас были в почёте книги. Отец не упускал случая, если можно было где-то взять книжку и принести её домой. Он брал их и в избе-читальне, которая была открыта в бывшем поповском доме. Старшему моему брату Ивану, ходившему тогда в школу, охотно давали книги учителя. Книги тогда были редкостью, и дома у нас все были рады, когда появлялась новая книга. Помню, как долгими зимними вечерами собирались к нам в избу соседские мужики и наши с братом друзья-сверстники, ещё не умевшие читать, и начиналось у нас громкое чтение заинтересовавшей всех книги. Читали мы с братом по переменке, а отец разъяснял всё, что было непонятно. А самое интересное было, когда начинались оживлённые обсуждения прочитанного. Всё, что узнавали слушатели из книги, воспринималось ими как истинное происшествие. Разгорались горячие споры, словно они сами были участниками описываемых событий, или происходили эти события у них на глазах, и самым авторитетным в этих обсуждениях было мнение нашего отца. Потом говорили о том, что есть и ещё интересные книги, о которых кто-то от кого-то слышал, почти всегда вспоминали мужики о том, что в имении пана Михаевского14 было очень много книг, которые сгорели вместе с «дворянским гнездом», когда смяльчане разгромили и сожгли барскую усадьбу в 1905 году, и очень жалели те книги.
Для нас, детей, эти споры-разговоры были не менее интересны, чем то, о чём мы читали в книгах. Мы многое узнавали и многое начинали понимать совершенно по-иному, чем прежде. Все мы, младшие в семье, учились азбуке друг у друга и ещё до школы умели читать, писать и считать. Даже наша мать Марина Кондратьевна, обременённая многочисленными заботами, до того не знавшая ни одной буквы, от нас, детей своих, научилась читать по слогам. Такая наша любовь к книгам, к учёбе, очень радовала отца, и когда при встрече с ним учителя с большой похвалой отзывались о нашей учёбе, он думал о том, как бы дать хоть кому-то из нас, девяти своих детей, возможность учиться дальше после сельской школы.
Вот почему, когда он устроился на работу в пригородное хозяйство депо, он с большим удовольствием сказал, зная, что меня обрадует: «Ну, сын, теперь и ты сможешь учиться в железнодорожной семилетке».
И вот, когда в августе 1934 года в канцелярии Архаринской семилетней железнодорожной школы мне было сказано, что, может быть, я пришёл не в ту школу, потому, как в эту школу записывают только детей железнодорожников, я так заторопился, объясняя своё право на учёбу в этой школе, что у меня даже язык стал заплетаться, а женщина, сидевшая за столом, весело рассмеявшись, сказала: «Постой, постой, не торопись», – и стала задавать вопросы, требуя на них спокойных ответов. Сделав нужные записи в своих бумагах, она сказала: «Приходи 31-го числа, узнаешь, в какой класс ты будешь зачислен, но в интернате у нас места нет: там будут жить ребята с разъездов, а тебя родители пусть устроят на квартиру у кого-либо из знакомых. А теперь иди посмотри классы, где будешь учиться».
Я перешёл школьный двор и поднялся на невысокое крыльцо учебного корпуса, где стояло несколько таких же, как и я, будущих учеников. В это время из двери вышел кто-то из учителей:
– Что, ребята, в школу пришли? Хотите учиться у нас? – спросил он.
– Да, нас уже записали в семилетку – в разнобой отвечали все мы.
– Ну, ну. Это хорошо, одобрил он и, обратившись ко мне, вдруг спросил: – Ты тоже будешь учиться в нашей школе?
От такого вопроса у меня тревожно сжалось сердце. Ведь должно же быть понятно этому человеку, что я потому и пришёл сюда, что хочу учиться. Какие у него могут быть сомнения на этот счёт, и почему он спрашивает именно меня? Не скажет ли он, что мне не место в этой школе. Я по-настоящему испугался, и, проглотив сухой ком, вдруг появившийся в горле, пробормотал:
– Да, меня уже записали в пятый класс…
– А вот в школу, братец, надо ходить обутому, а не босиком. Ты где живёшь?
– В Ново-Алексеевке. Это я записываться пришёл босиком…
Он ещё раз оглядел меня, засмеялся, мотнул головой и ушёл.
Да, я был босиком. Ноги у меня были грязные, всё лето не знавшие обуви, посбитые и усеянные цыпками. Весь мой вид не мог не вызвать смеха. Я был не стрижен, рубаха на мне была из домотканого полотна, привезённого матерью ещё с родной Брянщины и сшитая её руками, простая деревенская рубаха с широкими без обшлагов рукавами, без отложного воротника ну и, конечно, она не отличалась незапятнанной чистотой. На мне были штаны моего старшего брата настолько мне не по росту, что я их подтянул по самые мышки и подвязал верёвочкой, а внизу штанины подсучил, чтобы не путаться и не спотыкаться. Да, наверное, и физиономия моя была чумазая. Я сейчас уже не помню, умывался ли я, собираясь в «храм науки».
Помню школьный двор 31-го августа 1934 года, гудевший от сотен голосов собравшихся учеников и взрослых. Я не знал, что надо делать и толкался в густой толпе, пока кого-то спросил:
– А что сейчас будет?
– Сейчас будут зачитывать, кто в каком классе будет учиться, – пояснил мне знающий паренёк, и в это время все обратили внимание на группу учителей, взошедших на возвышавшийся чуть в стороне бугорок, откуда их хорошо было видно и слышно.
– Тихо, ребята, тихо! – громко обратился к нам один из учителей. – Слушайте внимательно классные списки. Я буду зачитывать, а потом вас будут разводить по классам, – чуть выждав, когда воцарилась тишина, он продолжал: – Пятый класс «А», – и начал перечислять фамилии учеников. Он назвал около трёх десятков фамилий, а моей среди них не было. Я тревожно недоумевал, не зная о том, что при большом количестве учеников всех в один класс не поместишь. Стали зачитывать список пятого класса «Б». Стоявший рядом со мной «знающий» паренёк сказал:
– В пятый «А» класс записали самых лучших учеников, а в пятый «Б» – кого похуже.
В списке тех, кто «похуже» меня тоже не было, и я совсем приуныл. Назвали пятый «В» класс, и я слушал так, как, наверное, слушает приговор тот, кто стоит перед судом. А «знающий» паренёк и совсем убил во мне надежду, сказав, что это, наверное, последний пятый класс, в который записали не то, чтоб худших, а тех, кто хуже некуда. А по списку уже читали фамилии, начинающиеся с букв, стоящих в алфавите после буквы «К», и мне стало ясно, что не попал я в пятый «В» класс, «худший из худших».
Ушли в учебный корпус счастливчики, зачисленные в этот, пусть и из рук вон плохой класс, как ушли перед этим пятый «А» и пятый «Б» классы. И вот начинали зачитывать список учеников, зачисленных в пятый «Г» класс. А у меня стало тяжело на душе, тяжело и обидно. Что из того, что если меня и зачислили в этот, оказавшийся на четвёртом месте, класс? Ясно, что в него попали самые никудышные полоумки, и будет стыдно сознаться, что меня зачислили в пятый класс «Г», в самый последний из пятых классов. Увы, так оно и оказалось: зачитали в списке и мою фамилию. Оказывается, так думал не один я.
Собранные учительницей, мы побрели в свой класс не в радужном настроении. Когда рассаживались за парты, я пробрался на самую последнюю, решив, что в самом последнем классе мне место на самой последней парте, коль я уж такой я неполноценный человек, и нечего мне мозолить глаза учителей, сидя где-нибудь впереди.
Знакомство с учительницей началось с того, что ребята посмелее так и спросили: а правда ли, что в пятый «Г» класс записали самых плохих учеников?
– Кто вам сказал, что вы – самые плохие ученики? – рассмеявшись, спросила она. – Вот начнём заниматься, тогда будет видно, какие вы есть на самом деле.
Многие осмелели. Раздались обидчивые выкрики:
– А что мы – хуже всех, что нас записали в пятый «Г»?..
– В пятый «А» самых лучших позаписали…
– Мне в тетрадке по письму учительница всё время ставила «ус.»
– У меня за задачки был «ус.»
Я не отличался смелостью и молчал, хотя мне, когда я учился в своей деревенской школе и по письму, и по чтению, и за задачки учителя ставили даже «Вус.», и мне, пожалуй, было даже обиднее, что я оказался в пятом «Г» классе. Сейчас я уже не помню, кто тогда из учительниц была с нами в классе, кажется, это была Панна Захаровна Ганенко, но она сначала недоумённо слушала, а потом, поняв в чём дело, высоко и громко расхохоталась:
– Ой, какие же вы глупые! Да какая разница – пятый ли «А» класс или пятый «Б», «В» или «Г»? И в пятом «А» лодыри получат «нус», если будут не успевать и лениться, и вы в своём пятом «Г» будете получать «Вус.», кто будет стараться и хорошо учиться.
Я воспрянул духом: если дело только в том – стараться или нет – то мы ещё посмотрим, где лучшие ученики – в пятом «А» классе или в пятом «Г»! Уж я-то постараюсь!
Считаю, что надо сделать маленькое пояснение. Не все, даже работники народного образования, теперь знают, что в то далёкое время существовали такие оценки успеваемости учащихся: «не успевает» это был «Нус.», «успешно» – это был «Ус.» и «весьма успешно» – это был «Вус.» – самая высокая оценка. Позднее оценок стало пять: «очень плохо», «плохо», «посредственно», «хорошо», «отлично». Вот откуда пошло определение лучшим ученикам «хорошисты» и «отличники». Цифровая пятибалльная система была введена намного позднее и соответствовала предыдущей: «очень плохо» стало единицей («кол», как презрительно её называли), «плохо» стало двойкой, «посредственно» – тройкой, «хорошо» – четвёркой, «отлично» – пятёркой.
И вот началась моя учёба в Архаринской железнодорожной семилетней школе. Всё здесь было совсем не так, как в деревенской. На каждый день было расписание уроков, на каждый урок приходил новый учитель или учительница.
На уроки арифметики приходила к нам Софья Михайловна Кондратьева. И начинали мы с ней переливать воду из одного бассейна в другой по трубам разного диаметра, считали эту воду литрами, вёдрами и чуть ли не стаканами. Нам край, как надо было знать, сколько этой воды надо было перелить туда-сюда, и сколько времени мы будем этим заниматься. То мы мерили материю у двух, а то у трёх купцов-продавцов, у которых и материи было не поровну, и цена у этой материи была разная. Вот и считали мы метры, рубли, копейки, чтобы эти пройдохи- купцы не надували покупателей. А сколько мы с Софьей Михайловной ездили на поездах и пароходах, на лошадях рысью и галопом, ходили пешком шагом и бегали бегом из пункта «А» в пункт «Б», то навстречу друг другу, то друг друга догоняли, выходили и выезжали и вместе, и в разное время, двигались с разными скоростями, встречались, догоняли и обгоняли друг друга, считали километры, метры, часы и минуты, высчитывали, на каком расстоянии от пункта «А» или пункта «Б» должны были происходить эти встречи и обгоны, кто когда прибудет в эти пункты. А потом учились в тёмном лесу цифр и чисел искать таинственный «икс», так хитро прятавшийся, что кое-кому из нашей стриженой братии так и не удавалось его найти, а если и находили, то настолько непохожего, что Софья Михайловна аж удивлялась:
– Да где же ты взял этот «икс»? Ставлю тебе «неуд», а дома поищи получше. На следующем уроке проверю. Думать надо!..
Софья Михайловна учила нас арифметике и заставляла думать, думать и думать, и писать ответы цифрами, да не какими-нибудь, а арабскими. Ох, уж эти арабы! Оказывается, они даже алгебру придумали на нашу голову, а нам приходилось крепче шевелить мозгами над всякими квадратами или кубами суммы или разности двух количеств. А количества эти в каждом новом примере и задаче были разные, то они заключены в круглые скобки и стоят в числителе, то забрались в знаменатель и упрятались в скобки квадратные, а то и в фигурные, и надо эти скобки пораскрывать, да не проворонить, где надо поменять знаки плюс на минус или минус на плюс. Иначе растянешь многочлен на весь тетрадный лист, да так и не увидишь благополучного конца этому примеру. И будет тогда стоять под этим примером красиво выведенное красными чернилами словечко «плохо», которое, хотя и не с удовольствием, но напишет Евдокия Алексеевна Логинова.











