Читать онлайн Наше положение
- Автор: Алексей Вандам
- Жанр: Газеты, Популярно об истории, Публицистика
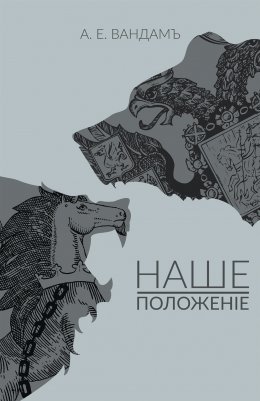
© Евгеній Политдругъ. Предисловіе, 2016
© М. С. Тейкинъ. Біографическія справки, 2016
© Издательство «Чёрная Сотня», 2016
Наше положеніе
Предисловіе
Такъ получилось, что имя одного изъ основателей русской геополитической мысли – Алексѣя Ефимовича Едрихина(писавшаго подъ псевдонимомъ Алексѣй Вандамъ) – долгое время было забыто на родинѣ. Его начали издавать въ послѣдній спокойный годъ, наканунѣ Первой Міровой войны, а затѣмъ случились двѣ революціи, гражданская война, и ландшафтъ Россійской Имперіи измѣнился до неузнаваемости. Теперь уже было не до геополитики, а само слово «національные интересы» полностью исчезло на долгіе годы. Интересъ теперь могъ быть только «классовымъ» и «интернаціональнымъ».
Въ своихъ работахъ Алексѣй Ефимовичъ съ поразительной точностью предрекаетъ основные историческіе катаклизмы своего столѣтія, что дѣлаетъ его академическій авторитетъ неоспоримымъ. Труды Вандама интересны ещё и тѣмъ, что это не какойто тамъ «теоретикъ», начитавшійся книжекъ, а настоящій практикъ съ богатой военной біографіей. Едрихинъ участвовалъ въ Англо-Бурской войнѣ на сторонѣ буровъ, затѣмъ занимался развѣдкой въ Китаѣ (именно китайскому направленію въ его трудахъ удѣлено немало мѣста), командовалъ полкомъ въ Первой Міровой войнѣ и наканунѣ революціи имѣлъ чинъ генералъ-майора.
Послѣ революціи Алексѣй Ефимовичъ перебрался въ Эстонію, но не прекратилъ сражаться за Россію. Нѣкоторое время онъ руководилъ Псковскимъ добровольческимъ корпусомъ, который позднѣе въ составѣ Сѣвернаго корпуса участвовалъ въ наступленіи Юденича на Петроградъ, а затѣмъ до самой смерти возглавлялъ штабъ эстонскаго отдѣленія РОВС.
Свои работы Едрихинъ подписывалъ какъ Вандамъ, а затѣмъ и офиціально взялъ себѣ эту фамилію. По одной изъ версій, въ честь бурскаго генерала, съ которымъ ему довелось служить во время конфликта съ англичанами въ Африкѣ, по другой – въ честь одного изъ наполеоновскихъ генераловъ.
Работы Вандама выполнены на уровнѣ, недосягаемомъ даже для многихъ современныхъ изслѣдователей. Простымъ и доступнымъ языкомъ онъ объясняетъ, почему Россія должна дѣйствовать такъ, а не иначе, какія у нея могутъ возникнуть проблемы, почему англичане и американцы будутъ находиться съ ней въ постоянномъ конфликтѣ, каковы ихъ глобальныя стратегическія цѣли и какъ имъ можно противодѣйствовать. Самъ же Вандамъ былъ активнымъ сторонникомъ созданія «сухопутной» коалиціи Россіи, Германіи и Франціи противъ «морской» Британіи, которую онъ считалъ главнымъ и самымъ могущественнымъ врагомъ. Труды Вандама позволяютъ оцѣнить геополитическую разстановку силъ начала ХХ вѣка и посмотрѣть на «Большую игру» не съ позиціи британскаго джентльмена, а взглядомъ русскаго офицера, что необычайно цѣнно въ связи съ большой рѣдкостью подобныхъ работъ.
Пріятнаго и познавательнаго чтенія!
Евгеній Политдругъ, публицистъ, колумнистъ журнала «Спутникъ и Погромъ»
Отъ автора
Въ классификаціи военныхъ знаній искусство вести бой называется тактикою, а искусство вести войну – высшею тактикою, или стратегіей. Но какъ бой представляетъ собою только одинъ изъ скоротечныхъ актовъ длящейся обыкновенно годами войны, такъ и война есть не что иное, какъ кратковременный актъ никогда не прекращающейся борьбы за жизнь.
Отсюда логически слѣдуетъ, что для веденія борьбы за жизнь необходимо особое искусство – высшая стратегія, или политика. Въ чёмъ заключается это искусство и есть ли у насъ оно – читатели поймутъ сами изъ этого маленькаго труда, представляющаго собою лишь лёгкую царапину на дѣвственной и безотлагательно требующей разработки почвѣ русской политической мысли.
А. Вандамъ. 6 августа 1912 г. С.-Петербургъ.
І
Несмотря на большіе размѣры своей территоріи, русскій народъ, по сравненію съ другими народами бѣлой расы, находится въ наименѣе благопріятныхъ для жизни условіяхъ:
Страшные зимніе холода и свойственныя только сѣверному климату распутицы накладываютъ на его дѣятельность такія оковы, тяжесть которыхъ совершенно незнакома жителямъ умѣреннаго Запада. Затѣмъ, не имѣя доступа къ тёплымъ наружнымъ морямъ, служащимъ продолженіемъ внутреннихъ дорогъ, онъ испытываетъ серьёзныя затрудненія въ вывозѣ за границу своихъ издѣлій, что сильно тормозитъ развитіе его промышленности и внѣшней торговли и, такимъ образомъ, отнимаетъ у него главнѣйшій источникъ народнаго богатства. Короче говоря, своимъ географическимъ положеніемъ русскій народъ обречёнъ на замкнутое, бѣдное, а вслѣдствіе этого и неудовлетворённое существованіе.
Неудовлетворённость его выразилась въ никогда не ослабѣвавшемъ въ народныхъ массахъ инстинктивномъ стремленіи «къ солнцу и тёплой водѣ», а послѣднее, въ свою очередь, совершенно ясно опредѣлило положеніе русскаго государства на театрѣ борьбы за жизнь:
Упираясь тыломъ во льды Сѣвернаго океана, правымъ флангомъ въ полузакрытое Балтійское море и во владѣнія Германіи и Австріи, а лѣвымъ въ малопригодныя для плаванія части Тихаго океана, Великая Сѣверная Держава имѣетъ не три, какъ это обыкновенно считается у насъ, а всего лишь одинъ фронтъ, обращённый къ югу и простирающійся отъ устья Дуная до Камчатки. Такъ какъ противъ середины фронта лежатъ пустыни Монголіи и Восточнаго Туркестана, то наше движеніе къ югу должно было идти не по всей линіи фронта, а флангами и преимущественно ближайшимъ къ центру государственнаго могущества правымъ флангомъ, наступая которымъ черезъ Чёрное море и Кавказъ къ Средиземному морю и черезъ Среднюю Азію къ Персидскому заливу мы, въ случаѣ успѣха, сразу же выходили бы на величайшій изъ міровыхъ торговыхъ трактовъ – такъ называемый Суэцкій путь.
Но подобное рѣшеніе самаго важнаго изъ нашихъ государственныхъ вопросовъ не отвѣчало расчётамъ тиранически господствующихъ на морѣ и необычайно искусныхъ въ жизненной борьбѣ англичанъ, а поэтому, несмотря на всѣ блестящія побѣды наши надъ турками, хивинцами, туркменами и другими противниками на театрахъ военныхъ дѣйствій, – на театрѣ борьбы за жизнь весь правый флангъ нашъ въ концѣ концовъ потерпѣлъ неудачу: лѣвая колонна его была остановлена въ Мервѣ, средняя въ Карcѣ и Батумѣ, а самая сильная – правая, уже достигнувъ проливовъ, принуждена была повернуть назадъ и отойти къ сѣвернымъ берегамъ Чёрнаго моря.
ІІ
Наступленіе нашего лѣваго фланга началось въ шестнадцатомъ столѣтіи походомъ Ермака на Сибирское царство. Одолѣвъ это единственное въ политическомъ смыслѣ препятствіе, смѣлая вольница наша потянулась одновременно и къ сѣверу, – куда манили её слухи о большихъ богатствахъ «рыбьяго зуба» (моржовыхъ клыковъ), – и къ востоку, гдѣ дѣвственная тайга была населена драгоцѣннымъ пушнымъ звѣремъ, въ особенности вѣликолѣпнымъ сибирскимъ соболемъ. Въ погонѣ за этою добычею казаки добрались сначала до безграничныхъ пустынь Сѣвернаго Ледовитаго океана, а затѣмъ, въ началѣ восемнадцатаго столѣтія, появились и на Камчаткѣ.
Полныя необычайнаго интереса вѣсти этихъ развѣдчиковъ, дойдя до слуха уже лежавшаго на смертномъ одрѣ Петра Великаго, вызвали приказъ о посылкѣ капитана Беринга для изслѣдованія сѣверной части Тихаго океана и открытія показывавшагося во всѣхъ тогдашнихъ атласахъ миѳическаго материка «Гамаланда».
Съ невѣроятными трудностями, перевезя на вьюкахъ черезъ пустынную и бездорожную Сибирь всѣ грузы для снаряженія экспедиціи, Берингъ прибылъ на Камчатку, построилъ въ Авачинской губѣ двухпалубное судно и въ 1728 г. совершилъ на нёмъ своё первое плаваніе изъ Тихаго въ Сѣверный Ледовитый океанъ черезъ названный его именемъ проливъ, но за туманомъ не видѣлъ американскаго берега.
Посланный затѣмъ вторично, онъ въ маѣ 1741 г. на двухъ небольшихъ судахъ, «Петрѣ» и «Павлѣ», пустился въ полную неизвѣстности ширь страшно негостепріимнаго въ сѣверныхъ широтахъ Тихаго океана. Въ іюнѣ мѣсяцѣ, въ бурю и туманъ, суда потеряли другъ друга изъ вида и вынуждены были продолжать путь каждое само по себѣ. Въ іюлѣ оба они, на значительномъ другъ отъ друга разстояніи, подошли къ неизвѣстной землѣ. Такимъ образомъ, сѣверная часть Тихаго океана была пройдена, и таинственный «Гамаландъ», оказавшійся сѣверо-западнымъ берегомъ Америки, открытъ былъ русскими мореплавателями.
На обратномъ пути претерпѣвавшій страшныя лишенія отъ недостатка продовольствія и прѣсной воды «Пётръ» былъ выброшенъ бурею на лишённыя всякой древесной растительности скалы, получившія въ честь скончавшагося и похороненнаго на нихъ Беринга названіе Командорскихъ острововъ. «Павелъ» же подъ командою лейтенанта Чирикова благополучно прибылъ въ Петропавловскъ.
ІІІ
Результаты этой замѣчательной экспедиціи были огромны. Вернувшіеся изъ плаванія люди разсказали, что «дальше за Камчаткою море усѣяно островами, за ними лежитъ твёрдая земля; вдоль береговъ тянутся плавучіе луга солянки, а на нихъ кишмя кишитъ всякій звѣрь, среди котораго есть одинъ – ни бобёръ, ни выдра, больше и того и другой, мѣхъ богаче собольяго и одна шкурка стоитъ до 400 рублей».
Эта вѣсть точно кнутомъ хлестнула по воображенію сибирскихъ звѣропромышленниковъ. Открытіе Алеутскихъ острововъ и сѣверо-западной Америки явилось для нихъ тѣмъ же, чѣмъ для искателей золота могло бы явиться нахожденіе новыхъ пріисковъ, состоящихъ изъ однихъ самородковъ. И вотъ вся промысловая Сибирь устремилась своими помыслами къ Тихому океану. Спустя всего лишь четыре года на Алеутскихъ островахъ работало уже семьдесятъ семь компаній, собиравшихъ съ моря ежегодно милліонную дань.
Привилегированное положеніе нашихъ промышленниковъ продолжалось нѣсколько десятковъ лѣтъ, но затѣмъ въ открытыхъ русскими водахъ начали появляться иностранные соперники. Въ 1778 г. англійскій мореплаватель Кукъ нашёлъ, наконецъ, дорогу въ русскую часть Тихаго океана. Вслѣдъ за нимъ пошли: Ванкуверъ изъ Лондона, Миресъ изъ Остъ-Индіи, Квадра изъ Новой Испаніи. Съ другой стороны, обогнувъ мысъ Горнъ, направились туда же Кендрикъ, Грей, Инграгамъ, Кулиджъ изъ Бостона и нѣсколько кораблей, зафрахтованныхъ Джономъ Асторомъ изъ Нью-Йорка.
Съ появленіемъ этихъ соперниковъ на промыслахъ началась настоящая вакханалія. Драгоцѣнный морской бобёръ истреблялся, не разбирая ни самцовъ, ни самокъ, ни дѣтёнышей. Не знавшіе до той поры ни рому, ни огнестрѣльнаго оружія, туземцы изъ работавшихъ въ полномъ согласіи съ русскими мирныхъ охотниковъ превращались въ опасныхъ бандитовъ. Охота становилась менѣе выгодною и весьма опасною.
При такихъ условіяхъ среди начавшихъ задумываться русскихъ промышленниковъ явился человѣкъ, способный не только понять положеніе, но и бороться съ нимъ. Это былъ Григорій Ивановичъ Шелеховъ[1]. Выработанный имъ для борьбы съ иностранцами планъ заключался въ слѣдующемъ: объединить всѣхъ независимыхъ русскихъ промышленниковъ въ одну могущественную компанію; распространить русскія владѣнія на никому не принадлежавшемъ сѣверо-западномъ берегу Америки отъ Берингова пролива до испанской Калифорніи; установить торговыя сношенія съ Манилою, Кантономъ, Бостономъ и Нью-Йоркомъ. Поставивъ, наконецъ, всѣ эти предпріятія подъ защиту правительства, устроить на Гавайскихъ островахъ арсеналъ и станцію для русскаго флота, который, защищая русскіе интересы и имѣя обширную и разностороннюю практику на Тихомъ океанѣ, могъ бы выработаться въ первый въ мірѣ флотъ.
ІV
Самъ Шелеховъ не дожилъ до исполненія его предположеній, онъ умеръ въ Иркутскѣ въ 1795 г., но его планъ былъ одобренъ правительствомъ. Въ 1799 г. вновь образованная Россійско-Американская компанія получила исключительное право охоты, торговли и другихъ занятій въ открытыхъ русскими водахъ и земляхъ сѣверной части Тихаго океана. Высшее руководство дѣйствіями компаніи оставлено было за главными акціонерами въ Петербургѣ, управленіе же дѣлами на мѣстѣ поручено было ближайшему сотруднику и другу покойнаго Шелехова Александру Андреевичу Баранову.
Этотъ весьма скромнаго происхожденія и по внѣшности мало похожій на героя человѣкъ до пятидесяти лѣтъ таилъ въ себѣ дарованія природнаго вождя и великаго государственнаго строителя. Имѣя подъ своимъ началомъ лишь служащихъ компаніи и не отличавшихся храбростью алеутовъ, Барановъ перенёсъ главную квартиру компаніи съ о-ва Кадьяка на населённый свирѣпыми колошами материкъ и въ Ситхинскомъ заливѣ заложилъ столицу Русской Америки Ново-Архангельскъ[2]. Здѣсь, вслѣдъ за сооруженіемъ форта съ 16 короткими и 42 длинными орудіями, появилась верфь для постройки судовъ, мѣднолитейный заводъ, снабжавшій колоколами церкви Новой Испаніи. Столица, бѣлое населеніе которой быстро возросло до 800 семействъ, украсилась церковью, школами, библіотекою и даже картинною галереей. Въ сорока верстахъ у минеральныхъ источниковъ устроена была больница и купанья…
Какъ центръ самой важной въ то время мѣховой торговли, Ново-Архангельскъ сдѣлался первымъ портомъ на Тихомъ океанѣ, оставивъ далеко позади себя испанскій С.-Франциско. Къ нему сходились всѣ суда, плававшія въ тамошнихъ водахъ. Радушно принимая всѣхъ иностранныхъ гостей, Барановъ ни на одну минуту не упускалъ изъ виду русскихъ интересовъ и повёлъ дѣло такимъ образомъ, что самые серьёзные изъ соперниковъ – англичане – скоро добровольно ушли изъ русскихъ водъ, американцы же во главѣ съ знаменитымъ Джономъ Асторомъ, сильно сокративъ число своихъ судовъ, вступили въ сотрудничество съ русскими и заняли подчинённое положеніе, а именно: забирая уступавшихся имъ Барановымъ алеутовъ, они охотились къ югу отъ Калифорніи для русской компаніи, поставляли за мѣха съѣстные припасы и т. п.
Устраняя такимъ образомъ соперниковъ, Барановъ въ то же время не покладая рукъ работалъ надъ упроченіемъ нашего положенія. На морѣ онъ съ каждымъ годомъ увеличивалъ число русскихъ кораблей, усѣивалъ острова русскими факторіями, заводилъ торговыя сношенія съ иностранными портами, а на сушѣ всё дальше и дальше уходилъ въ глубь материка, прокладывая путь съ помощью духовенства и закрѣпляя его постройкою фортовъ. Русскія владѣнія росли и къ востоку, и къ сѣверу, и къ югу… Въ общемъ, за время своего пребыванія во главѣ компаніи Барановъ сдѣлалъ для Россіи то, что не удалось сдѣлать ни одному простому смертному. Онъ завоевалъ и принёсъ ей въ даръ всю сѣверную половину Тихаго океана, фактически превращённую имъ въ «Русское озеро», а по другую сторону этого океана цѣлую имперію, равную половинѣ Европейской Россіи, начавшую заселяться русскими и обезпеченную укрѣпленіями, арсеналами имастерскими такъ, какъ не обезпечена до сихъ поръ Сибирь.
Зависть и ея вѣрное оружіе клевета свалили этого гиганта. Добывавшій съ моря ежегодно милліоны и не воспользовавшійся изъ нихъ ни одною копѣйкою, Барановъ заподозрѣнъ былъ въ корыстолюбіи и, смѣщённый безъ объясненія причинъ, въ ноябрѣ 1818 г. отплылъ изъ своего любимаго Ново-Архангельска.
V
Съ уходомъ этого великаго человѣка кончился героическій періодъ русской дѣятельности на Тихомъ океанѣ, и русскіе, выдвинувшись за море съ такою же смѣлостью, съ какою выдвигались въ своё время голландцы, испанцы и французы, подобно имъ же должны были отступить передъ англосаксами.
Этотъ поворотъ въ ходѣ событій совершился весьма просто. Узнавъ о томъ, что въ Америкѣ уже нѣтъ больше всемогущаго Баранова, англичане снова потянулись въ нашъ промысловый районъ, а американцы опять увеличили число своихъ кораблей и начали охотиться у русскихъ береговъ. Испуганный неожиданнымъ наступленіемъ соперниковъ, новый правитель колоніи лейтенантъ Гагемейстеръ обратился за защитою къ правительству. Послѣднее указомъ 4 сентября 1821 г. объявило право русской прибрежной власти на стомильное пространство воды къ западу отъ нашихъ американскихъ владѣній. А такъ какъ поддержать это право, за неимѣніемъ въ Тихомъ океанѣ ни одного военнаго судна[3], было нечѣмъ, то въ отвѣтъ на заявленіе Россіи со стороны Англіи послѣдовалъ немедленный протестъ, а маленькіе, только что выглянувшіе на свѣтъ С.-А. Соединённые Штаты устами президента Монро громко объявили всему міру, что на открытый испанцами, французами и русскими американскій материкъ они смотрятъ какъ на свою собственность и питаютъ надежду, что державы Стараго Свѣта добровольно поймутъ, что имъ нечего больше дѣлать въ Новомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ англосаксы обоихъ государствъ, ещё далеко не дошедшіе съ востока до Скалистыхъ горъ, отъ хребта которыхъ на западъ начиналась уже русская земля, потребовали отъ Россіи разграниченія владѣній.
Результатомъ возникшихъ отсюда переговоровъ явилась чрезвычайно важная конвенція, подписанная въ одинъ и тотъ же день, 16 февраля 1825 г., и съ Англіей, и съ С.-А. Соединёнными Штатами. По этой конвенціи, заключённой съ первою державою, Россія отнесла свою границу на западъ отъ Скалистыхъ горъ до 142 градуса гринвической долготы. Сѣверная половина уступленнаго нами пространства отдана была Англіею Гудзонбайской компаніи, изъ которой же образована была такъ называемая Британская Колумбія. Разграниченіе съ С.-А. Соединёнными Штатами состояло въ простомъ отказѣ съ нашей стороны отъ принадлежавшихъ намъ земель, составляющихъ нынѣ богатѣйшіе сѣверо-западные штаты Вашингтонъ и Орегонъ. Въ общемъ, по конвенціи 16 февраля 1825 г. изъ нашихъ владѣній на материкѣ Америки за нами осталась лишь одна треть, извѣстная подъ именемъ Аляски, а двѣ трети отданы были англосаксамъ безъ всякаго вознагражденія съ ихъ стороны.
Послѣ уступки этихъ земель, дѣвственные лѣса которыхъ изобиловали пушнымъ звѣремъ, а прибрежныя воды морскимъ бобромъ и котикомъ, – весьма прибыльная мѣховая торговля, находившаяся до тѣхъ поръ на всѣхъ міровыхъ рынкахъ почти исключительно въ русскихъ рукахъ, начала переходить теперь къ англичанамъ и американцамъ; подрѣзанная въ самомъ корнѣ суженіемъ ея промысловаго района, Россійско-Американская компанія принуждена была упразднять понемногу свои факторіи и сокращать судоходство, а Россія – отходить на ту базу, откуда Берингъ началъ свои изслѣдованія Тихаго океана, т. е. на Камчатку.
Но какъ на театрѣ военныхъ дѣйствій, такъ и на театрѣ борьбы за жизнь слѣдомъ за отступающимъ идётъ и его противникъ. Поэтому не прошло и десяти лѣтъ послѣ подписанія нами конвенціи 1825 г., какъ американскіе звѣрепромышленники переправились уже на эту сторону Тихаго океана. Сначала они устремились на Командорскіе острова и принялись за истребленіе котика. Затѣмъ цѣлыя флотиліи ихъ появились въ Беринговомъ и Охотскомъ моряхъ для охоты на кита. Свободно хозяйничая въ нашихъ водахъ, они заходили въ бухты, уничтожали тамъ дѣтёнышей китовъ, грабили прибрежныхъ жителей, жгли лѣса и т. д. Полная безнаказанность за безчинства довела дерзостьамериканскихъ китобоевъ до того, что они начали врываться въ Петропавловскъ, разбивали караулъ и растаскивали батареи на дрова[4].
Въ то же время систематически наступавшіе съ юга англичане нанесли сильный ударъ нашему престижу въ Китаѣ. Лѣтомъ 1840 г. ихъ флотъ овладѣлъ Гонконгомъ. Поднявшись затѣмъ въ устье Янтсекіанга и захвативъ Вузунгъ и Шанхай, англичане по договору 1842 г. заставили Китай открыть свои порты для европейской торговли; причёмъ ближайшая сосѣдка Китая Россія умышленно не была включена въ число державъ, получившихъ право на посѣщеніе открытыхъ портовъ.
VI
Озадаченныя дружнымъ напоромъ англосаксовъ, наши офиціальныя сферы пробовали было успокоить общество тѣмъ, что благодаря недоступности Амура со стороны моря англосаксонскіе корабли никогда не проникнутъ въ глубь Сибири. Но подобное успокоеніе дѣйствовало слабо. Въ журналахъ и газетахъ того времени появилось много сильныхъ статей, наиболѣе замѣчательною изъ коихъ была статья Полевого въ «Сѣверной Пчелѣ». Перечисляя всѣ пріобрѣтенія и потери Россіи въ царствованіе Дома Романовыхъ, авторъ высказалъ мысль, что одною изъ самыхъ тяжкихъ по своимъ послѣдствіямъ потерь была потеря нами Амура. Статья эта обратила на себя вниманіе Императора Николая I, и Его Величество, несмотря на всѣ опасенія министра иностранныхъ дѣлъ графа Нессельроде о возможности разрыва съ Китаемъ, о неудовольствіи Европы, въ особенности англичанъ, въ случаѣ какихъ-либо энергичныхъ дѣйствій съ нашей стороны и т. п., приказалъ снарядить экспедицію изъ корвета «Менелай» и одного транспорта и отправить её изъ Чёрного моря подъ начальствомъ Путятина въ Китай и Японію для установленія торговыхъ сношеній съ этими государствами и для осмотра лимана и устья р. Амура, считавшагося недоступнымъ съ моря.
Но такъ какъ на снаряженіе этой экспедиціи требовалось 250.000 рублей, то на поддержку графа Нессельроде выступилъ министръ финансовъ, и экспедиція Путятина была отмѣнена. Вмѣсто нея съ необычными предосторожностями и съ наисекретнѣйшею инструкціей посланъ былъ къ устью Амура крохотный бригъ «Константинъ» подъ командою поручика Гаврилова. Хотя послѣдній ясно говорилъ въ своёмъ донесеніи, что въ тѣхъ условіяхъ, въ которыя онъ былъ поставленъ, онъ порученія исполнить не могъ, тѣмъ не менѣе министръ иностранныхъ дѣлъ доложилъ Государю, что приказаніе Его Величества исполнено въ точности, что изслѣдованія поручика Гаврилова ещё разъ доказали, что Сахалинъ – полуостровъ. Амуръ съ моря недоступенъ, а слѣдовательно, и рѣка эта не имѣетъ для Россіи никакого значенія.
Вслѣдъ за этимъ Особый Комитетъ подъ предсѣдательствомъ графа Нессельроде и съ участіемъ военнаго министра графа Чернышёва, генералъ-квартирмейстера Берга и др. постановилъ признать Амурскій бассейнъ принадлежащимъ Китаю и отказаться отъ него навсегда.
Рѣшеніе это казалось окончательнымъ и безповоротнымъ, и оно было бы таковымъ, если бы въ самый критическій моментъ среди русскихъ людей снова не нашёлся одинъ изъ тѣхъ праведниковъ, которыми держится Русская земля. Таковымъ былъ даровитый морякъ и мужественный патріотъ Геннадій Ивановичъ Невельской.
Отправившись въ 1848 г. на транспортѣ «Байкалъ» для доставки въ Петропавловскъ казённыхъ грузовъ, Невельской лѣтомъ 1849 г. прибылъ въ устье Амура и послѣ 42-дневной работы установилъ: 1) что Сахалинъ не полуостровъ, а островъ, отдѣляющійся отъ материка проливомъ въ 4 мили шириною, при наименьшей глубинѣ въ 5 саж., и 2) что входъ въ Амуръ какъ изъ Охотскаго, такъ и Японскаго морей – доступенъ для морскихъ судовъ.
VII
Это открытіе, плохо понятое у насъ и едва не повлёкшее за собою разжалованіе самого Невельского въ рядовые, наоборотъ, въ Англіи и Америкѣ вызвало сильную тревогу и цѣлый рядъ мѣропріятій. Но прежде чѣмъ говорить о нихъ, позволю себѣ сдѣлать слѣдующее маленькое отступленіе.
Простая справедливость требуетъ признанія за всемірными завоевателями и нашими жизненными соперниками англосаксами одного неоспоримаго качества – никогда и ни въ чёмъ нашъ хвалёный инстинктъ не играетъ у нихъ роли добродѣтельной Антигоны. Внимательно наблюдая жизнь человѣчества въ ея цѣломъ и оцѣнивая каждое событіе по степени вліянія его на ихъ собственныя дѣла, они неустанною работою мозга развиваютъ въ себѣ способность на огромное разстояніе во времени и пространствѣ видѣть и почти осязать то, что людямъ съ лѣнивымъ умомъ и слабымъ воображеніемъ кажется пустою фантазіей. Въ искусствѣ борьбы за жизнь, т. е. политикѣ, эта способность даётъ имъ всѣ преимущества геніальнаго шахматиста надъ посредственнымъ игрокомъ. Испещрённая океанами, материками и островами земная поверхность является для нихъ своего рода шахматною доскою, а тщательно изученные въ своихъ основныхъ свойствахъ и въ духовныхъ качествахъ своихъ правителей народы – живыми фигурами и пѣшками, которыми они двигаютъ съ такою разсчитанностью, что ихъ противникъ, видящій въ каждой стоящей передъ нимъ пѣшкѣ самостоятельнаго врага, въ концѣ концовъ теряется въ недоумѣніи, какимъ же образомъ и когда сдѣланъ былъ имъ роковой ходъ, приведшій къ проигрышу партіи?
Такого именно рода искусство увидимъ мы сейчасъ въ дѣйствіяхъ американцевъ и англичанъ противъ насъ самихъ.
Едва только вѣсть о новыхъ русскихъ открытіяхъ въ Тихомъ океанѣ распространилась по цивилизованному міру, какъ работавшіе у Камчатки и въ Охотскомъ морѣ американскіекитобои потянулись къ Амурскому лиману и Татарскому заливу для наблюденія за нашими дѣйствіями въ тамошнихъ мѣстахъ. Въ сосѣдней Маньчжуріи появились лучшіе изъ политическихъ развѣдчиковъ – миссіонеры. Въ самихъ Штатахъ политическая мысль занялась выясненіемъ вопроса о томъ, какое значеніе можетъ имѣть величайшій изъ бассейновъ земного шара, т. е. Тихій океанъ, для человѣчества вообще и для с. – американцевъ въ особенности? Поднятый сначала печатью, вопросъ этотъ перешёлъ затѣмъ въ вашингтонскій сенатъ, составляющійся, подобно древнему римскому сенату и англійской Палатѣ Лордовъ, изъ самыхъ сильныхъ головъ, такъ называемыхъ «строителей государства». Изъ произнесённыхъ въ этомъ учрежденіи въ 1852 г. рѣчей, посвящённыхъ тихоокеанскому вопросу, самою замѣчательною по глубинѣ содержанія и ясновидѣнію была рѣчь сенатора штата Нью-Йоркъ Уильяма Сьюорда.
Съ своей стороны, не сидѣла сложа руки и исполнительная власть. Обдумывая надъ картою возможное въ ближайшемъ будущемъ занятіе Россіею Амурскаго бассейна, руководители американской политики обратили вниманіе на то, что главные японскіе острова Йезо, Ниппонъ и Кіу-Сіу[5], вытянувшись дугою отъ Сахалина до Корейскаго пролива, представляютъ какъ бы гигантскій баръ, заграждающій собою то море, къ которому не сегодня-завтра должна была выйти Россія по Амуру. Это обстоятельство сейчасъ же подсказало привыкшему къ сложнымъ комбинаціямъ англосаксонскому уму одинъ изъ замѣчательныхъ по смѣлости, дальновидности и глубинѣ расчёта политическихъ ходовъ, а именно:
Не теряя времени, предпринять морской походъ въ Японію съ тѣмъ, чтобы однимъ ударомъ утвердить надъ нею моральное господство С.-А. Соединённыхъ Штатовъ, взять её подъ свою опеку и, постепенно направляя ея честолюбіе на азіатскій материкъ, подготовить такимъ образомъ изъ этого островного государства сильный англосаксонскій авангардъ противъ Россіи.
Съ этою цѣлью по приказанію президента сформирована была и въ ноябрѣ 1852 г. отправлена въ Тихій океанъ сильная эскадра въ 10 военныхъ судовъ подъ начальствомъ командора Перри. Подойдя лѣтомъ 1853 г. къ берегамъ Японіи, Перри, послѣ отказа японцевъ впустить его въ Куригамскую бухту, приступилъ къ бомбардировкѣ прибрежныхъ городовъ. Никогда не видѣнные въ такомъ количествѣ «чёрные корабли» американцевъ, энергичныя дѣйствія и повелительный тонъ начальника эскадры навели на японцевъ паническій страхъ и внушили имъ представленіе о С.-А. Соединённыхъ Штатахъ какъ о самомъ могущественномъ государствѣ въ мірѣ.
Давъ такимъ образомъ японцамъ почувствовать сначала силу, американцы объявили себя затѣмъ духовными отцами этого выведеннаго ими изъ замкнутаго состоянія народа и заставили его принять къ себѣ, кромѣ дипломатическихъ представителей, ещё и особыхъ совѣтниковъ по иностраннымъ дѣламъ. Послѣдніе же, внимательно слѣдя за каждымъ нашимъ шагомъ въ Азіи и постепенно внушая японцамъ страхъ къ Россіи и ненависть ко всему русскому, начали превращать нашего легко поддающагося чужому вліянію сосѣда въ подозрительнаго и опаснаго врага…
VIII
Теперь что касается Англіи, то открытіе Невельскимъ новаго выхода къ Тихому океану заставило эту державу ускорить объявленіе намъ Севастопольской войны, имѣвшей цѣлью совершенное уничтоженіе нашего флота и разрушеніе опорныхъ пунктовъ на всѣхъ моряхъ, омывающихъ Россію. Неизбѣжность же этой войны, ставшая очевидною ещё въ 1852 г., побудила насъ въ свою очередь къ болѣе энергичнымъ дѣйствіямъ на Амурѣ.
«Ожидаемый разрывъ съ западными державами», – говоритъ въ своихъ запискахъ Невельской, – «понудилъ генералъ-губернатора прибыть въ Петербургъ для обсужденія предположеній о защитѣ ввѣреннаго ему края. 22 апрѣля 1853 г. Н. Н. Муравьёвъ имѣлъ счастье докладывать Государю Императору, что для подкрѣпленія Петропавловска необходимо разрѣшить сплавъ по р. Амуру, ибо берегомъ нѣтъ никакой возможности доставить въ Петропавловскъ ни продовольствія, ни оружія, ни войскъ. Выслушавъ докладъ Муравьёва, Государь того же 22 апрѣля Высочайше повелѣть соизволилъ: написать объ этомъ китайскому трибуналу, предложеніе же Муравьёва о сплавѣ по Амуру запасовъ оружія, продовольствія и войскъ разсмотрѣть въ Особомъ Комитетѣ».
Въ послѣднемъ большинствомъ голосовъ рѣшено было «плыть по рѣкѣ Амуру».
Первый торжественный сплавъ произведёнъ былъ въ навигацію 1854 г.
Въ это время союзный англо-французскій флотъ изъ 6 судовъ, собравшись у береговъ Америки, заканчивалъ уже совмѣстное обученіе и въ августѣ 1854 г. подошёлъ къ Петропавловску. Обстрѣлявъ береговыя укрѣпленія, непріятель спустилъ на берегъ 700 человѣкъ судовыхъ командъ и двинулся въ атаку. Но атака была отбита, и союзники съ большимъ урономъ бѣжали на свои суда.
Въ слѣдующемъ 1855 г., хотя непріятельскій флотъ, доведённый до 17 судовъ, усиленъ былъ ещё и отдѣльною гонконгскою эскадрою, тѣмъ не менѣе операціи его оказались столь же безуспѣшными, такъ какъ Петропавловскій портъ былъ снятъ, всё имущество его перевезено въ Николаевскъ, а суда введены въ устье Амура.
Не успѣвъ, такимъ образомъ, причинить намъ на Тихомъ океанѣ почти никакого вреда, крѣпко зацѣпившіеся за Южный Китай, англичане рѣшили въ слѣдующемъ же 1856 г. перенести свои дѣйствія въ сѣверную часть его съ цѣлью, нѣсколько схожею съ той, съ которою американцы посылали въ Японію экспедицію Перри. Но возстаніе въ Индіи не позволило имъ сразу же двинуть въ Китай значительныя силы. Серьёзныя операціи начались лишь въ 1858 г. и затянулись до 1860 г., а за это время событія на Амурѣ начали быстро идти къ благополучному для насъ разрѣшенію.
Въ концѣ 1856 г. учреждена была Приморская область, и центръ управленія всею прилегающею къ Тихому океану Сибирью перенесёнъ изъ Петропавловска въ Николаевскъ-на-Амурѣ. Въ началѣ 1857 г. утверждено было заселеніе лѣваго берега Амура, для чего съ открытіемъ навигаціи двинуты были внизъ по рѣкѣ переселенцы Амурскаго коннаго полка и подъ личнымъ распоряженіемъ генералъ-губернатора заняли лѣвый берегъ Амура. При устьѣ Зеи сталъ лагеремъ 13[-й] линейный батальонъ и дивизіонъ лёгкой артиллеріи. Кромѣ того, Муравьёвъ формировалъ въ Забайкальской области изъ крестьянъ горнозаводскаго вѣдомства пѣшій казачій полкъ съ артиллеріей, а въ распоряженіи адмирала Путятина шли уже изъ Кронштадта семь военныхъ судовъ.
Столь рѣшительныя мѣры къ упроченію нашего положенія на Амурѣ произвели сильное впечатлѣніе на Китай. Не желавшее вначалѣ разговаривать съ нашими дипломатами, пекинское правительство прислало теперь сказать, что «изъ-за возникшихъ недоразумѣній не приходится ему разрывать съ нами двухсотлѣтнюю дружбу». Начавшіеся вслѣдствіе такого заявленія переговоры между иркутскимъ генералъ-губернаторомъ и пограничными китайскими властями привели къ заключенію такъ называемаго Айгуньскаго договора, признававшаго за Россіею право на тѣ земли, которыя фактически заняты были нами исключительно благодаря смѣлой иниціативѣ и неутомимой энергіи Геннадія Ивановича Невельского и Николая Николаевича Муравьёва.
IX
Послѣ Айгуньскаго договора, подписаннаго 16 мая 1858 г. и утверждённаго центральнымъ китайскимъ правительствомъ въ ноябрѣ 1860 г., политическая обстановка на лѣвомъ флангѣ сложилась такимъ образомъ.
Болѣе ста лѣтъ наше сообщеніе съ Тихимъ океаномъ совершалось по пути, проложенному вольницей. Послѣдній участокъ этого пути отъ Якутска до Охотска представлялъ собою узенькую караванную тропу, на 1.100 вёрстъ тянувшуюся по обрывистымъ горамъ, лѣсамъ и тундрамъ къ скованному въ теченіе двухъ третей года льдомъ Охотскому морю и лежащей за нимъ вѣчно голодной Камчаткѣ.
Съ пріобрѣтеніемъ Амура мы стали на хорошій водный путь, въ 4.140 вёрстъ длиною и отъ 300 до 1.000 саж. шириною, шедшій по хлѣбородному краю и приводившій къ Японскому морю. Послѣднее, по сравненію съ Охотскимъ и Беринговымъ морями, казалось тёплымъ, укрытымъ и вполнѣ удобнымъ для устройства на нёмъ базъ торговаго и военнаго флота. На самомъ же дѣлѣ оно обладало слѣдующими крупными недостатками. Во-первыхъ, въ зимнее время оно также вдоль материка обрамлялось широкою ледяною полосою. Спасаясь отъ этого предательскаго капкана, нашъ флотъ четыре мѣсяца въ году, въ качествѣ бездомнаго, вынужденъ былъ скитаться по чужимъ портамъ, что не могло способствовать его престижу. Во-вторыхъ, выходы изъ этого моря, какъ на югъ, черезъ Корейскій проливъ, такъ и на востокъ, черезъ Лаперузовъ, находились подъ ударами Японіи, за спиною которой стояли уже С.-А. Соединённые Штаты.
Недостатки эти тотчасъ же замѣчены были англичанами, почему вслѣдъ за ратификаціей Айгуньскаго договора англійская печать, по сигналу хорошо извѣстнаго въ своё время Равенштейна, забила тревогу, указывая на беззащитность Маньчжуріи и на то, что начавшая уже спускаться съ своихъ ледниковъ Россія не задержится на Амурѣ ни одного лишняго дня и при первомъ же удобномъ случаѣ двинетъ свои полки далѣе на югъ къ Печилійскому заливу.
Да, но хорошо было говорить объ этомъ наступленіи англичанамъ, для которыхъ весь міръ представляетъ собою раскрытую книгу, которые ясно видѣли наше положеніе, знали, зачѣмъ намъ нужны Маньчжурія и Печилійскій заливъ и какого рода сопротивленіе могли мы встрѣтить со стороны Китая. Между тѣмъ какъ для насъ самихъ весь нашъ лѣвый флангъ съ его морями, Китаемъ, Японіей, Маньчжуріей, Монголіей и т. п. казался, да и сейчасъ кажется, какимъ-то безконечнымъ тёмнымъ лѣсомъ, лишь изрѣдка освѣщённымъ небольшими полянками, служившими намъ для болѣе или менѣе продолжительнаго отдыха.
Такъ, во время нашего господства на Тихомъ океанѣ послѣдній имѣлъ для насъ только одно значеніе. Въ теченіе тысячелѣтій никѣмъ не потревоженная природа развела на нёмъ безчисленныя стада морскихъ коровъ, выдръ, львовъ, бобровъ, котиковъ и другихъ животныхъ. Это обширное пастбище, приносившее намъ значительные доходы, требовало охраны, почему время отъ времени посылалось туда изъ Кронштадта военное судно. Но заводить тихоокеанскій флотъ, какъ этого настойчиво домогались Шелеховъ и Барановъ, обязывавшіеся дать ему отличную стоянку на Гавайскихъ островахъ, считалось лишнимъ, ибо, по тогдашнему нашему мнѣнію, Великій океанъ былъ и на вѣки вѣковъ долженъ былъ остаться мёртвою и никому не нужною пустынею. Но вотъ пришли англосаксы, отняли у насъ наши пастбища, и мы отошли на Камчатку. Затѣмъ тѣ же англосаксы направились къ Китаю и начали ломать окна и двери нашего сосѣда. На этотъ шумъ мы спустились къ Амуру и, снявъ съ плечъ котомку, усѣлись въ ожиданіи новыхъ событій.
Для народа, одарённаго практическимъ смысломъ, творческою энергіей и предпріимчивостью, въ этомъ и до сихъ продолжающемся блужданіи и нерѣшительности есть что-то ненормальное. Ясно, что гдѣ-то и когда-то мы сбились съ нашего пути, отошли отъ него далеко въ сторону и потеряли даже направленіе, по которому должны были слѣдовать къ указанной намъ Провидѣніемъ цѣли. А поэтому не пожалѣемъ труда и вернёмся къ самымъ первымъ шагамъ нашей исторіи.
X
Достаточно взглянуть на карту Азіи, чтобы видѣть, что этотъ материкъ по линіи Гималайскихъ горъ подраздѣляется на двѣ совершенно непохожія одна на другую части – тёплый, плодородный югъ и холодный, преимущественно степной сѣверъ. Ещё въ то время, когда Ромулъ и Ремъ питались молокомъ волчицы, а Моисей готовился выводить своихъ сородичей изъ Египта, почти весь югъ занятъ былъ уже посѣдѣвшими отъ заботъ строительной жизни и утратившими способность къ наступательной борьбѣ Китаемъ и Индіей. Извѣстный же подъ общимъ именемъ Татаріи сѣверъ, или, правильнѣе, самая важная для исторіи человѣчества часть его – раскинувшаяся на высокомъ среднеазіатскомъ плоскогоріи Монгольская степь, населена была пастухами-кочевниками.
Не знавшія ни государства, ни центральной власти, многолюдныя семьи кочевниковъ, точно облака по небу, мирно бродили по необозримой степи, собирая посредствомъ своихъ стадъ засѣвавшуюся для нихъ Господомъ Богомъ жатву. Но райски беззаботная жизнь ихъ не могла длиться до безконечности. По мѣрѣ того, какъ населеніе увеличивалось, приближался и моментъ, когда «Великая степь», прозванная римлянами Vagina gentium, должна была освободиться отъ своего бремени.
Въ этотъ знаменательный для степи періодъ среди кочевниковъ выискивался обыкновенно человѣкъ бывалый и энергичный, способный составить караванъ и отвести его на новыя пастбища. Съ помощью четвероногаго телеграфа вѣсть о такомъ вожакѣ быстро разносилась во всѣ концы, и къ нему начинали стекаться наиболѣе смѣлые и рѣшительные изъ кочевниковъ со своими семьями и стадами. Тихо журча по степи, эти мелкіе ручьи сливались затѣмъ въ шумный человѣческій потокъ, скатывавшійся съ плоскогорія и устремлявшійся, смотря по освѣдомлённости и счастью вождя, или на сѣверъ, или на югъ, или на западъ.











