Читать онлайн Я вернулся к тебе Отчизна!
- Автор: Лев Трубаев
- Жанр: Книги о войне, Биографии и мемуары
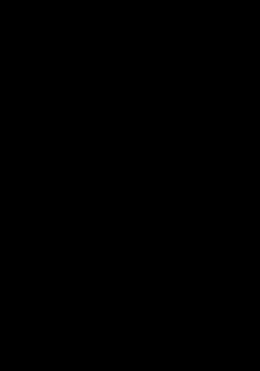
Пятигорск, 2025г.
ВСТУПЛЕНИЕ
Повседневная жизнь с родителями, особенно в юности, обычно, не позволяет увидеть и в полной мере осознать их жизненный путь, трудности и порой жестокие и глубоко трагические ситуации, которые они пережили. Но с годами, контрастность и яркость пережитого проявляется намного сильнее и отчётливей. Так и с моим отцом Львом Яковлевичем Трубаевым- участником Великой Отечественной войны, инвалидом ВОВ второй группы, бывшим военнопленным, автором, представляемым вашему вниманию книге-воспоминанию, «Я вернусь к тебе, отчизна!» Прочитав рукопись в детстве, с интересом следил за сюжетом, многочисленными описанными событиями, но только теперь осознаёшь чудовищную несправедливость фашизма, творившего свои злодеяния на нашей земле, лишения свободы людей, изощрённых издевательств и полностью обесценению жизни. И отцу, как мне кажется, удалось в описании повседневной жизни попавшего в плен простого человека, на собственном опыте, показать зверство и принципиальную невозможность существования фашизма, в любом его проявлении, как совершенно противное человечеству явление.
Отец не рассказывал обычно об участии в войне, и тем более о плене. Но прожив большую интересную жизнь, имея семью, достигнув больших профессиональных успехов, но всё же война и плен остались, несомненно, самыми яркими и значимыми событиями в его жизни. Он нашёл в себе силы и осознал необходимость написания воспоминания об участия в войне и нахождения в плену, такой страшный опыт и переживания должны увидеть свет и стать достоянием в первую очередь молодёжи способной хоть немного разобраться в перипетии современной жизни.
Книга написана в 1996 году за четыре года до смерти автора, но только в 2025 году удалось привести рукопись в состояние необходимого для её издания. В связи с удачными обстоятельствами рукопись этой книги была переведена на английский язык, мужем внучки автора Полом Литли, что, несомненно, увеличит аудиторию читателей, заинтересованных в проблеме, поднятой автором.
Издаваемая рукопись, содержит противные самой жизни, жуткие нечеловеческие мучения и унижения, пережитые автором, которые являются не только достоянием и болью нашей семьи, нашей родины России и в целом общечеловеческой проблемой и трагедией, которая никогда не должна повториться.
Трубаев Владимир Львович
Май 2025 год
ОБ АВТОРЕ
Трубаев Лев Яковлевич
09.09.1923 – 09.02.2000
Лейтенант артиллерии.
Бывший командир огневого взвода 76-мм пушек 716 стрелкового полка, 157 стрелковой дивизии – 76 гвардейской стрелковой Черниговской Краснознамённой дивизии; командир взвода управления 1-й и 6-й батарей 122-мм гаубиц 852-го артиллерийского Краснознамённого полка 276-й стрелковой Темрюкской дважды Краснознамённой дивизии.
Участник боёв на Крымском, Закавказском, Северо-Кавказском, 1-м Украинском фронтах с января 1942 г. по январь 1944 г.
Награды: два ордена Отечественной войны, медали «За отвагу», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией», Жукова, «Ветеран труда», девять юбилейных медалей в честь Победы в Великой Отечественной войне и за службу в Вооружённых силах СССР.
Инвалид ВОВ II группы.
ПРОЛОГ
Посвящаю советским военнопленным,
которые пережили все ужасы плена
и вернулись на Родину
с чистой совестью, незапятнанными.
Писать о плене очень трудно. Один мой товарищ, узнав, что я хочу написать о плене в фашистской Германии во время Отечественной войны, сказал: «И нужно ли сейчас, в свои семьдесят три года вспоминать кошмарные дни в лагерях, ещё раз переживать все ужасы плена? Ведь тебе не двадцать лет, сердце уже не то!»
Но я твёрдо решил написать о самых трудных днях своей жизни, о выпавшей на мою долю тяжёлой судьбе. В течение жизни на мне лежало пятно плена, хотя в пленении я не видел своей прямой вины. Меня всю жизнь преследовали высказывания ответственных руководителей нашего государства: «Плен – это позор. Плен несовместим с присягой, воинским долгом и честью». Вокруг бывших советских пленных, хлебнувших столько лиха после войны, так и не был разорван круг недоверия, даже после того, когда в пятидесятые годы многих восстановили в воинских званиях и даже в партии, сняли ограничения при устройстве на учёбу, работу, уравняли в пенсиях, правах и льготах с другими участниками войны. Между тем, по международным соглашениям («Гаагское соглашение», «Женевская конвенция об обращении с пленными») военнопленные рассматривались не как преступники, а как пострадавшая сторона.
В большинстве стран в обществе утверждалась мысль о необходимости защиты пленного, ибо плен рассматривался, как печальная принадлежность войн, как раны или смерть, являющиеся результатом войн. Во Франции, Великобритании, Бельгии, Италии, США пленные после освобождения получали очередные воинские звания. За время пребывания в плену им сохранялась выслуга лет. После плена они сполна получили всю причитающуюся им заработную плату за всё время пребывания в плену, причём полностью, один к одному. Их награждали медалями за стойкость, за выживание в плену, за то, что сохранили себя для Отечества, для семьи. Всего этого у нас в стране не было. Человек, вырвавшийся из фашистского плена, чувствовал себя несчастным, подавленным, отторгнутым от общества. Сталинская формула «в Красной Армии нет военнопленных, есть только предатели и изменники Родины» на многие годы искорёжила, надломила жизнь миллионам пленных. Автор этой книги не раз переносил унижения из-за своего плена.
По официальным данным на 1995 год, в плену побывало 4 миллиона 559 тысяч военных, из них погибло в плену около 2 миллионов человек, возвратилось из плена 1 миллион 836 тысяч человек, остались за рубежом 723 тысячи человек. Большинство пленных не было предателями и изменниками. В плен попадали не добровольно, а будучи окружёнными, раненными, больными или лишёнными оружия и боеприпасов для своей защиты. Ещё раз хочу подчеркнуть, что власти нашей страны не должны были относиться к ним как к врагам и предателям.
К лету 1945 года на территории СССР действовало 43 специальных и 76 фильтрационных проверочных лагерей. Считалось, что человек находится на проверке, но фактически он попадал в знакомый по плену лагерь, лишь с другими функциями. Если в Германии лагерь с бараками был огорожен двумя рядами проволочных заграждений, то в СССР – одним рядом. Те же охранные вышки, те же нары.
После прохождения тщательной четырёхмесячной спецпроверки в одном из лагерей под городом Великие Луки я был демобилизован из рядов Советской Армии в восстановленном звании лейтенанта.
Домой, на Северный Кавказ, ехал в старом, грязном красноармейском обмундировании, на армейском языке – «бывшем в употреблении». В кармане не было ни копейки, только продовольственный аттестат на еду и железнодорожное предписание на получение билета к месту жительства.
В Грозный приехал рано утром. Был одет в поношенное, выцветшее на солнце красноармейское обмундирование, на ногах – рваные ботинки, на голове – измятая летняя пилотка, за спиной – старый армейский вещевой мешок. В таком жалком виде попался на глаза дворничихе, одиноко подметавшей привокзальную площадь. Она внимательно посмотрела на меня и сказала со скорбью: «Сынок, сразу видно, что возвращаешься из плена. Слава Богу, что живой, а остальное – дело наживное!»
Поступить учиться туда, куда мечтал перед войной – ни в МГУ на факультет журналистики, ни в химико-технологический институт имени Менделеева, ни в железнодорожный институт – не удалось, отовсюду был отказ. Нельзя было поступать лишь из-за одного пункта анкеты: был в плену.
Удалось поступить в периферийный Грозненский нефтяной институт, и то благодаря руководящему положению отца в городе и его большому партийному стажу: он состоял в партии с марта 1918 года. Из-за пребывания в плену, на третьем курсе технологического факультета меня чуть не отстранили от производственной практики. Спасло то, что я был освобождён из плена советскими, а не американскими войсками. В противном случае пришлось бы перейти для дальнейшего обучения на нефтепромысловый факультет. Попытка восстановить свой кандидатский стаж в партии тоже окончилась неудачно всё по той же причине.
Лишь после смерти Сталина, когда в стране стали смотреть на военнопленных не как на предателей, а судить по их делам, мне удалось уже на работе в проектном институте повторно пройти кандидатский стаж и вступить в ряды КПСС. Однако на бюро райкома партии за мой приём было подано четыре голоса, а против три; последние мотивировали своё отрицательное голосование тем, что я был в плену, и что «таким» не место в партии, так как они – «предатели».
Если мои однокурсники на работе сразу же получили допуск к секретной проектной документации, то я его получил лишь спустя два года. Продвижение по службе шло так же медленно: мешал всё тот же пресловутый пункт анкеты – плен. Как только на работе положительно решался вопрос о моём очередном продвижении по службе, следовало напоминание и предупреждение соответствующих компетентных органов – был в плену. Из-за плена меня ни разу не направляли в командировку за границу, хотя по работе поехать туда бывало необходимо. Можно было бы продолжить перечень примеров, препятствовавших продвижению по службе, получению наград, решению социально-бытовых вопросов и так далее. И всё одна и та же причина: был в плену, был в плену…
Хорошо помню, как реагировали штатские и армейские власти на опубликованную в 1957 году повесть Михаила Шолохова «Судьба человека», в которой талантливый писатель показал мужество и стойкость советского человека в плену. Генералы возмущались: «Надо писать о воинах, стоящих насмерть, а не о пленных. Плен – это позор!»
Некоторые люди не допускают мысли о том, что на войне всякое может случиться. Ещё ни одна война в мире не обходилась без плена. Не так всё просто было и в ходе Великой Отечественной войны. Молодёжь, бесспорно, надо воспитывать прежде всего на подвигах героев, на их победах в войне. Но ведь и подвиги бывают разные: одни – в ходе боевых действий, другие – в плену. Разве нельзя воспитывать молодёжь на примере стойкости военнопленного генерала Карбышева, мужественно переносившему все тяготы плена и не ставшего предателем несмотря на то, что ему предлагали командовать власовской армией. В феврале 1945 года в лагере Маутхаузен он был заживо замурован в ледяной глыбе, намытой фашистами. Или на примере Мусы Джалиля, сражавшегося до последнего в стане врагов и расстрелянного в фашистской тюрьме Моабит в Берлине. А разве не пример для молодёжи – героический побег из фашистского плена лётчика-истребителя Михаила Девятаева?
Рассказывать о плене – это не значит учить молодёжь, как жить в плену, как его перенести. Рассказать о плене – это напомнить о борьбе советских людей в условиях фашистской неволи, показать на примере пленных их патриотизм, горячую любовь к своей Родине.
Один из бывших узников, а потом – экскурсовод в лагере смерти «Освенцим» – поляк Владислав Станик рассказывал тысячам туристов из всех стран мира: «Когда встречаешь русского человека, хочется снять перед ним шапку. Русские вели себя в плену гордо, независимо, несмотря ни на какие мучения. Это, действительно, мужественные люди, герои».
Конечно, в плену были разные люди. Были и такие, которые добровольно «подняли руки», стали дважды предателями, перейдя на сторону власовцев. Но таких было мало. Не они «делали погоду» в лагерях военнопленных. Помню, как в лагере я читал стихи неизвестного автора, своего собрата по несчастью:
О Родина, о Русь, я с малых лет любил
Твои просторы, реки и дубравы.
Нет, Родина, тебя я не забыл,
Забыть тебя я не имею права.
Пусть жизнь трудна и подневолен труд.
За проволокой ржавой и колючей.
Уверен я, другие дни придут,
Засветит солнце, разгоняя тучи…
Много неистощимой веры в жизнь в каждом слове этого лагерного стихотворения. Как пророчески, сквозь дни и годы плена звучат, обращённые к любимой Отчизне слова лагерника-патриота:
Я вернусь ещё к тебе Россия,
Чтоб услышать шум твоих лесов,
Чтоб увидеть реки голубые,
Чтоб идти тропой моих отцов!
Да, долго я собирался писать о плене, но всё время откладывал. Эта тема была для меня всегда как бы закрытой. Лишь выход Указа Президента России Б. Н. Ельцина в начале 1995 года о полной реабилитации советских военнопленных подстегнул меня написать воспоминания.
Указ № 63 от 24 января 1995 года называется «О восстановлении законных прав советских военнопленных, репатриированных в период Великой Отечественной войны и в послевоенный период». Президент обязал Правительство Российской Федерации рассмотреть вопрос о распространении на бывших советских военнопленных условий и порядка выплаты им компенсации как лицам, подвергшимся нацистским преследованиям. Выход Указа можно рассматривать как момент покаяния перед людьми, которые по воле бывшего руководства страны стали изгоями в родном Отечестве. Только с этого момента была окончательно поставлена точка в трагедии советских военнопленных. Он ликвидировал беззаконие в отношении тех, кто вернулся из фашистской неволи.
Человеческая жизнь коротка. Годы бегут очень быстро. Кажется, что совсем недавно мне было двадцать лет, а теперь на носу уже семьдесят пять… В плену я пробыл всего 16 месяцев. Но они тянулись очень медленно. Один прожитый день равнялся месяцу, месяц – году, а год казался вечностью. Наверное, поэтому я так хорошо запомнил все происходившие события во время пребывания в неволе. В своих воспоминаниях о плене я останавливаюсь на тех событиях и фактах, которые мне больше запомнились и произвели неизгладимое впечатление. Конечно, рассказываю о них только правду, ничего не выдумываю. Описываю только те события, свидетелем которых был лично. В моих воспоминаниях упоминаются в основном люди со своими действительными именами и фамилиями. Да простят меня те, чьи имена и фамилии не остались в моей памяти. Для них пришлось придумать новые, но таких в моей документальной повести единицы.
После боя под Дрыгловом
4 января 1944 года в бою под селом Дрыглов Чудновского района Житомирской области после кровопролитного двухчасового боя по овладению селом, при поспешном отходе от подожжённого танком противника стога сена, где размещался наблюдательный пункт батареи, я вместе со своим связистом, пробираясь через лесные заросли берёзовой рощи, напоролся на немецкую засаду. Связист сразу же был убит, а меня оглушили сильным ударом по голове. На миг я потерял сознание. Меня, контуженного, немцы взяли в плен.
Таким трагическим финалом завершился мой последний бой в Великой Отечественной войне. О нём я написал подробно в других своих воспоминаниях «О друзьях, однополчанах 276-й стрелковой Темрюкской дивизии».
Двое эсэсовцев, схватив меня под руки, потащили по лесу в расположение своего подразделения. На опушке рощи были вырыты окопы, в которых находилось до двадцати немецких солдат. В один из пустых окопов бросили меня. Там я перевязал голову, так как кровоточила ссадина. Мучила невыносимая боль, а в ушах стоял звон. В полдень к позициям немцев подъехала автомашина с алюминиевыми бидонами, в которых находился обед. Солдаты стали выходить из окопов с котелками и кружками. Каждому разносчик наливал в котелок мясной суп, в крышку котелка накладывал гречневую кашу, а кружку наполнял фруктовым компотом.
В конце солдатского обеда ко мне подошёл молодой солдат лет двадцати, протянул котелок с супом и крышку с кашей. Дал ложку и кружку с компотом. Почти сутки я ничего не ел. Был очень голоден. Набросился на еду и быстро всё умял, поблагодарив за вкусный обед.
Солдат спросил: «Откуда родом?» Я ответил: «С Украины, из города Харькова».
Такой же вопрос я задал немцу. Тот ответил, что он немецкий колонист из Югославии. На петлицах немца я увидел знаки
SS
. Немец угостил меня сигаретой и закурил сам. Курили молча. Лишь к концу нашего общения, солдат заговорил: «Зачем нам война? Моя мама там, в Югославии, переживает за мою жизнь. Твоя мама тоже переживает за тебя. Было бы справедливее, если бы Гитлер, Сталин, Рузвельт и Черчилль собрались в спортивном клубе и на боксёрском ринге выяснили свои отношения, вплоть до того, что поубивали бы друг друга. Нам, молодым, война не нужна».
Конец боя у селения Дрыглово.
ЦАМО, фонд 852, АП
Опись 142158, дело 5, оперсводка КАД.
на 04.01.44
выкопировка произведена 24.02.87
+ Место пленения – по указанию автора
Из его рассуждений я понял, что сейчас немецкие солдаты уже не те, какими были в начале войны. Из печати мы знали, что немцы мечтали тогда достичь лёгкой победы – в течение трёх-четырёх месяцев завоевать СССР. Тогда Гитлер их устраивал. Каждый немец думал получить в России в личное пользование несколько десятков гектаров земли и десятки рабов-славян в придачу…
Во время обеденного перерыва минут на тридцать я был предоставлен в окопе самому себе наедине с тревожными мыслями. Первым делом я стал обдумывать, как вести себя во время предстоящего допроса. Я знал, что он будет, ведь недаром оставили меня в живых – они взяли в плен лейтенанта в качестве «языка».
Решил, что фамилию свою менять не буду, так как из отобранного у меня удостоверения личности, которое находилось в грудном кармане гимнастёрки, было известно, какая у меня фамилия и из какой я части. Я решил ни в коем случае не говорить немцам, что в начале войны призывался Джамбульским военкоматом в Казахстане, так как мой отец в городе Джамбуле занимал высокий пост, был начальником областного управления связи. Этим я думал обезопасить отца от возможного шантажа со стороны немецких разведок. Об этом перед войной мы были наслышаны из газет и радио. Впредь решил сообщать всем в плену, в том числе и немцам, что мои родители живут в Георгиевском районе в селе Курганное на Северном Кавказе и работают служащими в совхозе. Я рассчитывал, что, если погибну в плену, то кто-нибудь из пленных сообщит односельчанам, а через них родители обязательно узнают о моей судьбе. В селе нас знали по фамилии Трубаи. Кроме того, думал, что после войны по книгам записей о военнопленных в лагерях можно будет найти мои следы. Опасался, что немцы примут меня за еврея, так как я был смуглый, с карими глазами, хотя от роду я чистокровный русский. На голове – роскошный кучерявый чуб из тёмных волос. Вот имя и отчество – Лев Яковлевич – могли бы вызвать настороженность немцев. Я решил, что сразу же перейду на разговор с немцами только на украинском языке и впредь имя моё будет Леонид. Сочинил для себя легенду о своей жизни и учёбе в техникуме в городе Минеральные Воды.
Украинский язык я знал довольно хорошо. До пятого класса мы жили всё время на Украине, где обучение в школе было только на украинском.
Очень помогло мне в плену знание немецкого языка. Недаром имел в школе по этому предмету отметку «отлично», да и обучали нас в школе ещё задолго до войны так, чтобы мы хорошо знали язык своего западного трудящегося брата, которому должны помочь сбросить с себя цепи проклятого капитализма. В этом мы видели тогда свой интернациональный долг.
Правда, потом рассуждали по-другому: стали рассматривать немцев как очевидных, потенциальных наших врагов. Нас, допризывников, будущих защитников Родины, перед самой войной по-серьёзному стали обучать немецкому языку. Мы считали, что самым тяжёлым экзаменом при поступлении в военные училища был экзамен именно по немецкому, он был профилирующим.
Воспользовавшись тем, что немцы после обеда отдыхали и бдительность их притупилась, я вытащил бумажник из кармана галифе, поверх которых были надеты ещё стёганые ватные штаны. При захвате в плен немцы обыскали мои карманы только в ватных бр юках. В бумажнике же находились семейные фотографии, несколько писем из дома, комсомольский билет. Билет кандидата в члены КПСС я ещё не получил.
Оглядываясь по сторонам, я незаметно зарыл бумажник на дне окопа. Вздохнул с облегчением. Теперь у немцев будет меньше улик против меня. Едва успел зарыть бумажник, как услышал, что к окопу подошёл немец высокого роста с винтовкой наизготовку. Щёлкнув затвором, он загнал из магазина в ствол патрон и крикнул на своём языке: «Давай, вылазь из окопа!»
Я вылез. Немец стволом винтовки слегка надавил на спину и показал жестом, что нужно идти вперёд. Он отвёл меня шагов на пятьдесят к пустующему окопу. Дойдя до него, приказал прыгать вниз. Я прыгнул.
Тут у меня мелькнула мысль, что он решил в этом окопе меня расстрелять. Подумал, что пришёл мой конец, что отвоевался…
Я поднял голову, посмотрел на небо, по которому плыли облака, освещённые заходящим солнцем. Всем телом, нутром ощутил бездонную ширь Вселенной. Подумал, что сейчас душа моя будет витать среди этих чудесных облаков. Затем грудь сдавило, стало очень грустно, печально, на глаза навернулись слёзы, подумал: «Всё, прощай жизнь!»
Немец, видя, что в моих действиях произошла заминка, стал громко кричать и ругаться. Я вслушался в его речь и наконец-то разобрался, а, может, догадался, чего он от меня хочет. Понял, что он просит, чтобы я собрал солому со дна окопа и перенёс её к нему в окоп. Я быстро исполнил его приказание, собрал в большую охапку всю солому и почти бегом перенёс туда, где сидел другой немец с ручным пулемётом, бросил её на дно их окопа. Пулемётчик пригласил меня расположиться рядом.
Надвигались сумерки. Солдаты из окопа решили готовиться к ночлегу. Я подумал: «Рано вы готовите себе постели, как бы не пришлось вам ночью их бросать». Я знал, что каждую ночь враг под ударами наших войск отходил на новые позиции, выравнивал фронт. Наше наступление, начавшееся из-под Житомира, шло успешно.
На дворе стоял январь. С наступлением сумерек похолодало. Чувствовалось, что уже минус 10°С. Немцы сильно продрогли. Закутали головы и туловища большими женскими платками. Немец-пулемётчик, глядя на меня, сказал: «Вот и твоя мама, как и моя, наверное, сейчас молят Бога, чтобы мы остались живы в этой войне!» Затем подумав, спросил: «А вы берете в плен нас, немцев?» Я ответил: «Да, берём в плен. Не расстреливаем, а направляем в лагеря для военнопленных, где они живут и работают на стройках. В основном, посылаем туда, где они воевали и разрушали наши города и заводы. Например, имеются лагеря военнопленных немцев в Сталинграде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Харькове и других местах».
Немец слушал с недоверием, затем сказал: «Наши командиры говорят, что русские – звери. В плен не берут, а если берут, то издеваются, на спинах вырезают фашистские знаки, а затем расстреливают».
На это я ответил: «Это геббельсовская пропаганда».
Ещё немец спросил, есть ли на вооружении у нас такие ручные пулемёты, как у него в руках и какая их скорострельность.
Я ответил: «Ручные пулемёты есть, а скорострельности их не знаю».
«А вот наши пулемёты выпускают в минуту более тысячи выстрелов!» – ответил он.
Тогда я сказал ему не без гордости: «Я вспомнил, наш выпускает более 1500 выстрелов!»
Не знаю, был ли я прав, но мне в тот момент хотелось, чтобы наш ручной пулемёт был лучше немецкого.
С нашей стороны огонь по передовой немцев не вёлся. Я подумал, что у нас идёт перегруппировка сил перед наступлением. Мне очень хотелось, чтобы наши пошли в наступление именно сейчас: во время их атак мне будет легко удрать к своим. Но по ту сторону было тихо.
Уже совсем стемнело, когда приехала на передовую за порожними бидонами закрытая автомашина типа «пикап». Унтер-офицер приказал отвезти на ней и меня в штаб батальона и выделил охрану из двух солдат. Ехали минут десять. Приехали на хутор, к большому крестьянскому дому, у которого стоял часовой. По моему предположению, это был штаб батальона. Под охраной меня ввели в кухню. У плиты хозяйничала женщина. Вокруг стояли ящики с коробками и бутылками.
Меня встретил и взял под своё покровительство молодой денщик обер-лейтенанта – командира батальона. Денщик по имени Пауль хорошо знал русский язык. Он доложил командиру, что я прибыл. Тот велел подождать. Пауль принёс мне кусок жареной курицы и стакан вина. Я с удовольствием выпил, так как почувствовал, что начинается озноб, за которым последует приступ малярии. За несколько дней до плена со мной уже это случалось. Особенно тяжёлые приступы были летом 1943 года, когда воевал в плавнях на Кубани.
На первых допросах
Мы немного поболтали с денщиком, а вскоре меня в сопровождении двух солдат ввели в просторную комнату. В ней на тумбочке стоял полевой телефон, за большим накрытым столом с едой и бутылками, сидело пять офицеров. Играл патефон. Обер-лейтенант с пистолетом в одной руке и топографической картой в другой обратился ко мне с требованием показать на ней, где находится батарея, огонь которой я корректировал на наблюдательном пункте. Я внимательно посмотрел на карту и подумал, а где бы я установил свои орудия, используя складки местности? «Конечно, вот в этой лощинке очень удобная позиция», – подумал я и указал место, на котором и в помине не было нашей батареи.
«Очень хорошо!» – воскликнул немец и позвонил, как я понял, на командный пункт батареи, потребовал подавить нашу позицию.
«Пусть стреляют по пустому месту», – подумал я
Второй немец в очках сидел рядом с обер-лейтенантом. Он обратился ко мне тоже на украинском языке. Я подумал: «Вот черти, знают и русский, и украинский. Видно, очень хорошо готовились к войне с нами».
Немец стал быстро задавать вопросы, чтобы я не смог обдумывать ответы.
– Кто такой, откуда родом?
– Лейтенант 852 артполка 276 стрелковой дивизии Трубаев Леонид Якович, родился в 1923 году в городе Харькове, – также отвечал быстро.
– Когда часть прибыла на фронт?
– В ноябре 1943 года.
– Сколько орудий в полку?
– 32 орудия, – ответил, хотя знал, что это не так.
– Видел ли советские танки? Сколько их?
– Да! Утром прошла колонна у села Высокая Печь в сторону города Троянов, на запад. Сколько было танков, не считал. Наверное, около ста! – соврал я.
– Находится ли на фронте генерал Жуков?
– Да! Он руководит нашим наступлением! – ответил я с гордостью.
Данные о том, кто я и откуда, немцы уже узнали из моего личного удостоверения, отобранного при пленении. Они также прекрасно знали, что ещё из-под города Радомышля Житомирской области против них воюет наша дивизия. Мы тоже хорошо знали, что против нас воюет 370-я пехотная дивизия немцев. Разведка с обеих сторон работала круглосуточно и неплохо. Кстати, эта пехотная дивизия воевала с нами ещё под Владикавказом и на Кубани. Как правило, дивизии, воевавшие друг против друга, сменялись крайне редко.
Знали немцы и то, что наша дивизия прибыла на фронт в конце ноября 1943 года.
32 орудия в артиллерийском полку было положено по штату, эту цифру я и назвал при допросе. Для немцев, конечно, было интересно узнать, а сколько в полку на данный момент орудий. Я знал, что после наступления у нас их осталось приблизительно 15–20, не более. Но назвать эту цифру, хотя бы приблизительно, я не мог: это было бы предательством.
На первом допросе
Что касается танков, то перед пленением никаких танков я не видел. Знал, что немцы контратаковали нашу дивизию ежедневно тремя-четырьмя танками. У нас в дивизии приданных танков не было. Мы знали, что в ноябрьских-декабрьских боях наши крупные танковые соединения разгромили часть танковых дивизий немцев под г. Малиным, Житомиром, селением Высокая Печь.
Я, конечно, я не знал, что Жуков находится на 1-м Украинском фронте. Но судя по успешному наступлению нашего фронта, начавшегося 24 декабря 1943 года, догадывался, что он находится именно у нас. Среди наших солдат и офицеров была примета: там, где Жуков, там наступление и победа!
Между тем, мы никогда не знали, какой немецкий генерал воюет против нас и даже не пытались это узнать. А вот немцы интересовались нашим Жуковым. Было приятно узнать, что его так высоко ценит противник.
После допроса обер-лейтенант приказал солдату-охраннику отвести меня на кухню и накормить. Там мною занялся денщик Пауль. Он завёл меня в сени, усадил на пустой ящик. Принёс бутерброды и несколько недопитых бутылок из-под французского вина. Я с удовольствием поел и даже выпил с Паулем по стакану вина.
Пауль был моим ровесником. До войны учился в Харьковской средней школе. Его отец, как специалист из Германии, работал на тракторном заводе. Пауль говорил по-русски совершенно свободно, даже без акцента. Рассказал подробно о своих родителях, братьях, сёстрах, живущих в Гамбурге, показал семейные фотографии. Мы вспомнили харьковскую футбольную команду, которая очень хорошо играла на первенстве страны, о замечательном вратаре и нападающих. Вспомнили многие предвоенные спортивные соревнования, особенно по французской борьбе, в которой участвовали Поддубный, Ян Цыган и другие. Он мне рассказал об Олимпийских играх, которые проходили в последний раз перед войной в Берлине. Говорили о книгах, музыке, кинофильмах. О войне не проронили ни слова, как будто её и не было. Через час за мной явились два солдата и отвели в соседний дом, в котором ночевало много немцев. Они спали на полу, на лавках, занимали всё свободное место в доме. Хозяйка ночевала на печке.
Я кое-как нашёл себе свободное местечко у самой двери, которая вела в сени. В комнате горела керосиновая лампа. В доме стоял полумрак. Со всех сторон доносился солдатский храп. Минут сорок, прежде чем уснуть, я лежал на голом полу, ворочаясь с одного бока на другой, положив под голову ватную шапку-ушанку, и все думал. Передо мной, как в кино, кадр за кадром пронёсся трагичный для меня день – 4 января 1944 года. Я запомнил его на всю жизнь в мельчайших деталях. Затем почувствовал, как малярия, мучавшая меня в последний месяц, вновь меня захлестнула… Начался озноб. Затем поднялась температура. В горле пересохло. Захотелось воды. Но у кого попросить воды и лекарства? Внушал себе: «Лежи, солдат, терпи. Будь, что будет». Голова болела.
Я лежал на холодном полу, но был весь мокрый после кризиса. В голове проносились мысли: «Лучше было бы возвращаться на исходные позиции после боя не по линии связи, а прямо по дороге Дрыглов – Карвиновка. Тогда бы не напоролся на засаду немцев и не попал в плен. Что стало с комбатом старшим лейтенантом Мельниковым? В какую сторону он спрыгнул с горящего стога? А может быть, он сгорел вместе с тем стогом?»
Уже засыпая, твёрдо решил, что при удобном случае надо бежать, обманув бдительность стражи. Спал, как убитый.
Рано утром два солдата разбудили. Им было поручено конвоировать меня до штаба пехотной дивизии, который находился в пятнадцати километрах. Мы вышли на грунтовую дорогу. По обочине шли немцы, цепочкой один за другим, в определённом интервале. Подумал, что такое движение солдат оправдано: при налёте нашей авиации им не надо будет рассыпаться по сторонам от дороги, как делали мы, передвигаясь по ней в колонне. Им достаточно лечь в кювет и переждать налёт – меньше будет потерь. У нас же было много потерь при налётах немецких самолётов как раз потому, что мы шли по дорогам исключительно в колоннах.
Я с интересом наблюдал немцев, следил за их поведением, взаимоотношениям друг с другом. Анализировал их действия и сравнивал с нашими армейскими порядками.
Через пять километров увидел, как группа пленных, человек двадцать, по колено в грязи, вытаскивают из лужи застрявшую машину «Опель». Вокруг неё бегал немецкий офицер, подавал команды и сильно ругался. При помощи верёвок пленные вытащили «Опель» из лужи и поволокли её за собой по раскисшей дороге. Глядя, как уставшие пленные тащат машину, обмотав себя верёвкой, падая и вновь поднимаясь из грязи, я вспомнил картину из школьного учебника, на которой бурлаки с трудом тянули на лямках вдоль берега реки груженную баржу. Подумал: «Вот тебе наглядный пример использования пленных в качестве рабов».
К этой группе пленных мои конвоиры присоединили и меня. Весь день мы тянули машину по грязи. Ноги передвигали с трудом. Мокрыми и грязными вошли в какой-то хутор, перед этим отправив машину своим ходом. Нас отвели ночевать в амбар, где насыпью хранилось зерно. Устроили свои постели прямо в сыпучих кучах зерна.
Я стал засыпать, когда ко мне подошли два моих конвоира и повели на допрос. Допрашивали два молодых офицера с эсэсовскими погонами. По характеру вопросов определил, что они из особого отдела дивизии, аналогичного нашему «Смершу». Один немец задавал вопросы, другой записывал ответы. Вопросы были почти такие же, как в штабе батальона.
Когда я назвал количество орудий в нашем артполку, один из немцев переспросил: «Почему так много?» Я ответил, что недавно мы находились на доукомплектовании, и полк получил пополнение – технику и людей. В действительности это была неправда. После доукомплектования мы были обеспечены необходимым только на пятьдесят-шестьдесят процентов.
В связи с начавшимся контрнаступлением немецко-фашистских войск на Киев в ноябре 1943 года нашу дивизию в спешном порядке перебросили из-под Конотопа на правый берег реки Тетерев под город Радомышль. С момента нашего наступления с 24 декабря 1943 года наш полк потерял много убитыми и ранеными, особенно в последних боях под Карвиновкой, Высокой Печью, Дрыгловом. Почти в каждой батарее было уничтожено по орудию прямым попаданием из немецких танков. Много орудий были технически неисправны. Конечно, о потерях я немцам ничего не сказал.
Допрос продолжался в обычном русле.
Узнав, что я родился в Харькове, немцы на несколько минут отвлеклись от допроса и, причмокивая языком, выражая на лице восторг, стали вспоминать, с какие красивыми женщинами они знакомились, когда дивизия находилась в этом городе. Затем стали спрашивать, в каком военном училище я учился, когда его окончил, где воевал, имею ли награды, состою ли в компартии и т. д.
Я отвечал, где правдой, где неправдой. В конце немец, который записывал мои ответы, вышел из комнаты и через некоторое время принёс большой портрет Сталина в военной форме, развернул его перед моим лицом. Другой немец подошёл к портрету и плюнул прямо на изображение маршала, внимательно наблюдая за мной. Плевок медленно сполз с портрета. Я никак не реагировал: понял, что меня провоцировали. Поразился такому дешёвому трюку: неужели они думали, что я фанатик и брошусь на них, оскорблённый за плевок в нашего вождя? Я изображал равнодушие и ни один мускул не дрогнул на моем лице. Подумал, мол, какие же немцы все-таки наивные и глупые…
Переговорив о чем-то между собой, они вскоре вызвали караульного солдата, который отвёл меня в амбар. Переспал в куче пшеницы, так как ночью ударил мороз. Утром нашу группу пленных накормили борщом, дали по куску хлеба и погнали пешком по просёлочным дорогам.
Днём началась оттепель. Опять мы месили дорожную грязь. Проходя через села, наша колонна пополнялась молодёжью, жителями из близлежащих сел. Немцы их насильно угоняли в Германию для использования в качестве рабочей силы на заводах или на полях крупных землевладельцев.
Куда нас гнали под усиленной охраной, никто не знал. Днём шли, вечером нас загоняли ночевать в помещения для скота, где и кормили один раз в сутки. Шли по Винницкой области, где-то перешли по мосту через реку Южный Буг. Местное население украдкой нас подкармливало. Наконец, через несколько дней изнурительного пути мы подошли к окраине города Проскурова.
Лагерь в Проскурове
О приграничных городах Проскурове и Шепетовке я знал раньше из книги Николая Островского «Как закалялась сталь». В этих местах герой книги Павка Корчагин сражался в Гражданскую войну с белополяками…
Вскоре пригнали нас к Проскуровскому лагерю для военнопленных. Он состоял из нескольких кирпичных и деревянных бараков, огороженных колючей проволокой. По ограждению лагеря через каждые сто метров были установлены деревянные вышки, на которых находились охранники с пулемётами. Ночью проволочное ограждение освещалось прожекторами, установленными на вышках. Нашу колонну разделили на две части. Военнопленных загнали в одни бараки, а гражданских – в другие.
В бараках пленные отдыхали на дощатых деревянных нарах. На них не было никаких матрацев и подушек. Вновь прибывшие, сняв обувь, положив её под головы вместо подушек и укрывшись шинелями, легли на голые нары отдохнуть. Однако несколько человек, в том числе и я, отправились по длинному бараку в надежде отыскать в нем своих земляков. Идя и оглядываясь по сторонам, мы выкрикивали: «Кто из Челябинска?», «Кто из Казани?», «Кто из Краснодара?», «Кто из Москвы?» и т. д.
Вскоре и я нашёл земляка из Георгиевска. Завязалось знакомство. Он пригласил ещё одного земляка – из Пятигорска. Меня, попавшего в плен совсем недавно, окружило ещё несколько человек. Пленные с интересом расспрашивали меня и с большим вниманием слушали мой рассказ о жизни в освобождённых районах Украины, о введении погонов в Красной армии, о положении на фронтах, о жизни в тылу.
Я разговорился с одним из старожилов лагеря, парикмахером из Краснодара. Его немцы не отправляли в Германию. Он стриг и брил вновь прибывших и готовил их к дальнейшей отправке вглубь Германии. Он рассказал, что лагерь был создан немцами в первые дни войны. Заняв Проскуров, немцы в пригороде города – Ракове нашли несколько домов барачного типа, огородили вокруг них территорию колючей изгородью, и лагерь был готов. В первые годы войны там царили голод, болезни, разнузданный произвол. После раздачи пищи на дворе нередко оставались десятки трупов. Голодные пленные за черпак супа давили друг друга в очереди. Одежда на пленных шевелилась от паразитов. В первую зиму в лагере разразилась эпидемия сыпного тифа, в окнах бараков не было стёкол, печи не топили. Ежедневно из бараков выбрасывали сотни погибших – их просто выталкивали через окна во двор, на грязный снег, густо покрытый человеческими нечистотами.
К августу 1943 года через лагерь прошло около 60 тыс. пленных, из них около 45 тыс. погибли в нем от голода и болезней. Парикмахер сказал, что эту цифру недавно установил и назвал подпольный лагерный комитет военнопленных. Мне с трудом верилось в то, что пришлось пережить в Проскуровском лагере пленным в течение 1941, 1942 и 1943 годов.
За беседой незаметно подошло время раздачи лагерной баланды – варева из свекольной ботвы и немытой гнилой картошки. Литр баланды был съеден за какие-то секунды. Вечером на голодный желудок было трудно уснуть. Снилась еда. Утром дали литр кипятка, слегка окрашенного какой-то травой, несколько граммов сахарина и 200 граммов гречишного хлеба, замешанного на прелой ржаной муке. Все это, включая баланду, входило в лагерный суточный рацион. На четверых пленных выдавалась буханочка хлеба величиной с два кулака.
Никогда не забуду картину дележа хлеба. Один из сгруппировавшихся в четвёрку пленных, взялся разделить хлеб ровно на четыре пайки. Бережно разрезав буханочку на четыре части на тряпке, постланной прямо на пол, делящий не раз, прицеливался и уравнивал пайки. Потом вытащил из бокового кармана самодельные весы, представляющие собой короткую прямую палочку, по краям которой были привязаны острые колышки. Он воткнул по колышку в каждую из двух паек и поднял весы на уровень своих глаз, чтобы всем было видно, что пайки находятся в горизонтальном положении, и ни одна пайка не перетягивает другую, следовательно, они равны по весу. Такую процедуру он проделал и с другими двумя пайками. Убедившись, что пайки равны по весу, делящий положил их в ряд и указательным пальцем показал на вторую пайку, спрашивая одного из четвёрки, который предварительно отвернулся:
– Кому?
– Тебе, – ответил тот.
Далее, опять вопрос.
– Кому?
– Олегу!
И так далее, пока не названы были все, кому предназначались пайки.
За месяц в плену я научился ценить крошки хлеба. С каждым днём худел все больше и больше. Все время чувствовал голод. Ненасытный аппетит – постоянное состояние голодного человека – стал преследовать меня повсюду во время плена. Даже после окончания войны, когда прибыл после плена домой, и пищи стало вдоволь, я ловил себя на том, что о чем бы ни думал, мысли постоянно возвращались к еде.
Находясь несколько дней в лагере, я сразу понял, что он функционирует как накопительный. В нем ежедневно организовывалась отправка пленных на запад, в лагеря, находящиеся в Польше и Германии. Меня это радовало. Уж больно не хотелось оставаться в этом страшном месте.
Под стук колёс
Дней через пять из нашего и рядом стоявших бараков стали выгонять пленных, строить их в колонны. Вскоре наша колонна численностью около шестисот человек под охраной конвоиров с овчарками подошла к товарной станции Проскурова. Увидели, что на путях стоит товарный эшелон с открытыми дверьми в вагонах. Из колонны стали отсчитывать по двенадцать пятёрок и отводить пленных на погрузку, сохраняя интервалы между группами. Каждую группу загоняли в «телятники». Казалось невероятным, что в маленькие двухосные вагоны немцы собираются втиснуть шестьдесят человек. Но благодаря ударам прикладами по спинам пленных, им удавалось сделать это. Втиснув пленных в каждый вагон, они их наглухо закрыли, связав засовы дверей толстой стальной проволокой. Через каждые три вагона цеплялся вагон с тормозной площадкой, на которой в будке находилось по два конвоира.
В вагон мы набились, как сельди в бочке, даже присесть на пол невозможно было. Ехали стоя, прижавшись друг к другу. Я занял место в самом углу вагона под маленьким вентиляционным окошком.
После долгого стояния поезд, наконец, тронулся. В начале ехать было сносно, пока хватало в вагоне воздуха. Потом воздух стал спёртым и превратился в густой зловонный смрад от гниющих ран, которые были у многих пленных. К этому запаху добавлялся и резкий запах от человеческих испражнений, которые пленные делали под себя. От влажного зловонного воздуха было душно и тошно. Поезд шёл медленно, пропуская встречные военные эшелоны, следовавшие на фронт. Часто останавливались в поле перед маленькими станциями. На стоянках пленные просовывали через проволочную сетку единственного в вагоне вентиляционного оконца свои пустые фляги, банки или котелки, просили и умоляли часового: «Герр постен, битте васер… васер – воды… воды!»
Некоторые конвоиры безучастно прохаживались вдоль вагона, но были и такие, которые ночью набивали котелки снегом или, если можно было, наливали в них воду и подавали наполненную посуду в вагон через оконце.
В пути попытался стоя уснуть… Колеса дробно отстукивали километры. Каждый стук болезненно отзывался в мозгу. Опять почувствовал озноб – малярия напомнила о себе.
Большинство в вагоне были больны или физически слабы. Не могли стоять или стояли с трудом. Еды на дорогу нам не дали. Никому ничего не хотелось говорить. Каждый берег силы. У всех на глазах слёзы и немой вопрос: «Куда везут? Сможем ли живыми доехать?»
После суток езды в битком набитом вагоне я был измучен больше, чем после двухсоткилометрового пешего перехода по просёлочным дорогам Житомирской и Винницкой областей по маршруту Чудново – Хмельники – Проскуров. Казалось, что в вагоне не осталось ни одного здорового. Голод, жажда, духота, сделали своё дело. Но тяжелее всего была наша неопределённость. Многие думали: «Что будет с нами? И как долго можно будет вытерпеть такие муки?»
Наконец, изрядно намучившись, стоя, я уснул тревожным сном… Глубокой ночью проснулся от необычной тишины. Эшелон стоял в тупике какой-то большой станции. Почувствовал, что сильно, до боли закрутило живот. Двое суток терпел, не удавалось сходить «по большому». Что делать? Я покрылся потом. Под себя сходить нельзя – перепачкаешь белье, а выстирать его будет негде. Примоститься на полу вагона соседи не позволят. Никто не допустит, чтобы у него под ногами была куча нечистот. Недолго думая, я схватился за раму оконца и снял её. В оконце просунул голову, подтянувшись на руках. С трудом протиснул туловище через узкое отверстие, кое как держась и упираясь руками и ногами за наружную стенку вагона, осторожно сполз по ней на землю.
На моё счастье, вагон охранял хороший, добрый часовой. Он понял моё состояние, когда я стал расстёгивать штаны. Подошёл ко мне и, указав место под вагоном, разрешил там оправиться. Быстро сделал своё дело. Почувствовал огромное облегчение. Возвращаясь в вагон, успел руками набить себе рот снегом, а в карманы положить кусочки льда, собранные под вагоном между шпалами. У часового узнал, что стоим на станции Львов и что везут нас в Перемышль. Обратно залез в вагон быстрее и с хорошим настроением, зная, что осталось ехать не так долго. Многие в вагоне спали, и никто не заметил, что я вылезал. Только рядом стоящие пожилые солдаты позавидовали мне, что я молод и силы мои ещё не иссякли, как у большинства. Своим не спавшим соседям я дал по кусочку льда, чтобы они его пососали и хоть немного утолили жажду. Затем, впервые в пути, я уснул крепким сном…
Перемышль
Проснулся от шума, который раздавался со стороны головы поезда после его остановки. Постепенно он стал приближаться к нашему вагону, стали отчётливо слышны рычание собак и гортанные выкрики немцев-охранников. Наконец, заскрипели открывающиеся двери соседнего вагона, и мы услышали, что и нашу дверь открывают. В вагон хлынул свежий воздух, который стал выводить пленных из обморочного и полуобморочного состояния.
– Лос! Лос! Лос! Раус! Раус! – послышались громкие крики немцев.
Из вагона один за другим стали прыгать на землю измученные люди. Высота от дверей вагона до земли была метра полтора. Не было ни лестниц, ни сходен. Люди прыгали и падали, как тюфяки. Мало было таких, кто приземлялся удачно. Большинство при падении ломали ребра, руки, ноги. Я выпрыгнул, глубоко вздохнув воздуха и приземлился благополучно, устояв на ногах. Свежий морозный воздух вскружил голову, подействовал на меня отрезвляюще. Почувствовал, что ноги от долгого стояния в вагоне были ватными. Но все же на построение в колонну дошёл самостоятельно, не получив от конвоира пинка в зад.
Немцы быстро построили всех, кто мог идти, в колонну по пяти в ряду. Я оглянулся на эшелон и увидел, что почти из каждого вагона выбрасывают по два-три трупа в подошедшие подводы. В них же посадили и тех пленных, которые получили увечья при выгрузке. Пропустив подводы вперёд, колонна пленных медленно двинулась по заснеженной дороге к Перемышльскому лагерю военнопленных, который находился от места нашей высадки приблизительно в пяти километрах.
Было раннее зимнее утро. Ночью выпал свежий снег. Природа приняла нарядное зимнее убранство. Деревья, покрытые инеем, сверкали от восходящего солнца. На душе было радостно от того, что жив и перенёс страшную поездку.
Наконец, впереди показались серые одноэтажные кирпичные дома, надёжно огороженные рядами колючей проволоки. У входа в лагерь пестрела полосатая будка и такой же черно-белый полосатый шлагбаум, который к нашему подходу был поднят. Колонну ввели в лагерь, где всех пересчитали и распределили по баракам. Я опять, как и в Проскуровском лагере, обошёл все нары, ища земляков. Земляк почти всегда находил для вновь прибывшего земляка припрятанную краюху хлеба или чинарик сигареты. Так было и на сей раз. Нашёл земляка из Владикавказа, с которым переговорил до обеда, скурив две цигарки из махорки. Нашёл свободное место рядом с ним и лёг спать. Конечно, сон на голодный желудок – это не сон. Я по-прежнему очень страдал от голода.
Вскоре решил свою офицерскую суконную гимнастёрку и брюки-галифе обменять на буханку хлеба. Через земляка связался с полицаем барака, а через него с русским врачом из пленных, который работал в лагерном лазарете. Врач согласился на условия обмена. На следующий день пошёл в лазарет, переоделся там в поношенную немецкую одежду и получил желанную буханку хлеба. Хлеб был серый, из настоящей крестьянской муки. За день съел половину. Куском хлеба поделился и с земляком.
В Перемышльском лагере кормили ещё хуже, чем в Проскуровском. Вскоре мне пришлось обменять на две буханки хлеба и свои тёплые ватные брюки, и телогрейку.
На работу нас не гоняли. Целыми днями мы находились в закрытых бараках, без свежего воздуха. Утром поднимали в 6 часов. Пока приводили себя в порядок, наступало время завтрака. Давали по пол-литра мутного эрзац-кофе и пайку хлеба весом 200 граммов на сутки. Обычно хлеб съедали сразу же. После завтрака пленные приступали к двум полезным занятиям – уничтожению вшей в одежде и в голове да игре в карты. За этими занятиями делились рассказами о житейских премудростях, довоенной жизни, спорте, случаях на охоте и рыбалке и т. д. В общем, кто как мог «травил», то есть, врал. Жестоко спорили, нередко дело даже до драки доходило.
Так проходило время до получения литра обеденной баланды.
В полдень в барак вносили большие алюминиевые баки, из которых раздатчики черпали баланду и наливали пленным в котелки, банки, а у кого их не было, даже в солдатские каски. Обед привносил кратковременное оживления в бараке, некоторую приподнятость.
Оживление после еды сменялось длительным полудремотным сном на нарах, вернее животным отупением в ожидании следующего утра, когда будут давать новую пайку хлеба и можно будет частично утолить голод. Хорошего, светлого, кроме получения очередной порции баланды, впереди никто не ожидал.
Ченстохов
Через неделю полицай назвал мой номер и пригласил с вещами к лагерным воротам. Пять военнопленных и два конвоира уже поджидали меня. До станции добрались быстро, за какой-то час. Там на путях стоял товарняк с двумя вагонами военнопленных, в одном из них находились исключительно пленные советские офицеры. В вагон с ними посадили и меня. Их везли из Одессы. Они рассказали, что немцы начали эвакуацию промышленных предприятий и лагеря военнопленных.
В поезде на сей раз ехать было легче. В вагоне находилось всего человек сорок, можно было и прилечь на пол, и подремать.
Утром прибыли на станцию Ченстохов, где наш вагон отцепили и выгрузили из него всех пленных. Мы поняли, что нас направят в известный Ченстоховский лагерь, в котором находились только пленные офицеры. Вспомнил прочитанное где-то, что Ченстохов – древнейший польский городок. Нас повели по улицам, вдоль которых стояли красивые старинные кирпичные дома. Жители-поляки провожали колонну пленных сочувствующими взглядами. Проходя мимо знаменитого Ченстоховского собора, кто-то упомянул, что в нём находится известная икона – Ченстоховская Богоматерь, которая приносит счастье людям. Один пожилой командир с седой бородой, глядя на Собор, перекрестился и сказал:
– Матушка-Богоматерь, помоги нам выжить в фашистском плену и вернуться на Родину!
Мы ещё раз оглянулись на Собор и каждый мысленно попросил у Ченстоховской Богоматери сохранения жизни и прощения за грехи. Другой командир весело сказал: «Не унывайте, что в плену. Я в 1915 году был в плену у немцев и, как видите, жив. Не так страшен чёрт, как его малюют!»
В конце городской улицы показался лагерь. Вдоль тротуара тянулась глухая, унылая, серая от пыли каменная стена. Над нею выступали сторожевые вышки. У массивных железных ворот лагеря расхаживал часовой в каске. Над воротами висела эмблема с орлом. Сразу же за воротами стояло длинное кирпичное многоэтажное здание, за ним в глубину лагеря стояли ещё десятки больших деревянных бараков. Лагерь построили на возвышенности. Ниже, как на ладони, был весь город. Видно было, как в небо вонзался ребристый шпиль Ченстоховского собора, за который цеплялись низкие серые облака. Проходя по внутри лагерной улице, мы обратили внимание, что она с двух сторон огорожена колючей проволокой, что весь лагерь разделён на зоны-блоки, тоже огороженные. В каждом блоке находилось по четыре длинных барака.
По заведённому немцами порядку, вновь прибывшие должны пройти санобработку. Нас завели в пустой барак и велели раздеться. Затем, при морозе на улице нас, голых, перегнали через двор в другой барак, который представлял собою баню. В бане всех нас под машинку наголо остригли. Велели какой-то жгучей темной жидкостью смазать места тела, где рос волос, и разрешили купаться, париться не более получаса. Я с наслаждением искупался впервые за время пребывания в плену. Затем из бани нас, голых и распаренных, вновь перегнали через двор в третий барак.
В нём мы надели старое, латаное-перелатанное, но чистое нательное белье. Натянули на себя старые зелёные военные немецкие брюки навыпуск, надели старый измятый френч и зелёную шинель, на голову – пилотку. На спине шинели и коленках брюк жёлтой краской были нанесены буквы «SU» – Советский Союз. На ноги выдали ботинки на деревянной подошве.
В углу барака стоял стол, за которым сидели немец и переводчик. Каждого пленного записывали в журнал. Спрашивали фамилию, имя, отчество, год рождения, род войск, звание и гражданскую специальность. С одним из пленных, с которым сдружился в пути, решили записаться железнодорожниками. Рассуждали, что немцы пошлют нас работать в лагерь, который обслуживает только железные дороги: военнопленному там будет легче прожить. Можно будет питаться отбросами из пассажирских вагонов или же при возможности воровать из товарных вагонов пшеницу, картошку, крупы и другие продукты. Кроме того, надеялись, что, работая на железной дороге, будет легче удрать из плена. Надо только сесть в товарняк, идущий на фронт, хорошенько спрятаться в нём и можно добраться до самого фронта, а там стоит перейти линию фронта и будешь у своих. Такие радужные картины рисовало наше воображение. Об этом мечтал почти каждый пленный.
Мне присвоили лагерный номер 11355. После бани и регистрации нас всех развели по блокам. Я с другом попал в одиннадцатый. Когда вели туда, меня поразило то что в лагере было очень много командиров Красной армии, одетых в форменные гимнастёрки защитного цвета, в петлицах которых были пришиты из красной материи по два-три кубаря, а у некоторых по две-три шпалы. У врачей, на рукавах были пришиты белые повязки с красной надписью «Агz», т. е. врач. Подумал, что на базе лагеря командным составом можно было бы укомплектовать целую нашу армию.
Хотя в плену большинство командиров находились по два-три года, вид у них был по-настоящему армейский: они были подтянуты, дисциплинированы, даже отдавали по старшинству честь. Ни морально, ни духовно плен их не сломил.
В бараке, в который нас привели, было много свободных мест. Отсюда пленных на работу не брали. Я выбрал себе место на нарах подальше от дверей, чтобы меньше мёрзнуть: как-никак, на дворе было холодно. В бараке одни пленные играли в карты, другие чинили одежду или обувь, кто-то просто лежал на нарах, кто-то беседовал с соседом.
Ко мне подошёл один из старожилов лагеря, полковник – на его петлицах было по четыре шпалы. Он выглядел старичком с седой бородой, чуть сутуловатый, очень худой. О таких говорят, что на нём одна кожа да кости. Он присел на нарах рядом со мной и доверительным тихим голосом стал расспрашивать: как попал в плен и где, о положении на фронтах, о дисциплине в армии и т. д. Интересовался буквально всем: новым гимном страны, офицерской формой с погонами, наличием в армии артиллерии, танков, самолётов. Расспрашивал о, тактике боев, мастерстве командиров и т. п. Чувствовалось, что он очень интеллигентный и высокообразованный военный специалист. Разговаривать с ним было приятно. Перед ним я, как перед отцом, сразу раскрылся, не боясь никаких подвохов.
В плену я всегда опасался предателей, доносчиков, поэтому взял за правило с незнакомыми пленными быть осторожным. В разговорах был начеку, следил за речью.
Полковник рассказал, что он попал в плен в самом начале войны где-то под Ровно. Был начальником штаба инженерного соединения, которое возводило фортификационные сооружения в 1940–1941 годах вдоль новой границы с Германией.
– Да, плен – это горестный факт! – вздохнув, проговорил он. – Но и здесь надо держаться, не терять достоинства советского человека!
Полковник сказал, что сейчас не июнь 1941-го, а март 1944-го, и немецкое командование заигрывает с военнопленными, так как хочет из их среды набрать как можно больше добровольцев для РОА – «Русской освободительной армии», ядро которой составляют предатели, дезертиры и бывшие белогвардейцы. Немцы также создают национальные легионы из армян, грузин, украинцев, литовцев и других. Полковника тоже несколько раз вербовали, но он, несмотря на трудности плена, на свои болячки и болезни, не встал на путь предательства. Советовал мне не верить посулам немцев, не поддаваться на их уговоры, а держаться стойко и мужественно, быть верным до конца своей Отчизне.
– Гитлеровцы терпят на фронтах поражение за поражением. Наша Победа не за горами! – этими словами закончил он свою назидательную речь.
Со многими в плену мне приходилось разговаривать, выслушивать мысли, суждения, советы, но до сих пор не могу забыть разговоры полковника о долге перед Родиной. Очень жалею, что забыл фамилию этого советского патриота, и о его дальнейшей судьбе ничего не знаю.
Под вечер обитателей барака вызвали на плац – лагерную площадь – для вечерней проверки. На плацу пленные были выстроены строго по блокам, баракам. Когда полицай барака выкрикнул мой номер, я ответил. Он подозвал к себе и сказал, чтобы я после проверки быстро собрался с вещами и подошёл к нему. Его указание выполнил. Полицай блока отвёл меня на выход к внутри блочным воротам, где меня поджидал немец-охранник с ещё одним военнопленным. Нас отвели под конвоем в другой барак, который находился ближе к главным железным воротам лагеря. В бараке находилось 38 военнопленных, которых везли из одесского железнодорожного лагеря. Из разговоров я понял, что во время пути из Одессы в Ченстохов в их группе скончалось два военнопленных. Вместо выбывших группу пополнили нами.
Офицеров в этой группе не было – только рядовые. Её везли в глубь Германии. Там их должны были распределить по другим железнодорожным лагерям. В Ченстоховский лагерь группа попала, чтобы пройти санобработку – без неё пленных в глубь Германии не пропускали. Перед нашим приходом их группа уже прошла санобработку. Я же с попутчиком прошёл её вчера.











