Читать онлайн Эволюция: от неандертальца к Homo sapiens
- Автор: Хуан Арсуага, Хуан Мильяс
- Жанр: Популярно об истории
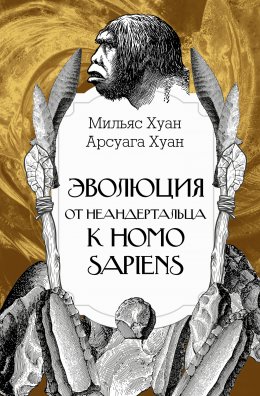
Juan Jose Millas
Juan Luis Arsuaga
La vida contada por un sapiens a un neandertal
© Juan Luis Arsuaga, Juan José Millás, 2020
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Глава нулевая
Визит к предкам
Однажды, много лет назад, я оказался в Атапуэрке[1] и по возвращении домой на расспросы о том, где я был, ответил:
– Навещал предков.
Этот опыт навсегда изменил мою жизнь. Я вернулся абсолютно убежденным в том, что между мной и далекими обитателями так хорошо знакомого доисторического поселения существовала необъяснимая физическая и ментальная связь.
Я ощущал ее так же явно, как чувствуешь нарывающую рану.
Разделявшие нас века были мелочью в сравнении с тысячелетиями, которые нас объединяли. Девяносто пять процентов человеческого существования пришлось на период первобытного общества, и мы совсем недавно вступили в короткий временной отрезок, именуемый эпохой Древнего мира. Это означает, что письменность, например, была изобретена вчера, даже если ей пять тысяч лет. Закрой я глаза и протяни руку, я мог бы коснуться рук древних обитателей Атапуэрки, а они могли бы коснуться моих. Они живут во мне сегодня, но уже тогда и я жил в них.
Это открытие потрясло меня.
Первобытность не только не была делом минувшим, она имела самое непосредственное отношение ко дню сегодняшнему. События того времени волновали меня куда больше, чем события моего столетия, потому что их лучше объясняли. Итак, я обзавелся основными книгами, касающимися этого вопроса, и начал читать. Как обычно, чем больше я узнавал, тем дальше простиралось мое невежество. Я читал и читал, не отрываясь. Во мне проснулась непреодолимая жажда узнать про палеолит, неолит и неандертальцев как можно больше, и я был на грани настоящей одержимости, когда понял, что, учитывая мой возраст и интеллектуальные ограничения, никогда не буду обладать знаниями, достаточными для написания необычной книги, которую замыслил после путешествия в Атапуэрку.
Что это была за книга?
Без понятия. Иногда это был роман, иногда – эссе, иногда – гибрид эссе и романа, а порой – репортаж или длинная поэма.
Я отказался от своей цели, но не от своей одержимости.
Между тем жизнь не стояла на месте. К примеру, я опубликовал роман, и меня пригласили представить его в Музее эволюции человека в Бургосе, посвященном стоянке древнего человека в Атапуэрке (провинция Бургос). Тогда же я познакомился с Хуаном Луисом Арсуагой, палеонтологом, научным руководителем музея и одним из руководителей раскопок на участке, где раньше находилось поселение. Арсуага был настолько любезен, что даже устроил мне экскурсию по учреждению, которое возглавлял. В моей библиотеке, касающейся доисторической эпохи или эволюции человека, были некоторые из его книг, и я проглотил их одну за другой, хотя, признаюсь, и не всегда был способен отдать им должное в полной мере, поскольку палеонтологи редко ориентируются на читателя при написании книг. Иными словами, мне не всегда было легко позиционировать себя как читателя равным Арсуаге-автору.
Как рассказчик он, напротив, показался мне дерзким, обаятельным, ловким. Я слушал его в буквальном смысле ошеломленный, потому что через каждые две-три фразы он вворачивал какое-нибудь красноречивое словечко. Я желал овладеть этим стилем, который в некотором смысле и был моим. Кроме того, я заметил, что о доисторической эпохе он говорит в контексте настоящего и ровно также на день сегодняшний ссылается через первобытные времена. В конечном счете он невольно стирал в отношении двух периодов все ограничения и рамки, живущие в наших головах благодаря традиционному образованию, и укреплял во мне ощущение близости к праотцам. Слушая его, я понял, что между этими мирами существует некий континуум, в котором я эмоционально застрял, но который не мог себе объяснить с рациональной точки зрения.
Минул год, а я продолжал читать и читать, пока, как мне кажется, не удалось разглядеть трещины в тонком зеркале, отделявшем меня от далеких предков.
Зеркале, которое отделяло меня от самого себя.
Я опубликовал еще один роман и снова получил приглашение представить его в Музее эволюции человека. Недолго думая, я попросил своих издателей организовать для меня, если возможно, встречу с Арсуагой.
Мы вместе пообедали.
Когда подали второе, набравшись мужества после трех-четырех бокалов Риберы-дель-Дуэро, я решил перейти непосредственно к делу.
– Послушай, Арсуага, ты выдающийся рассказчик. Для невежд вроде меня ты лучше объясняешь, когда говоришь, чем когда пишешь.
– Это все благодаря преподаванию, – заявил он, – приходится придумывать кучу всяких штук, чтобы ученики не засыпали на занятиях.
– Почему бы… – продолжил я, – нам не объединить усилия, ведь мы могли бы вести совместные рассуждения о жизни.
– То есть как это – объединить усилия? – спросил он.
– А вот как… Ты приводишь меня куда-нибудь – куда пожелаешь: на место археологических раскопок, в поле, в роддом, в морг, на выставку канареек…
– И?
– И рассказываешь мне о том, что мы видим, объясняешь мне это. Я делаю твое повествование своим: все обдумываю, отбираю необходимые материалы, облекаю в словесную форму и записываю. Думаю, у нас бы вышла превосходная повесть о бытии.
Арсуага налил себе бокал вина, несколько мгновений молчал, после чего мы продолжили есть и говорить о жизни: о наших проектах, о наших симпатиях и антипатиях, о наших разочарованиях… Мне показалось, что мое предложение его не заинтересовало и он притворился, будто ничего не слышал.
«Что ж, буду пробовать сам», – смирился я.
Но когда принесли кофе, он пристально посмотрел на меня, загадочно улыбнулся и, хлопнув ладонью по столу, сказал:
– Мы это сделаем.
И мы сделали.
Глава первая
Цветение ракитника
Это асфоделус, растение Елисейских полей. Если однажды вы проснетесь среди асфоделуса, значит, вы мертвы.
Я смотрю на белые лепестки травянистого растения, которые раскрываются перед глазами словно галлюцинация, и спрашиваю себя, учитывая обилие цветов, не умерли ли мы, я и сеньор, с которым я только что разговаривал. Сеньор этот – Хуан Луис Арсуага, палеонтолог. Я – Хуан Хосе Мильяс, объект палеонтологических изысканий.
Мысль о том, что я умер, побуждает меня следовать за ученым, который в этот самый момент углубляется в низкие заросли, скрывающие под своим покровом неровности почвы, так что устоять на ногах оказывается задачей не из легких. Мы поднимаемся к вершине небольшой V-образной впадины, по дну которой протекает ручей. Арсуага проворно шагает по тропинке, едва заметной среди цветов. Я стараюсь идти за ним след в след, но порой спотыкаюсь, падаю и встаю, не произнося ни звука, опасаясь, как бы он не обернулся и не застиг меня в унизительном положении.
Наконец он достигает вершины, где останавливается и ждет, пока я его догоню, чтобы показать мне гранитный скальный массив, напоминающий театральную сцену, где занавесом служит прозрачный водопад. Глаз видит, ухо слышит, носовая полость увлажняется, кожа реагирует c благодарностью на мелкие брызги, летящие от водопада и освежающие нас. Все чувства обострены, все пять из них – и даже больше, будь они у нас, – работают.
Зачем мы здесь? Прежде всего, чтобы увидеть водопад, а может быть, и затем, чтобы водопад увидел нас. На мгновение, в лучах упоительного пятичасового солнца четырнадцатого июня, я понимаю, что за всю свою жизнь еще ни разу не ощущал единения с природой. Я замечаю, как атрофировавшиеся за ненадобностью чувства, ответственные за восприятие глубинных колебаний этой самой природы, пробуждаются, чтобы подарить мне несколько секунд, может быть, десятые доли секунды, всеобъемлющего согласия с собой и окружающим миром.
«Здравствуй, водопад», – говорю я, не размыкая губ. «Добро пожаловать, Хуанхо», – отвечает он мне телепатически.
Быть может, я все-таки умер?
Правда, похожего сочетания раздражителей я не помню: благоухание многочисленных растений, разнообразие красок, прохлада водяной завесы, ощущение новизны при вдыхании чистого воздуха, жужжание насекомых… Мне вспоминается – ничего не поделать – реклама духов. Каждый, даже в загробном мире, становится жертвой собственных идеалов. Но на этот раз я не на диване перед телевизором, а внутри рекламы, как будто мне ввели какой-то наркотик. Мы находимся в глубине храма без стен.
– А что есть природа, если не храм? – полагаю, сказал бы Арсуага, если бы раскрыл рот.
Мы приехали, чтобы отдать дань уважения водопаду, но прежде всего, чтобы стать свидетелями цветения ракитника – невысокого растения, на стеблях которого в это время года распускаются цветы разных оттенков желтого, придающие пейзажу необычную яркость, как на картинах Ротко[2].
На мгновение жизнь лишилась своей зловещей, угрожающей стороны. В этот миг она стала чистым движением, и я был частью этого движения: движения жизни. Так, мои видения были то желтыми, как ракитник, то белыми, как асфоделус, порой фиолетовыми, как лаванда, а иногда зелеными, как трава или колосья, усеивающие пейзаж. И каждый цвет предлагал бесконечное разнообразие переливов, через которые мой разум двигался с медлительностью тени, ползущей по ретаме.
Цветение ракитника.
Через месяц, а может быть, и раньше, когда солнце уже начнет пригревать, эти желтые тона исчезнут с тем величием, с каким умирает все малое.
– Ничто не сравнится с побегом из колледжа, – сказал тогда Арсуага.
Так и было. Мы сбежали из колледжа, потому что в это время, тогда, 14 июня, он должен был находиться в Комплутенсе и, полагаю, проверять экзаменационные работы, а я – у себя дома, пытаясь написать первые строки романа, герои которого преследовали меня уже несколько месяцев. Вместо этого мы оказались на перевале Сомосьерра, в девяноста пяти километрах от Мадрида, на высоте порядка полутора тысяч метров, и наслаждались неожиданным отдыхом.
– Здесь около двухсот пятидесяти миллионов лет назад находилась горная цепь высотой с Гималаи, но со временем она была разрушена. То, что мы видим сейчас, – это ее корни, – показывает мне палеонтолог, когда мы отправляемся в обратный путь. – Этот совсем недавно возникший ландшафт – результат отказа от животноводства. Пастбища из-за кустарника оскудевают. В Испании, – добавляет он, не переводя дыхания, – можно выделить два больших периода: первый начинается в эпоху неолита и длится до 1958 года, когда технократами из «Опус Деи»[3] были разработаны планы развития. Деревня до того времени была людным местом, полным голосов, жизнь там была веселой, везде бегали детишки. Она напоминала шумную улицу. К 1970 году сельская местность опустела, никого не осталось. Сегодня в европейских странах сельское население составляет не более пяти процентов.
– Точно, – кивнул я в знак согласия, стараясь не споткнуться.
– Кстати, я забыл сказать тебе, что ты должен прочитать книгу «Почему я съел своего отца».
– Хорошо, о чем она? – спросил я, будто название не говорило само за себя.
– А ты прочти. Ее написал Рой Льюис[4]. Взгляни на эти дубы. Недалеко отсюда еще есть березовая роща.
Глава вторая
Здесь все неандертальское
Новая встреча с Арсуагой состоялась спустя пару недель. Между тем я периодически возвращался мыслями к идее смерти, но скрывал это от семьи и своего окружения. Я притворялся живым, вел обычный образ жизни и продолжал посылать статьи в газеты; многие из них были написаны будто из потустороннего мира, хотя никто из читателей никогда не говорил мне об этом. Могу добавить, что в те дни существование мое приобрело иной смысл, ранее отсутствовавший.
Время близилось к полудню, когда палеонтолог встретил меня у дверей дома, и теперь мы направлялись на его «Ниссане» в сторону Сьерра-Норте, находящегося в провинции Мадрид.
– Я собираюсь сделать тебе сюрприз, – сказал он.
Машину вел Арсуага, чтобы я мог делать записи в маленьком красном блокноте, купленном много лет назад в книжном магазине в Буэнос-Айресе; я хранил его в надежде написать блестящее стихотворение, которому не суждено было появиться на свет, так что сейчас я уже оставил всякие попытки.
Некоторое время мы ехали в тишине, слушая по радио программу, где обсуждали очередную знаменитость.
– Мы – те еще сплетники, – заметил Арсуага. – Сплетни часто ассоциируются со слухами и потому считаются чем-то недостойным, хотя это разные вещи. Слухи служат для контроля над властными структурами. Когда лидер делает нечто, противоречащее общепринятому мнению, он становится жертвой сплетен. Как ты думаешь, чем закончилась эволюция иерархических систем, основанных на силе?
– Понятия не имею, – ответил я.
– Их уничтожил обычный камень. Мы – единственный вид, метко бросающий предметы. Древние люди развили в себе эту способность, в отличие от тех же шимпанзе. Меткость сыграла важную роль в эволюции человека: она способствовала развитию нервной системы и мускулатуры. Причина, по которой шимпанзе не научились обтесывать камень, носит отнюдь не когнитивный характер: все дело в отсутствии у них необходимого уровня координации.
Палеонтолог повернул голову и посмотрел на меня, словно желая убедиться, что я слежу за ходом его мыслей. Я слегка кивнул в сторону дороги, как бы напоминая, что он находится за рулем. Взглянув на его профиль, я отметил, что это профиль птицы с выдающимся вперед носом. Когда-то давно, кажется, по радио, я слышал его слова о том, что выступающий нос – это характерная черта человеческого лица, поскольку у остальных приматов носы плоские. С тех пор я всегда смотрю на этот отросток с некоторой долей подозрения, в том числе и на свой собственный. Если приглядеться, то это любопытное дополнение: незваный гость посреди лица. Нос Арсуаги, как я уже упомянул, придавал ему птичий вид, а зубы, слегка неровные, лишь усиливали это впечатление. Дополняли образ волосы, белые и взъерошенные, – как хохолки у некоторых тропических птиц.
Палеонтолог вздохнул и ностальгически улыбнулся:
– Историки недооценивают важность такого навыка, как метание. Камень, брошенный в голову гиены, способен ее убить. Собаки убегают, когда мы наклоняемся, чтобы подобрать камень, потому что, попади он им в пасть, они лишатся зубов. Метание камней – штука очень серьезная, против этого никакая физическая сила не спасет.
– Как в притче о Давиде и Голиафе, – вспомнилось мне.
– Вот именно, – продолжал он. – Благодаря камню на смену силе пришла политика. Слухи для нас – те же камни, они разрушают репутацию человека и лишают его возможности стать руководителем.
– А сплетни?
– Сплетни – это форма принуждения, не позволяющая выходить за определенные рамки. Это очень угнетает, особенно в небольших сообществах. Смотри, какая ретама. А вот ладанник уже отцвел.
Через долину Лозойя, по которой бежит одноименная река, мы въехали в Сьерра-де-Гвадаррама, что на северо-западе автономного сообщества Мадрид.
– Сьерра-де-Гвадаррама, – сказал палеонтолог, меняя тему разговора, – не самая высокая и не самая красивая гора, но самая значимая с культурной точки зрения. Ее воспевали все поэты и мыслители периода регенерационизма[5]. Надо отметить, что регенерационисты не были писателями из кофеен, они были связаны с природой. Они – лучшее, что есть в испанской культуре двадцатого века. После Гражданской войны отношение к сельской местности и спорту сильно испортилось, поэтому интеллектуалы после войны не ехали в сельскую местность. Посмотри направо: это Пеньялара.
Я мимоходом бросил взгляд на часы: уже наступило время обеда, но палеонтолог, похоже, даже не думал о том, чтобы направиться в ресторан. Если я не поем вовремя, от падения уровня сахара или дефицита углеводов – не знаю, одним словом, чего-то в моей эндокринной системе – у меня портится настроение, поэтому лекцию своего приятеля я слушал с большим трудом.
Однако, оставив позади небольшую деревушку, тоже носящую название Лозойя, мы буквально попали в рай.
Моему взору открылся пейзаж, будто не принадлежащий этому миру.
Еще одно доказательство того, что мы умерли?
Солнце в зените опьяняло своим светом, будоража чувства, порождая ощущение дополненной реальности, словно ты грезил наяву. Я открыл окно машины и с каждым вдохом наполнялся светом; я стал потеть светом, свет проникал в мои поры, достигал моих костей, пронизывал мой костный мозг, выходил через спину и продолжал свой путь к центру земли, где, вероятно, превращался в темный сгусток энергии, лучащийся изнутри. Вокруг не было никого: ни автолюбителей, ни мотоциклистов, ни велосипедистов, и только тень, напоминавшая по форме птицу, прорывалась время от времени сквозь безмолвную материю, из которой состоит воздух.
– Это Тайная долина? – спросил я.
– Да, – ответил палеонтолог. – Долина неандертальцев. А «тайной» она называется, потому что располагается в крайне изолированной местности.
В прошлый раз он рассказывал об этой долине и обещал однажды показать мне ее, что для меня означало посещение бабушки и дедушки, ведь я неандерталец. Я знал об этом еще со школьных времен, и потому дети вида Homo sapiens[6] – а они были теми еще сволочами – странно на меня поглядывали. Мне приходилось прилагать титанические усилия, чтобы скрыть свою «неандертальскость», и вся моя жизнь проходила в наблюдениях за сверстниками и попытках подражать их поведению; в общем, времени на учебу у меня практически не оставалось. Я откладывал все на потом, тем самым превращаясь в еще большего неандертальца. На первый взгляд моя семья ничем не отличалась от всех прочих, а потому я сразу заключил, что меня усыновили, что я дурацкий приемыш; но считал я так до тех пор, пока не наткнулся на телепередачу о неандертальцах и не узнал себя в главном герое, с которым мы походили друг на друга как две капли воды. Мои родители ничего не заметили, и, как полагал мой отец (самый настоящий Homo sapiens), человеку уже удалось вырваться из этого состояния.
– Почему? – спросил я.
– Потому что неандертальцы, – сказал он, – не были склонны к символическому восприятию мира.
Я не осмелился спросить, в чем заключалось это самое символическое восприятие мира, но, заглянув в энциклопедию, выяснил, что такое символ. Например, флаги. На мой взгляд, так себе символы, но, в надежде сойти за человека разумного, я притворился, что они меня заинтересовали. Нас окружали всевозможные символы. Жемчужное ожерелье моей матери от ювелирного бренда Majorica[7], например, тоже было символом (положения в обществе). Более того, я узнал, что неандертальцы и Homo sapiens обменивались всевозможными материалами, включая генетический. Вначале Homo sapiens давали неандертальцам стеклянные ожерелья в обмен на еду, потому что первые славились страстью к гастрономии, а вторые – ко всяким блестящим побрякушкам. Неандертальцы, не обладая символическим мышлением, думал я, вряд ли понимали значение этих вещиц, но были опьянены их сверканием. Дело в том, что после столь длительного обмена материальными благами, а также в процессе притирки друг к другу, неандертальцы и Homo sapiens стали делить ложе. Homo sapiens, будучи умнее, просто таким образом развлекались, а наивными неандертальцами руководила любовь. С этого и начался обмен генетической информацией.
У меня, как у неандертальца, была очень трудная юность, ведь я любил девушек не за их деньги (отсутствие склонности к символизму не позволяло мне оценить всю прелесть этих бумажек), а за их ослепительную красоту. Но им нравились юноши, разбирающиеся в символах, то есть понимающие ценность автомобиля «Рено». Иными словами, возможности обменяться с кем-то генетическим материалом у меня не было. Девушки соглашались поужинать, но убегали, как только речь заходила об интимной близости.
Приходилось тяжко, да и до сих пор так, по правде сказать. Я продолжаю притворяться, что понимаю Homo sapiens, что я такой же, как они, но на самом деле я ужасно мучаюсь, поскольку человек разумный довел свои интеллектуальные способности до таких пределов, имитировать которые крайне трудно.
Наконец палеонтолог привез меня домой. Полагаю, это и был тот сюрприз, о котором он говорил мне в дороге.
От открывавшегося вида захватывало дух. Это было похоже на архетипическую долину, гиперреальную долину.
Это было похоже на ДОЛИНУ.
– Можешь поверить, что все это и вправду существует? – пробормотал он, заглушая мотор.
Мы молча вышли из машины. Палеонтолог взял с собой зонт и теперь, раскрыв его, чтобы защититься от солнца, начал взбираться по пологому склону в поисках удобного места для обзора.
– Смотри, – сказал он, указывая на какое-то растение, – это медвежье ухо. Его использовали для ловли рыбы: бросали в естественный бассейн реки, подобный тому, который образовался здесь внизу, и рыба всплывала полумертвой. Посмотри на шиповник. И на маки. Маки. Мак – мой любимый цветок. Этот красный цвет просто не описать словами. И не пропусти хариллу.
Называя растения, он нежно поглаживал их кончиками пальцев левой руки, а в правой все еще держал зонтик. Что до меня, то, если раньше все это было мне чуждо и незнакомо, теперь, помимо медвежьего уха, шиповника и маков, я узнал о существовании львиного зева, лугового клевера, воловика итальянского и льна дикорастущего, из чего заключил, что слово является своеобразным органом зрения – зрения, в данном случае, расширенного, потому что, куда бы ни устремился взор, я везде видел яркое торжество жизни. Обыкновенная пчела, ныряющая в цветок, казалась самым настоящим представлением.
– Мы, европейцы, ничего не понимаем, – услышал я слова Арсуаги, обращенные скорее к самому себе, чем ко мне.
Человек с зонтом по-птичьи взобрался на зеленый откос, выступающий над поверхностью земли словно макушка плохо зарытого черепа. Я подумал о каменном море.
– Чистый известняк, – прочитал он мои мысли. – Вот почему здесь так много пещер. Из-за известняка.
– На какой высоте мы находимся?
– Тысяча сто метров. Это тектоническая долина, здесь отсутствуют флювиальные формы рельефа.
– И что это значит?
– В тектонической долине река, образующаяся вследствие орогенеза и тектонических движений, адаптируется к местному рельефу. Центральная Кордильера – это возвышенность, откуда берут свое начало реки, впадающие в Тахо и Дуэро. Иными словами, это поперечные долины. Реки прокладывают свои русла, а затем спускаются к центру двух плато – так формируется речная сеть. Мы говорим, что эта долина невидима, потому что ее нельзя увидеть ни из одной точки горной системы. А тот перевал – это Малангосто, где проходил Архипресвитер Итский, приходской священник муниципалитета Сотосальбос. Именно там он встретил горянку, мохнатую как медведь, с которой ему пришлось разделить ложе, дабы она пропустила его. Это была плата за проход. Здесь водились медведи.
Мы движемся по каменному морю, по макушкам черепов, под лучами солнца, от которых Арсуагу защищает его зонт. На месте каждой поляны некогда существовало доисторическое поселение.
– Здесь, – сказал он, – всегда существовали самые разные формы жизни, так как есть вода и разнообразная растительность. Обрати внимание: рядом с рекой растут ясени, дубы, дальше – сосновый лес, а чуть выше – заросли альпийского кустарника. И наконец, на самом верху – альпийский луг. Подъем на горный перевал напоминает путешествие к Полюсу. Данный ареал носит название аркто-альпийской дизъюнкции.
Мы прибываем на место доисторических поселений, укрытых огромными простынями из пластика, напоминающими саваны.
– Сезон раскопок еще не начался, – объясняет Арсуага, – поэтому сейчас все закрыто.
Я поинтересовался, можем ли мы зайти в одну из пещер, видневшуюся сквозь занавеси, но палеонтолог отказался с выражением лица, которое говорило само за себя.
– Эти пещеры, – добавил он, – были обитаемы. В местах раскопок мы обнаружили останки львов, находящихся, как известно, на вершине пищевой цепи. Соответственно, там, где есть львы, есть и бизоны, и лошади, и лани, и зубры, и дикие кабаны – кто угодно. Для людей пещера – прекрасное место, потому что зверю некуда оттуда бежать, а значит, загнать его не составит труда. Худшее место для охоты – степь, если только ты не умеешь ездить верхом. К слову, Кастилия была тогда частью пустыни Гоби.
– А как же неандертальцы?
– Здесь все неандертальское. Гляди, у пещеры нет крыши, хотя когда-то она была, – увы, ничто не вечно, ведь прошло уже пятьдесят тысяч лет. Тут мы нашли зубы девочки, жившей в то время, и черепа рогатых животных, которые на самом деле были трофеями, – можно заметить, что попытки их сохранить носили не утилитарный, а ритуальный характер.
– Символическое поведение?
– Другого объяснения нет.
Я спрашиваю себя: с чего, черт побери, мой отец решил, что у неандертальцев не было склонности к символизму? Я стал писателем, притворяясь, что она у меня есть, а оказалось, что она и вправду у меня есть.
В порыве эмоций я собирался рассказать палеонтологу о своей «неандертальскости», но сдержался, так как мы встречались всего пару раз, и я не хотел произвести плохое впечатление настолько быстро.
Мы остановились у горных пород, которые, похоже, образовались в результате камнепада. Мой знакомый объяснил:
– Горная порода служила козырьком, выступом и создавала укрытие вроде навеса над автобусной остановкой. Как видишь, козырек обрушился, а эти камни – то, что от него осталось. Прямо под ним, вот здесь, располагалось пристанище неандертальцев. Напомню: происходило все семьдесят тысяч лет назад. Здесь они разводили огонь и ели, поглощали свою добычу до последнего куска, так что бизон превращался в груду костей. Здесь же они занимались обработкой камня, используя довольно сложную технику, известную как индустрия Леваллуа или метод подготовки нуклеуса.
Пока палеонтолог в мельчайших подробностях описывал мне этот самый метод, на что я из соображений собственной безопасности старался не обращать внимания, моему взору на краткий миг открылось поселение неандертальцев, каким оно было в их бытность. Даже закрыв глаза, я видел его, потому что эта сцена разворачивалась одновременно в моей голове и вне ее. Любопытно, что под выступом, служащим для них навесом, нет ни понедельников, ни вторников, ни сред, ни даже воскресных дней – как хорошо! Здесь нет ни января, ни февраля, ни марта, ни Рождества, разумеется. Нет полудня или трех часов пополудни, поскольку неандертальцы не изобрели часы, – у них достаточно дел: скажем, развести огонь, выдубить шкуры, которые защитят их от холода, и подготовить снаряжение для охоты.
Есть группа мужчин и женщин всех возрастов: старики, молодые, младенцы, люди среднего возраста. Под впечатлением от книги самого Арсуаги, я обращаю внимание на неандертальца, пытающегося извлечь костный мозг из кости какого-то травоядного животного. Девочка-подросток кладет кость на плоский булыжник, который служит ей наковальней, и ударяет по нему круглым камнем. Сперва камень соскальзывает, но после нескольких попыток бедренная кость (если это бедренная кость) бизона (если это бизон) раскалывается, и девочка получает доступ к костному мозгу, который представляет собой самую настоящую калорийную бомбу.
Голос палеонтолога вывел меня из состояния задумчивости:
– Здесь обитало много диких животных, но не было кремня для изготовления орудий охоты, поэтому люди приспособились к тому, что имелось под рукой, – а именно к кварцу. Кварц – дерьмо, но неандертальцы научились его обтесывать и использовать для своих нужд. Невероятно!
– Да, – сказал я, активно кивая головой и пытаясь не показать, что слушаю без особого внимания.
– А сейчас, – добавил Арсуага, – мы отправимся в Пуэрто-де-Котос и съедим по порции рагу с фасолью и по яичнице в ресторане моего друга Рафы, а затем спустимся по другой стороне горного хребта и на этом завершим наше сегодняшнее путешествие.
Я забыл о голоде, но при упоминании фасоли и яичницы, в сопровождении небольшого количества жареного картофеля собственного приготовления представил их себе так же ясно, как белый день.
Пока мы спускались к машине, я поинтересовался, когда смогу попасть на место раскопок.
– Ты все еще не понял, – сказал он, прикрываясь своим африканским зонтом, – что, оказавшись на месте раскопок, ты не перенесешься в первобытность: так думают лишь невежды. Первобытное общество никуда не исчезло, оглянись вокруг, оно здесь, повсюду. Оно живет внутри нас с тобой. В местах археологических раскопок мы находим только кости, а истинной первобытностью обладает животное, мелькающее словно тень.
Мы пьем холодное пиво и едим отличную фасоль.
– Что определяет вид? – спрашиваю я.
– Сначала подумай, почему существуют виды, – говорит Арсуага.
– И почему существуют виды?
– Потому что ты так решаешь. В природе все имеет свое течение, в ней нет ничего статичного.
– Но, полагаю, должен быть достигнут научный консенсус относительно того, что мы называем «видом».
– Если ты так настаиваешь, давай называть «видом» некую группу, имеющую отличительные характеристики и не сочетающую в себе свойства ряда других групп, то есть не являющуюся гибридом, хотя в природе известны случаи скрещивания койотов и шакалов.
– Является ли неандерталец видом, отличным от Homo sapiens?
– А это решать тебе. Как фасоль – вкусная?
– Как же мне это сделать?
– Когда поселок становится городом? Когда холм становится горой, а маленькая волна обращается цунами?
– Ладно, но все же: неандертальцы представляют собой отдельный вид или нет? Каков твой вердикт?
– Если ты так хочешь знать: да, я полагаю, что да. Возьмем еще по пиву.
– И тем не менее они скрещивались с Homo sapiens.
– Испанский и арабский – разные языки, но все же мы говорим almohada[8], иными словами, это лексическое заимствование. Генетические заимствования похожи на лексические, хотя гибридизация и заимствование – это не одно и то же.
– Ясно.
– Не упорствуй: природа не создана для человеческих категорий. Животные существовали и до зоологов, хоть некоторые из них и отрицают это. Классифицируя и категоризируя все подряд, мы лишь попусту тратим свою жизнь. Смотри, яичницу несут. Ну разве не красота!
Палеонтолог откидывается назад, пытаясь охватить взглядом пейзаж, поскольку мы сидим на улице, на террасе ресторана его друга Рафы, в тени сосны.
– Похоже, мы живем как богачи, – произносит он с ухмылкой.
Глава третья
«Lucy in the sky»
Когда наступило лето, палеонтолог уехал на раскопки, а я вернулся к писательству, опасаясь, конечно, что столь длительная разлука станет постоянной. Арсуага не из тех, кто активно пользуется электронной почтой или много общается по телефону и, уж тем более, в мессенджерах. Он привык держать дистанцию, притом до такой степени, что за лето между нами вполне могла возникнуть стена, преодолеть которую по осени было бы непросто. Удивительно, но первого августа я получил электронное письмо с заданием от моего знакомого: я должен был провести анализ следов, оставленных на пляже детьми трех-четырех лет.
– Если ты это сделаешь, – пообещал он, – я объясню, что такое бипедализм.
К письму он приложил отпечаток ступни своей дочери, добавив, что Люси была ростом с трех- или четырехгодовалого ребенка.
Боже мой, Люси!
Та самая Люси, жившая около трех миллионов лет назад, чьи останки были обнаружены в Эфиопии в 1974 году. Ее рост составлял чуть больше метра, вес – менее тридцати килограммов, а умерла она, когда ей не было еще и двадцати. В тот момент, когда археологи обнаружили ее кости, они слушали песню группы The Beatles – Lucy in the Sky With Diamonds[9].
Люси принадлежала к семейству гоминид (австралопитеков), обитавших в Африке несколько миллионов лет назад. В моем воображении она была первой двуногой женщиной в истории, и я всегда испытывал к ней безграничную жалость. Я представляю, как она спускается с дерева, встает на задние конечности и пересекает границу сельвы и саванны, не имея при себе иного оружия, кроме двух походящих на протезы рук, которыми она еще не умеет пользоваться. Меня до глубины души трогает любопытство и беспомощность маленького, такого хрупкого существа, намеревающегося покорить землю, населенную страшными хищниками, вроде львов, и различными заразными микроорганизмами; а ведь ее иммунная система совершенно не была к этому готова.
От упоминания Люси на глаза у меня навернулись слезы, так что я ежедневно спускался к пляжу, чтобы посмотреть на отпечатки ног детей, сделать пометки и сфотографировать их, – и каждый из этих следов был для меня своеобразным ее, Люси, олицетворением. Ступня, показалось тогда мне, имеет крайне сложную архитектуру – гораздо более сложную, чем своды самого помпезного готического собора. И я подумал, что по мере того, как на протяжении всего исторического процесса люди медленно, сантиметр за сантиметром, росли, в них укоренялся какой-то процент МЕНЯ. А какой процент МЕНЯ встретился лицом к лицу с саванной вместе с Люси?











