Читать онлайн Занавес остаётся открытым
- Автор: Валентина Семёнова
- Жанр: Современная русская литература
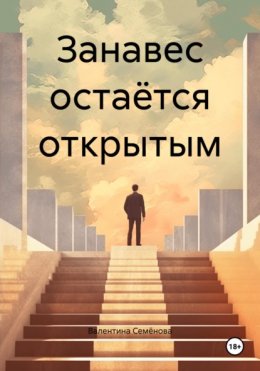
ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ
Благословляю всё,
Что было:
Я лучшей доли
не искал!..
А. Блок
О названии «Занавес остаётся открытым». Так называлась разгромная статья обо мне, напечатанная в «Уральском рабочем». Второй день пытаюсь вспомнить фамилию журналистки, автора этого ложного политического доноса, и не могу. Позвонила даже Калуцкому, которого эта журналистка по заданию обкома КПСС «талантливо очерняла» в той газете, – его нет дома. Можно, конечно, позвонить Матафоновой, она тоже работала в отделе культуры этой газеты… Но зачем?
Память стёрла это имя неслучайно. Ведь я собираюсь писать не роман, даже не документальную повесть, а восстановить Имена тех, кто будет воскрешён, во что я верю.
История, по Н.Ф. Фёдорову, это синодик, это перечень имён всех прошедших по земле людей, это родословная человечества, которому суждено воскреснуть ради грядущего совершенствования и «окончательного физического бессмертия» (В. Соловьёв).
Все мои архивы уничтожены. Значит, остаётся одно: память, ум и сердце. Вот источники, из которых я буду черпать свои воспоминания о Тех, перед Кем низко склоняю голову, и тех, перед кем я не склонила её даже под угрозой смерти.
Остальных, кого моя память не извлечёт из небытия, пусть воскрешат другие. Работы хватит на всех.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
Глава 1. Корни
1.1 Анисим Матвеевич Бочкарёв
Дед
Я хорошо помню деда Анисима, маминого отца. Помню его лицо, белую бороду, высокий рост, вельветовый костюм с накладными карманами, в который он был одет по-городскому, когда я возила его в областную клинику к окулистам. Операцию почему-то делать отказались. Он в конце жизни, когда ему было под девяносто, ослеп. Помню его в городе, куда он был сослан как раскулаченный, там он жил на квартире, а мы с братом, маленькие, бегали к нему в гости. От него всегда исходили спокойствие и доброта.
Но он был крестьянином, в городе жить не мог и, как только представилась возможность, после 1941 года уехал в деревню Меркушино, что в 20 км от г. Камышлова.
Я как-то задумалась: почему так называлась эта деревушка, в один ряд домов растянувшаяся по берегу живописной речки Пышминки? Там никогда не было наводнений, так как дома стояли высоко над обрывом. А впереди – широкие просторы, окаймлённые у горизонта лесом и большими белыми домами. Там были военные Еланские лагеря.
Лишь недавно я узнала, что есть большое село Меркушино – место паломничества к Симеону Верхотурскому, знаменитому святому. Когда его мощи временно находились в храме в посёлке Елизавет под Екатеринбургом, я повезла туда своего младшего племянника Виктора, где он был окрещён уже после восемнадцати лет. Служба шла рядом с ракой, с мощами святого Симеона.
У меня возникла гипотеза, о которой никому не сообщала. Видимо, кто-то из маминой деревушки побывал в знаменитом селе, которое и сейчас стоит на том же месте и куда мне следовало бы съездить, и привёз это имя в память о святом. А может быть, кто-то из того села волею судеб попал в новое, уж очень живописное место и сохранил таким образом память о своей родине.
Но, так или иначе, власть и сила Имени существуют. Между селом Меркушино и деревней Меркушино протянута незримая духовная нить.
Во внутреннем облике моего деда Анисима Матвеевича было это сияние святости. Этот же внутренний свет всегда исходил и от мамы. А теперь нет ни деда, ни мамы, и деревню Меркушино снесли с лица земли. Там теперь песчаный карьер.
Когда дед вернулся из города домой, он поселился в крошечной баньке во дворе своего дома. Там мы с Володей, братом, бывали часто. Дед вставал рано и уходил куда-то в лес, а когда возвращался, то иногда приносил лукошко с земляникой. Он был немногословен, но с нами, детьми, любил пошутить.
Дом этот, стоявший в центре, во главе деревни, с большим двором, с кирпичными амбарами, с почти необъятным для детского восприятия скотным двором, в котором могли разместиться до сотни лошадей, он построил своими руками на старом месте после пожара, проявив не только недюжинную силу, здравый смысл, но и природный вкус. Недаром именно в этом доме расположился сельсовет. И, хотя деда выселили, но какое-то таинственное уважение, которое он внушал односельчанам, удержало новых хозяев от его ареста. Он просто уехал в город и несколько лет прожил в Свердловске.
Дед Анисим был сиротой. Своего отца Матвея он не помнил. В шесть лет мать привела его к Павлу. Мать – Фаина, тётя Фая (мама её отчества не помнит), умерла тоже рано. От Павла у неё осталась дочь Дарья Павловна, сводная сестра деда Анисима. Мы летом жили у неё во время войны. Дед вырос с отчимом Павлом Зиновьевичем, который прожил долго, выжил из ума и их, «старого да малого», маму мою и деда, ходившего в ту пору в длинной рубахе и босиком, оставляли одних, когда взрослые уезжали на сенокос или на полевые работы.
Дед Анисим до конца дней содержал и кормил своего отчима.
В конце жизни мама часто вспоминала отца. Она очень любила его и даже гордилась им. «За всю жизнь он мне слова грубого не сказал, ни разу не ударил меня!»
Я не только помню отца живого, но сохранились его фотографии и даже его паспорт.
Неглубокая у меня информация о предках, но даже эта память об этом русском крестьянине очень важна.
Приехали мы с братом Володей на его похороны, и меня поразило его «мёртвое лицо». Оно врезалось в память неземным спокойствием, величием и силой. А в жизни он был добродушен, скромен и прост.
1.2 Мария Семёновна Бочкарёва (в девичестве Чердынцева)
Бабушка
Бабушку свою, жену деда Анисима, не помню. Родом она была из деревни Маханово в двух километрах от Меркушина, на противоположном берегу реки. Она умерла рано, в сорок лет, оставив четверых дочерей. Старшая, Настасья, была уже замужем. Она умерла во время какой-то эпидемии, которые случались на Руси часто. Фёдора и Елизавета – обе бездетные, помогали младшей сестре всю жизнь поднимать детей. Младшей дочери, моей маме, было три года. Она одна продлила линию их семейного рода1.
Вот что мама рассказывала о смерти бабушки: она умерла после родов мальчика, который не выжил. Тяжело болела. Перед смертью попросила: «Анисим, подними меня, хочу в последний раз на реку взглянуть». Дед помог ей подняться, и вскоре она отошла в мир иной, осиротив младшую дочку. Тема сиротства навсегда стрелой пронзила потом мою душу.
«Бабушка! Где ты сейчас? Слышишь ли меня? Чувствовала ли ты, как мама всю жизнь любила тебя и тосковала о тебе? Почему я плачу сейчас о тебе? Ведь я никогда не знала тебя. А вот теперь ты мне так близка. Встретились ли вы с мамой? Утешила ли ты её наконец? Я так люблю вас обеих!»
Ещё два эпизода: маму я не помню. Только как сейчас вижу нарядный сарафан, в котором лежала она в гробу, – вот и всё, что осталось в памяти у моей мамы. В день похорон трёхлетняя Зоя сидела на завалинке и пела песенки, а женщины, глядя на неё, плакали.
Но образ бабушки моя мать пронесла высоко сквозь трагическую жизнь. Она запомнила уважительные отзывы окружающих о Марии Семёновне: «…умная, трудолюбивая, добрая», «хорошая была женщина».
В конце жизни мама говорила: «Мне уже девятый десяток пошёл, а матери мне всё равно не хватает. Куда мы без матери?»
1.3 Ефросинья Константиновна Чердынцева
Моя прабабушка
Бабушку свою, Ефросинью Константиновну, мама моя помнит хорошо, потому что до самой смерти той подолгу жила в её большой семье, да и бабушка частенько наведывалась к внучке. Придёт утром, а по дороге из Маханово в Меркушино – всего-то два километра – земляники наберёт.
«Бабушка была чистоплотная, культурная, её возили по всем деревням стряпать на свадьбы. Она была мастерица и правила всем домом. У неё были ключи от всех служб, она распределяла работу между всеми снохами!» – это я записала с маминых слов.
Прабабушка оказала влияние и на мою судьбу.
А было так…
Мама, тогда маленькая девочка, играла у подружки в куклы, и ей так понравилась какая-то красивая тряпочка, что она не удержалась и унесла её с собой. Зоркий глаз прабабушки сразу отличил среди своих чужую вещь. Мама, конечно, созналась и по приказу бабушки должна была вернуть эту злополучную тряпицу. Это оказалось для неё таким шоком, таким стыдом, пока она шла по улице с повинной, что и в конце жизни мучило её, как кошмар.
Однажды я застала её в бреду. Уже ослепшая, не встававшая с кресла без помощи, она вообразила, что попала в чужой дом. В нём пусто, но она ждёт, что вот-вот вернутся хозяева.
«Что они подумают обо мне? – волновалась она. – Ведь они знают, что я не украла ничего… кроме той тряпки!»
Я едва успокоила её тогда.
Эта черта, честность, очень осложнила и мою жизнь. Даже теперь.
А как иначе можно было вести огромную семью, в которой за стол садилось человек по двадцать? У Ефросиньи Константиновны и деда Семёна (мама не помнит его отчества) было пять детей: две дочери – Мария и Надежда, они жили отдельно, и трое сыновей – Василий, Митрофан и Перфилий.
«Жена Василия была Меркушинская. У Митрофана и Перфилия в жёнах были две родные сестры: Соломея Матвеевна и Мария Матвеевна родом из деревни Филатово.
Тётка Соломея шила, все деревни обшивала, очень хорошая была. А дядя Митрофан мельницу держал, за это его в Тобольск сослали. У Василия было много девок: Агрофена, Мария, Настасья… У Митрофана – дочь Катя и сын Федя. У Перфилия (дядя Пёрышко) – одна дочь Матрёна», – вспоминала мама.
И все они жили в одном доме. Дружная была семья. Порядок поддерживался отменный. Снохи готовили, мыли, стирали по очереди. Освобождена была от домашней работы только швея.
Где они – эти дядья, тётки, племянники, сестры и братья? Жив ли кто из них? Никого из них я не знала никогда. Ни сельский уклад жизни с глубокими родственными корнями, ни сельский труд на земле мне не знакомы. Я горожанка. Своим рождением я отгорожена от них.
1.4 Алексей Григорьевич Семёнов
Дед
Со стороны моего отца всё было наоборот. Его отец, мой дед, Алексей Григорьевич умер от тифа, оставив жену с семью детьми. Михаилу (по паспорту Макару), моему отцу, шёл восьмой год. Младшей Татьяне – две недели.
И кому-то в горе, что осталось столько голодных ртов, пришло на ум положить её, младенца, на труп отца, тиф всё-таки! Авось, умрёт. Она выжила, но всегда с обидой вспоминала об этом.
У меня от деда Алексея осталось одно зловещее впечатление. Мама кому-то рассказывала, а я, маленькая, услышала: «Он был жесток со своей женой. Однажды привязал её за косы к саням и проволок по своей улице по земле».
По роду занятий был купец. Возил на север соль, а оттуда – рыбу. Отец сейчас уточнил: ещё он возил в Тобольск белую глину…
1.5 Ульяна Андреевна Семёнова (в девичестве Ильиных)
Бабушка
Бабушка Ульяна – вторая после мамы страстная любовь моего детства.
Я помню её, когда дети выросли и разлетелись во все концы. Она жила одна в своём доме с огромным черёмуховым кустом во дворе в деревне Кокшарова, в семи километрах от города Камышлова. Туда мы с бабушкой ходили пешком.
Помню её ласковый певучий голос, которым она встречала нас, когда мы ночью стучались в её дверь. Поезд из города приходил поздно, да нужно было ещё идти лесом, а потом пересекать хлебное поле… Но вот мы в родном дворе и стучим в дверь – голос бабушки слаще музыки.
«Ой! Кто приехал!» – радостные восклицания, поцелуи и объятия. И сейчас колотится сердце: всё вижу отчётливо, всё помню. Сначала длинные и просторные сени, потом дверь в комнаты. Дверь, расписанная масляной краской. Цветы, листья – очень нарядно. Справа огромная русская печь (с голбцем), ещё дверь, тоже расписная. Она ведёт в погреб. Над входной дверью – полати. Слева от двери – длинная лавка. На полатях, на лавке, на полу когда-то спала целая орава детей, позднее вместе со своими семьями.
На окнах цветы. Особенно родные и сейчас, когда я их вижу, грушевидные колокольчики. За небольшой перегородкой – кухня.
Когда тут жила вся семья, дом был вдвое больше. Но при мне полдома отгорожены и даже окна в другой половине наглухо заколочены. Это очень волновало моё воображение. Но я никогда не любопытствовала. Отец сейчас объяснил: там была «горница», в ней стояла мебель, был даже камин и множество цветов.
Дом сверкал чистотой.
По утрам бабушка пекла душистые картофельные шанежки (я так и не научилась этому) и за столом начиналось действо: кто первым съест, тому земляничка красная, кто вторым – розовая ягодка, а самый последний – сушенка. Но меня почему-то это не стимулировало: я и сейчас за общим столом заканчиваю последняя, медленно ем.
Отъездов из деревни не помню, но мне часто рассказывали об этом взрослые. Я так плакала и кричала, когда надо было расставаться с бабушкой Ульяной и садиться в поезд, что сочинялась каждый раз с новыми вариациями одна и та же сказка. Бабушка спохватывалась, что якобы забыла и оставила дома кувшин, который я особенно любила, и обещала сбегать за ним, а меня догнать в другом вагоне, который прицепят к составу.
Я оказалась «любимой внучкой», а позднее «любимой племянницей», что не способствовало моей дружбе с многочисленными двоюродными сёстрами. А вот мама никогда не отдавала предпочтения ни мне, ни брату. Зная плюсы и минусы того и другого, она любила нас одинаково. Это была абсолютная любовь, и я не знала ревности.
Бабушка Ульяна одна подняла своё огромное семейство. В голодный 1921 год она ездила даже в Ташкент и привезла мешок муки. Умерла она на девяносто девятом году.
У них, Алексея и Ульяны, было восемь детей. Умер только маленький Кузьма, ещё при отце.
По старшинству в ряд вот их имена: Федосья, Иван, Мария, Михаил (по паспорту Макар) – мой отец, Пётр, Дмитрий и Татьяна.
Внуков у неё четырнадцать, а счесть правнуков и праправнуков мне не просто, – спасибо моим двоюродным сёстрам Люции и Нинель, которые уже составили родословную этой огромной семьи, разлетевшейся по просторам России и ближнего зарубежья: Крыма, Украины, Казахстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Камчатки, Каменск-Уральского, Камышлова, Алма-Аты, Екатеринбурга и т. д.
Кого только нет в этой семье: врачи, инженеры, педагоги, юристы, военные, торговые работники, конструкторы, священнослужители, администраторы и даже… политики.
Начиная с третьего и четвёртого поколений (внуков и правнуков), в этой семье, кроме исконно русских, появились украинцы – их особенно много, белорусы, евреи, цыгане, эстонцы…
Много среди них людей замечательно одарённых: я каждый раз хваталась за перо, когда уходила от нас тётя Феня (Феодосия), чтобы записать после неё множество метких словечек, таких необычных и выразительных, что они меня изумляли, смешили и пленяли одновременно. Хотя не могу сказать, что я любила эту тётушку. А дочь её, Валентина, оказалась оригинальной художницей. Она выращивает экзотические цветы, а из их лепестков создаёт несравненной красоты картины. С ней мы плохо ладим…
Всё-таки родные мамы оказались нам ближе, потому что принимали в нашей жизни прямое участие: мы жили у них во время войны, они кормили нас и всю жизнь одевали.
В большой «семье своей родной» моего отца я «казалась девочкой чужой». Я очень рано научилась читать и жила в «воздушном замке» прекрасных фантазий. В практической жизни семьи почти не участвовала. А мои сёстры и братья прошли хорошую жизненную школу, были хозяйственными, домовитыми, в отличие от меня, практически приспособленными. Между собой они постоянно общались.
Настоящая внутренняя близость возникла у меня только с троюродным братом Геннадием (братьями были наши деды Аким и Алексей) и двоюродным Леонидом (его отец Пётр был пятым ребёнком в семье после моего отца).
С Геннадием вместе прошла наша молодость. Мы были ядром большой молодёжной компании, пока учились в школе, а он в техникуме, позднее мы – в университете, они – в УПИ.
Не знаю, буду ли я писать о замечательных днях своего золотого студенчества, но в Геннадии я и сейчас имею родную душу. Живёт он в Москве, стал энергетиком.
С Леонидом мы сблизились в последние годы. Он оказался талантливым врачом и лечил моих родителей. Близки были и наши духовные интересы: его влекла мистика, мы читали одни и те же книги, одно время я втянула его в Сиддха-йогу. Но он был выпивоха и в момент очередного запоя сгорел в пожаре. Такова официальная версия. Неофициальная – ему «помогли» уйти из жизни.
Умер он 18 декабря 2001 года накануне большого православного праздника в честь Святого Николая-чудотворца. Говорят, теперь он находится под его покровительством.
Светлая ему память.
В последнее время мне стала дорога Люся (Люция), средняя дочь тётушки Марии. Мария была третьей в семье и умерла на девяносто третьем году. Она была прославленной птичницей, имела орден Ленина за работу в колхозе, под конец жизни стала верующей. Люся регулярно навещает моих родителей. В живых теперь остался один отец. Ему через месяц исполнится девяносто один год. Я привыкла радоваться каждому приезду моей двоюродной сестры.
Да ещё с двоюродным племянником Володей Шандыбой нас роднит «страсть к чтению».
Но большую часть своих родственников я знаю только понаслышке, а иногда не знаю даже их имён: семья наша растворилась в бескрайних просторах, и границы её растаяли.
Мне часто говорили, что я похожа на какую-то женщину, которую встречали то в Ташкенте, то во Владивостоке… А я смеюсь и говорю, что у моего отца много детей растёт на стороне и не исключено, что мы все родные…
Фамилия Семёновых одна из самых распространённых русских фамилий.
В справочнике А.Г. Мосина «Уральские фамилии», т. 1, Екатеринбург 2000 г., сказано, что эта фамилия встречается повсеместно. В «Списке 100» занимает 16-е место.
Начало фамилий, как установлено наукой, – ХV век. В Камышловском уезде фамилия фиксируется с XVII века. «Особенно много Семёновых в деревне Кокшарова», – гласит справочник. Встречается она и в нашем прошлом: в роду Жуковские – Бунины она мелькнёт и напомнит знаменитую трагическую актрису Екатерину Семёнову из бывших крепостных, которая вышла замуж за князя И.А. Гагарина, родного деда по отцу Николая Фёдоровича Фёдорова.
Много, очень много открытий ждёт нас впереди, если мы возьмёмся за общее дело – восстановление полной, исчерпывающей родословной человечества. Сделано уже открытие, что люди, носящие одну и ту же фамилию, имеют общих предков… К сожалению, не помню фамилию учёного, автора этого открытия.
Заканчивая рассказ о своих совсем недавних предках, я вспомнила о двухтомнике Великого индийского святого Свами Муктананды. Эту книгу From finite to infinite («От конечного к бесконечному») на английском языке привезла из Индии Яна Яхнис. Открыла я наугад какую-то страницу, и на меня пошла живая её волна. Не зная языка, принялась за перевод.
Книга содержит вопросы этому святому самых разных людей во время его турне по миру и его ответы на них.
Вот он мой вопрос! Задал его какой-то незнакомый западный человек: «Скажите, почему во время медитации у меня вибрируют конечности и позвоночник? Это не опасно?»
Ответ: «Вы у нас совсем недавно и уже получили такой результат. Можете считать себя аристократом. Такие, как вы, помогают освобождению всех своих родных, а мать такого человека попадёт в рай».
Глава 2. «Да святится Имя Твоё»
2.1 Зоя Анисимовна Семёнова (в девичестве Бочкарёва)
Мама
Сердце может трепетать от любви только благодаря заслугам многих жизней.
Гурумайи
Любовь сама настолько чиста, что только чистое сердце сможет испытать её.
Свами Муктананда
Внутри человека существует центр, который является резервуаром любви. Когда он переполняется, вы плачете. Вот как это происходит. Когда сердце наполнено любовью, никакого языка не существует. Ни один язык не способен передать любовь. Слёзы – это единственный способ, которым мы можем выразить нашу любовь. Поскольку не существует никакого способа, никакого языка, нам остаётся только плакать. Иного пути нет.
Свами Муктананда
Первое воспоминание есть у каждого. У кого-то оно раннее, как у Бунина, у кого-то позднее. Может быть, есть и такие, кто не отдавал себе в нём отчёта.
Но моё первое воспоминание впечаталось в память навсегда.
Я пыталась рассказывать о нём по-разному, разными словами, но для этой темы нет слов… Слова – лишь бледные тени. А оно, воспоминание, до сих пор живое. Стоит оглянуться на него – и вот, как будто это было вчера: я слышу звуки, ощущаю запахи, вижу картины… Ярко вижу все подробности – оно не меркнет.
Мне четыре или, может быть, пять лет. Скорее, четыре, так как о брате моя память тоже молчит. Значит, его ещё нет: он младше меня на пять лет. Мы с мамой из города Свердловска едем в гости к бабушке Ульяне в деревню Кокшарова.
Поезд приходит на станцию ночью. Меня, сонную, из тепла вагона мама на руках выносит под открытое небо в прохладу летней ночи. Может быть, именно контраст этот и был толчком к остроте восприятия?
Сначала меня ошеломили запахи. Пахнет сразу и землёй, и рельсами, и мазутом, и дымом, и водой в ближайшей канаве, и целым букетом трав и цветов… О, сколько их, наивных и скромных полевых, лесных цветочков, рассыпано по нашей земле, сколько их стыдливо и целомудренно шлёт нам свои послания-запахи… А мы, взрослея, предпочитаем им духи. Моя первая сознательная ночь была божественно благоуханна.
А звуки? Они тоже волнуют. Вот дрогнули колёса поезда, в котором мы приехали, и вскоре их стук замрёт вдали, а оттуда, из дали, куда рванулось сердце, доносится прощальный гудок, оставляя в душе печаль. Так печалит всякая разлука. Погас и красный огонёк на последнем вагоне: поезд скрылся за поворотом.
И в наступившей тишине вмиг ударили миллионы смычков по струнам невидимых скрипок: всё пространство от земли до самого неба заполнилось ликующим звоном. Это цикады, кузнечики, невидимые ночные музыканты исполняют Богу свою симфонию. Лучшего гимна жизни нельзя вообразить.
А ещё приглушенные голоса людей, которые небольшими группами направляются в ту же, что и мы, сторону.
Из темноты выплывают силуэты кустов и потом – деревьев. Немного жутко, в этих местах «пошаливают», я крепче сжимаю мамину руку.
Лесок кончается… Теперь перед нами распахнулось широкое хлебное поле. На ночном горизонте темнеют несколько пятен. Это огромные тополя, а слева – крайнее высокий куст черёмухи возле дома моей бабушки, она живёт на окраине деревни, на Нижней улице.
Все, приехавшие с нынешним поездом, уходят по большой дороге прямо, туда, где на высоком холме рассыпались там и сям дома нашей деревеньки. А мы с мамой забираем влево и одни идём по узенькой тропинке, вьющейся среди хлебов. Меня с головой накрывают пшеничные колосья. Мама идёт впереди, я вижу только её спину. Тогда я вскидываю голову – и захватывает дух.
Первое в моей жизни ночное небо кишмя кишит… мириадами звёзд. И небо, и звёзды – всё живое. До сих пор для меня загадка: как могло детское сердечко вместить всю гамму сложных и противоречивых чувств, всё величие этой ночи и одновременно необъяснимый страх перед бессчётным числом миров, смотрящих на меня сверху яркими точками звёзд? Как не затеряться крошечному существу в этом огромном мире?
Так же внезапно на смену страху перед громадностью жизни пришёл покой и с ним уверенность: «Пока мама, это родное существо, идущее впереди, рядом, мне нечего бояться». От неё ко мне шли токи Доброты такой силы, что мощным аккордом завершили это ночное переживание. Больше я не помню ничего. Как будто что-то щёлкнуло и навсегда, как на фотоплёнке, зафиксировало мысль: «Мама – это центр моего мироздания»… Она навсегда осталась неиссякаемым источником Любви и… слёз.
После провала в памяти, после своеобразного затемнения на внутреннем экране моей памяти возникает другая яркая и отчётливая картина. Это второе воспоминание.
Мы живём в Новосибирске, куда отец командирован для организации фабрики механического учёта в Управлении железной дороги. Дом, в котором он получил квартиру, достраивается2.
Мы временно живём на частной квартире у рыбака на самом берегу Оби, в посёлке под названием Нахаловка.
Избушка с небольшим двориком, в котором на тонкой верёвочке в несколько рядов сохнет рыба: дед сам её ловит, вялит, коптит, сушит… Избушка стоит на самом краю высокого обрыва, сразу под ним – Обь. Напротив, почти на отвесной горе непонятным образом прилепились такие же домишки, как наш.
В доме только кухня и небольшая комната. Хозяева спят на печке. Мы, квартиранты, четыре человека – в комнате. Мне шесть лет, рядом со мной брат Володя, который умудряется уползать в отверстие под печью, где собирает со стены и съедает извёстку. Каждый раз мы его теряем и пугаемся.
В избушке тепло. Большую часть времени я провожу под столом. За столом сидят и мирно беседуют мама и хозяйка Манефа Андреевна.
И я слышу грустную мамину повесть…
О, эти ущербные семьи, в которых не хватает либо матери, либо отца… Была бы жива бабушка Мария, по-иному сложилась бы мамина жизнь. Она закончила бы школу, выучилась… «И, мама, ты бы стала министром», – говорила я ей позднее. Её врождённой мудростью держалась наша семья. У неё был высокий чистый лоб и, как говорили в деревне, она была «баская девка», то есть красивая. И не вышла бы она замуж за Михаила, была бы счастливее, пусть и меня бы не было.
Прав был дед Анисим, когда говорил: «Лучше три раза погореть, чем один раз овдоветь». Привёл он в дом вторую жену с сыном Иваном. Оказалась она лютой мачехой…
Вот эпизод, который я услышала в тот вечер под столом.
«В родительский день я попросила мачеху отпустить меня на кладбище, к маме. Это в четырёх километрах от Меркушина, в Калиновке. А она так рассердилась, что стукнула меня мутовкой по голове и оставила дома…»
Острыми шипами этой мутовки мачеха проломила маме череп и запретила жаловаться отцу. Мама терпела боль, пока в ранке не завелись червячки. Тогда всё открылось, и дед Анисим на лошади отвёз дочку в Камышлов к врачам.
В последние годы, когда мама проводила время в кресле (я сама её даже причёсывала), маленькая ямочка чуть повыше лба, слева, прощупывалась. Это была отметина на всю жизнь.
Сколько таких внутренних отметин было на её душе!
Помню, я тогда залилась слезами в своём тайном убежище под столом. В мою жизнь в тот вечер впервые ворвалось зло. И имя ему – чужой, не родной человек. Многообразны виды неродственности, с которыми мне предстоит встретиться в жизни в будущем. Но в тот момент я узнала главное зло – смерть, которая унесла самого близкого человека мамы.
Почему умирают люди? Почему существует смерть? Когда же будут даны ответы на эти детские вопросы?
Третье воспоминание – сквозная тема всей маминой жизни и моей тоже.
Мама растёт с мачехой. Пришло время идти в школу. Маме нравится учиться. Она уже узнала буквы, а теперь учится читать.
«Жа-Ба»… Мачеха услышала и взорвалась: «А! Вот чему вас обучают в школе: ругаться да мальчишкам записки писать!»
Больше она не отпустила мою маму в школу. Мама ходила туда до января.
Каждый день она сидела у окна и с тоской смотрела, как ребятишки бежали на уроки.
Что означало для неё это наказание мачехи? Она сполна прошла жизненную школу сиротства. Когда у неё родилась дочь, она ни от кого не скрывала, что мечтает только о том, чтобы её дочь стала учительницей. Это была Высшая Цель, которую она могла вообразить для ребёнка.
Дать своим детям образование!
Им она посвятила свою жизнь, ради них она стала героической Матерью.
Несмотря на войну, которая застала нашу семью врасплох: мои родители с чемоданом детских вещей приехали к моей тётке в Свердловск в отпуск из Львова, куда перед войной отец был командирован всё с той же целью – организовать фабрику механизированного учёта в Управлении железной дороги, и прожили здесь все военные годы.
Несмотря на то, что она с двумя детьми, как семья погорельцев, осталась ещё и без мужа, который ушёл на фронт и всю войну считался «пропавшим без вести», и тогда ей пришлось выполнять мужскую работу.
Несмотря на послевоенную нищету: начинать хозяйство пришлось с нуля, с единственной эмалированной кружки.
Несмотря на буйство пьяного мужа, вернувшегося из немецкого плена.
Несмотря на сотни обид и унижений со всех сторон, она достигла своей цели: и дочь, и сын получили высшее образование.
Это её заслуга! Она на это положила свою жизнь!
Кто в доме вставал раньше всех? Кто ложился последним? Кто целыми ночами топил углём печку в пятиметровой кухне, которая после войны стала нашим первым семейным жилищем?
Сколько помню её, она всегда в работе. Её трудовой день не мерян, не считан: 8, 10 часов, а порой и все 24.
Когда дети станут на ноги, она по советским законам будет именоваться «иждивенкой» и даже пенсии будет лишена.
Позднее в документах родителей обнаружится ордер на Львовскую квартиру. Он и сегодня цел: улица Обороны Львова, 28, квартира 6. Огромная квартира в центре Львова. Отцу её дали как депутату Горсовета, куда он был избран ещё в Новосибирске. Предъяви он этот ордер свердловским властям, и мы имели бы право получить равноценную квартиру в Свердловске.
Не знали, не подсказал никто… Вот сейчас подумалось, может быть, боялись?..
И опять вся тяжесть бездомной жизни легла на мамины плечи.
Так и жили: в тесноте, в коммуналках, в небольших комнатушках по пять человек, без каких-либо «удобств», с грубыми и злыми соседями. Впрочем, это была участь многих советских семей.
А мама не ожесточилась. Врождённая доброта сияла в ней, несмотря ни на что. И, если ей удавалось отключиться от семьи, где она несла постоянную вахту, она обрастала друзьями, подругами, а с добрыми соседями отношения перерастали в пожизненную дружбу.
Так было с Гусевыми, Дмитрием Владимировичем и Татьяной Семёновной, с Екатериной Ивановной Коровиной, с Марией Кузьминичной Кузевановой и другими…
Помню, по какому-то делу зашла к нам однажды Евгения Исааковна Горелик, моя портниха. Тоже редкая мать. Она настрадалась из-за сына-музыканта. Он, еврей, много лет не мог получить любимой работы. Евгения Исааковна была ожесточена на жизнь, яростно критиковала власть.
На её звонок мама тогда спешно побежала, она всегда бежала открывать дверь каждому. Они немножко поговорили, и мама ушла на кухню. В тот же день, вернувшись домой, Евгения Исааковна, взволнованная, позвонила мне: «Валя, какая у тебя мама! Я не встречала ещё такого доброго лица!»
Воспоминания всплывают и всплывают…
…Купила я на работе путёвку в дом отдыха матери и ребёнка в Коуровку, живописное уральское место недалеко от Новой Утки – родины Ольги Ивановны Марковой.
«Хоть от кастрюль отдохнёшь».
В их комнату поселили пять женщин с детьми, всего десять человек. Через двадцать один день мама вернулась.
«Слава богу, теперь у меня будет один Славик», – были её первые слова. Оказалось, она нянчилась со всеми ребятишками, пока молодые мамаши убегали на танцы или в кино.
Одна из тех мамаш приезжала к нам позднее. Как сейчас вижу: стоит столбом у двери, молчит и смотрит на маму, точно не может насмотреться, точно видит такого человека впервые.
Попала мама как-то в больницу. Ехала туда довольная: «Хоть раз в больнице полежать».
В день выписки я пришла, чтобы забрать её домой. В палате мамы нет. Все хором дружно закричали: «Сейчас-сейчас придёт!» Это она с чужим горшком убежала в туалет, а её соседка по кровати, тяжело больная, плакала: «Что я без Зои делать буду?»
1995 год. У мамы артроз тазобедренных суставов, она без посторонней помощи не может ни сидеть, ни лежать. Ей собираются сделать операцию по поводу катаракты. Она уже не видела. Мы вместе с нею по разрешению начальника госпиталя Спектора Семёна Исааковича лежим в одной палате.
Соседкой мамы по кровати на этот раз оказалась Нина Александровна Ежова, в прошлом преподаватель немецкого языка в горно-металлургическом институте им. Г.И. Носова в Магнитогорске. Позднее она преподавала русскую литературу в медицинском училище г. Свердловска.
И вот моя неграмотная ослепшая мама и эта интеллигентная женщина подружились.
Госпиталь большой, я часто отлучалась по делам, а когда возвращалась, заставала их за разговорами.
Однажды услышала: «А дети у тебя есть?» – спрашивала мама. «Да, сын, – отвечала та. – И внук».
Вот на этой теме они и открыли друг друга.
Дружба с Ниной Александровной продолжалась не один год, до самой смерти этой удивительной женщины. Мою мать она называла «мамой», и мама с готовностью «удочерила» её.
Спасибо Вам, Нина Александровна, за тепло, которое Вы подарили моей маме, она встречала его редко. За всё, за всё, а особенно за маму я всегда буду помнить Вас, пока жива.
Недавно в бумагах я обнаружила одно из поздравлений Нины Александровны. Она их писала в стихах.
Я написала о тех, кто вспомнились на данный момент. А сколько их – этих добрых людей, помогали маме во время войны? Со всеми она была приветлива, открыта, жизнерадостна. И главное – всегда сердечна, всегда участлива.
О, Муктананда! Я благодарна Тебе за эти слова. Они целиком относятся к моей матери.
«Того, кто раздаёт свою Любовь, всюду приветствуют с любовью… Поклоняйтесь Любви. Показывайте Создателю только явления Любви. Любовь могущественнее ядерной энергии… Любовь – истинное Высшее Я человека, его подлинная красота и триумф его человеческого существования».
На страницах этой «книги» мама появится ещё не раз. Наши с нею жизни сплавлены в одну.
Глава 3. Макар Алексеевич Семёнов
Отец
Те, кто позади тебя, критикуют тебя.
Те, кто рядом с тобой, вдохновляют тебя.
Те, кто впереди тебя, изменяют тебя.
Из интернета
В жизни его звали Михаил. Не нравилось ему имя, данное священником или родителями. Виновата в том пословица: «Макар телят гонял».
Пользуясь свободой в этом вопросе, задумал он сменить имя. Михаилом его и так уже звали. Шёл 1936 год. Он сдал документы на переоформление и, когда родился сын Владимир, в метриках в графе «отец» оказался прочерк: документы с новым именем не поспели не только к его дню рождения, но и никогда не были получены. Надвигался 1937 год – было не до того.
Эта путаница с отцовским именем сопровождала нас с братом всю жизнь. Позднее, когда Володя оказался «номенклатурным работником», он писал длинные объяснения в анкетах, почему его отец Макар, а сам он по паспорту Владимир Михайлович.
А я в паспорте именуюсь Валентиной Макаровной. Попадая в неловкие ситуации, я всегда что-то смущённо лепетала, почему в личной, в общественной, профессиональной среде я Валентина Михайловна, а по документам наоборот…
Есть, наверное, в этом какой-то таинственный знак, но пока нам не дано его понять. Как непонятно и то, почему я включена в конфликт со смертобожничеством.
Писать эту главу мне и легко, и трудно. Легко, потому что задача у моей рукописи особая. Ведь я рассматриваю её как исторический документ, который должен иметь практическое значение. Как метрики, как паспорт, как диплом или, на худой конец, трудовая книжка.
Только заполняю я не бюрократические бланки, а, по завещанию глубоко чтимого мною Николая Фёдоровича Фёдорова, который считал, что главное в деле воскрешения – любовь к умершим предкам, открываю своё сердце и отпускаю на свободу свои чувства как к живым, так и к мёртвым, особенно к тем, кого любила. Разные оттенки у этой любви, и зависят они от тех, о ком пишу.
Отец мой жив. В следующем месяце, 14 апреля, ему исполнится девяносто один год (написано это пятнадцать лет тому назад). И имя его уже внесено в книгу, которую задумало и осуществило Управление Свердловской железной дороги.
Более полувека отец был железнодорожником. Исключение – военные пять лет. В этой книге ему посвящена специальная страница. К нам домой приходили девочки-студентки с филфака УрГУ, которые в летние каникулы работали в стройотрядах проводницами. Им поручили познакомиться с документами отца и записать его живые рассказы. Окончив работу, они приносили и читали ему свои тексты.
Потом и из музея приходили люди, переписали все его ордена и медали, взяли фотографии. Так что полная история отца хранится в архивах.
Трудно мне сейчас писать потому, что, во-первых, отец жив и история наших отношений продолжается. В детстве я его очень любила, и иногда мне казалось, что возможно воскресить эту любовь… Не знаю… Он сделал всё, чтобы уничтожить, растоптать её…
Во-вторых, он был прямой противоположностью маме. Земля и Небо, Добро и Зло лоб в лоб сошлись под нашей семейной крышей. Слишком рано я осознала свою роль – защищать маму от всех обидчиков, среди которых самым страшным был мой отец.
Н.Ф. Фёдоров говорил, что «не судить мы должны наших родителей, а искупать их вину». Искупать, исправляя в себе их несовершенства, которые мы унаследовали от них, в том числе и генетически.
Отцовские черты проявлялись у меня чисто внешним образом. «Редко, но метко». Всё материнское – внутри, глазу не видимо. Пусть глава эта полежит, пусть все ужасы её отстоятся, может быть, найдётся и способ «искупить» их: время нынче важное, необычное.
Но, что остались на мне «родимые пятна» от общения с отцом, для меня несомненно. Помогли мне понять себя недавно два американских автора. Я не поленюсь перечитать и даже переписать отдельные страницы из их книги, которые были написаны точно для меня, обо мне.
Аллен Ф. Харрисон и Роберт М. Брамсон в популярной книжке «Думай и достигай» знакомят с результатами своих исследований о том, как стиль мышления влияет на поведение человека. Американцы широко применяют различные формы тестирования. Я заполнила довольно витиеватый тест, ответила на вопросы, подсчитала по их методике очки и получила результат: я – синтезатор-идеалист. Далее идут прагматик, аналитик, реалист.
Читаю захватывающее откровение о себе. Узнаваемо. Сначала о синтезаторах. Их меньшинство, всего 11%. Авторы иронически отмечают: «…говоря языком статистики, у вас есть причины считать себя членом группы избранных» (стр. 21) или… белыми воронами. Это в начале книги, а в конце – «как и общество в целом, мы высоко ценим четыре из пяти стилей мышления». (А пятый – это кто? Пятый – это синтезатор.)
Синтезаторы неудобны. Это странные люди. Синтезатор – единственный тип, который ничего не делает для того, чтобы влиять на людей. И что особенно неудобно – он и сам не поддаётся влиянию ни при каких обстоятельствах. «Если под влиянием вы понимаете «убеждение», то в случае с синтезаторами можно сказать только одно – забудьте об этом».
«Синтезаторы не очень сильны в смирении. Они убеждены, что мир постоянно меняется, превращается в нечто новое. Если я синтезатор, то вам, скорее всего, удастся повлиять на меня, если вы прячете в рукаве что-то новое и интересное. В противном случае я о вас уже забыл».
«Оказавшись в ситуации сложной, неясной, связанной с трудным выбором, который кажется остальным скорее путаницей, чем определённой проблемой, синтезатор испытывает желание прояснить её, встретив конфликт лицом к лицу, пусть даже невольно, но твёрдо и решительно».
Синтезаторам часто неуютно с самими собой, когда они ощущают собственную силу – способность видеть противоречия, распознавать конфликт и браться разрешить его тогда, когда другие отходят в сторону». Испытано не раз.
«Трудно радоваться дару, который отделяет человека от остальных»… Но… вот оно: «Но это дар, данный синтезатору, редкий дар и его нужно культивировать и совершенствовать».
Синтезаторы ищут разногласий, изменений, новизны. У них есть привычка оспаривать фундаментальные предположения. Синтезаторы расцветают от конфликта. Они прирождённые диалектики».
А идеалисты? Вот несколько штрихов, которые мне показались важными.
«Их интересуют социальные ценности… У них есть стремление к сильному чувству этики… Их интересуют глобальные цели и высокие стандарты. Они стремятся к перемирию, к консенсусу. В отличие от синтезаторов идеалисты не ценят конфликт и не получают от него удовольствия. Им он кажется непродуктивным и ненужным».
«Однако их восприимчивость вызывает и поощряет конфликт и расхождение во мнениях… Имея целый набор базовых ценностей, они приводят в соответствие с ними и методы их воплощения. И тут начинаются расхождения. Они отвергают методы и прагматиков (грубы и напористы), и реалистов (расчётливы), и особенно синтезаторов (неудобны, конфликтны). И при этом хотят, чтобы все были удовлетворены. В результате идеалисты страдают двумя взаимосвязанными болезнями: чувством вины и разочарования в самих себе, а также травмированными чувствами в связи с разочарованием в других».
Это самая многочисленная группа людей. Их – 37%.
Но в чистом виде не встречается ни один тип. Чаще возникают комбинации…
Синтезатор-идеалист сочетает противоположные базовые посылки: конфликтность-бесконфликтность, преданность согласию между людьми, с одной стороны, и невозможность согласия, с другой – поэтому «внутренний конфликт синтезатора-идеалиста неизбежен. Они производят впечатление теоретиков и не очень практичных людей.
Многое теперь разъяснилось. Я могла окончательно запутаться, заблудиться в самой себе, если бы не «сверхъестественная» помощь моего сына, если бы я не прошла многолетнюю школу послушания (с 1981 по 1992 годы) и не пришла к согласию с самой собою в сиддха-йоге. О чём впереди…
Возвращаюсь опять в детство. Там ещё одно ослепительное воспоминание.
Я держу в руках первую в своей жизни книгу с цветной иллюстрацией на первой странице. Что это за книга? Не помню. Кто создатель этой изумительной иллюстрации? Не знаю. Помню сам миг – во мне молнией сверкнуло чувство яркого счастья. Вспыхнул свет такой чистоты и красоты, что я запомнила эту первую встречу с книгой на всю жизнь. Оглядываясь назад, вижу, что это было настоящее знамение.
Шёл 1937 год.
Так и повелось в моей жизни: общие и личные мои проблемы иногда пересекались, а чаще расходились.
Я рано, с четырёх лет, узнала о существовании в себе того, что называют «внутренним миром», и он стал главным. В мире внешнем моим ангелом-хранителем была мама, а я так и осталась не бытовым, непрактичным человеком. Наши с ней сферы «деятельности» разделились.
Взвалив на себя быт, она дала мне возможность целиком уйти в себя. Всю жизнь я читала книги запоем, они и мама вскормили мой Идеализм, они создали мою судьбу.
Я живу на облаках в воздушных замках, в дыму фантазий. Сильфиды и феи, русалки и гномы, Джины из бутылки, выполняющие мои желания, колдуны и волшебники, «30 витязей прекрасных» и королевич Елисей для меня так же реальны, как во внешнем мире окружающие люди, предметы и события.
Если в утробе матери мы в свёрнутом виде повторяем эволюцию физического мира, то благодаря книге мы вступаем во владения духовными богатствами, созданными многими поколениями живших ранее людей.
Никому не могла я рассказать о том глубоком и мощном душевном потрясении, которое пережила от гётевского «Лесного царя» в переводе Жуковского и которым долго бредила дни напролёт.
«Ездок запоздалый, ездок доскакал… В руках его мёртвый младенец лежал»…
Бушевала война. Каждый день приносили похоронки, каждый день мы слушали сводки: сдавали один за другим наши города. Один или два раза в неделю мы бегали в госпиталь №414 – огромное здание Дома Промышленности ныне. Все коридоры, все огромные палаты были заполнены ранеными. Вечерами мы вышивали бисером кисеты со словами «Бойцу на фронт», собирали посылки, помогали на сельскохозяйственных работах в совхозе. У нас дома женщины вязали для солдат шерстяные носки. Общая опасность объединяла людей, «чувство локтя» было естественным. Атмосфера вокруг была насыщена особым электричеством противостояния Жизни и Смерти в их всеобщем смысле.
У нас тогда было Одно огромное Сердце, а не тысячи отдельных маленьких сердец. Так что от внешней жизни отгородиться было невозможно. Именно на эти годы общей беды, сплотившей всех, и приходится начало моего «книжного запоя».
На улице Первомайской близ железнодорожного полотна и сейчас стоит этот важный в моей жизни дом. Надо бы сходить, посмотреть номер и заглянуть во двор. Там, со двора, была дверь, которая вела прямо в полуподвальное помещение библиотеки.
Целые полки заполнены книгами со сказками. И я вошла в Сказку, в её царство на долгие дни и месяцы.
Две женщины-библиотекарши обратили на меня внимание: я появлялась там почти каждый день. А когда однажды я взяла накануне толстый том Диккенса с «Оливером Твистом», а на следующий день вернула его, они устроили мне «экзамен-собеседование» и убедились, что книга прочитана.
Они стали подбирать мне лучших авторов, лучшие произведения. Мне очень хотелось бы в этой «книге» назвать их полные имена! Они любили своё дело, и, кто знает, чем могла бы закончиться моя «безумная страсть» к чтению, если бы не их деликатное, незаметное руководство. Великое это дело – быть хорошим библиотекарем. Я знаю не один трагический случай, когда люди, обуреваемые жаждой чтения, пускались без компаса в бурное книжное море, и это заканчивалось трагедиями.
Увы, не только имени не помню, но даже внешний их облик стушевался. Остались они в памяти бесплотными Ангелами.
Низкий поклон этим женщинам, которые сначала ввели меня в светлое царство Детской Литературы, а затем так же тонко и умно – во владения русской и мировой классики.
Я читала так много, что, когда оказалась в университете на филфаке, программный курс был почти весь мне знаком.
Слово «чтение», пожалуй, не совсем точно в моём случае. Я жила тем, о чём читала. Недавно где-то встретилось выражение: «Искусство – это машина ускорения жизни». Жизни! Да!
Читаю «Отверженных» В. Гюго.
Как горько я оплакивала судьбу бедного Жана Вальжана, который под старость приходил к дому своей Козетты. Из окон лился свет, оттуда доносились звуки музыки, но бедного старика в дом не впускали: муж Козетты был богач.
Я плакала, а два котёнка, прижавшиеся друг к другу под пледом, от моих слёз становились мокрыми, и шерсть их превращалась в сосульки…
Роман И. Тургенева «Дворянское гнездо» я читала в саду, в беседке, у подруги Любы Зуевой, дом которой был напротив нашего через дорогу. Память и воображение переплелись так причудливо, что Любин сад и беседка соединились с той беседкой в саду, где Лаврецкий ждал Лизу. Мне и сейчас, когда вспоминаю роман, представляется, что в той беседке нас трое, я присутствую там.
Лаврецкий ждёт Лизу. Вот освещается одно окно, потом другое, третье… Это Лиза со свечой в руке идёт по анфиладам комнат. Вот она вышла в сад… Вот их объяснение. У меня покалывает кончики пальцев. Я дрожу. У меня заходится сердце…
Мне всего одиннадцать лет…
Я в тесном общении с самыми светлыми умами, с самыми чистыми сердцами.
Моё воображение и реальная жизнь легко и естественно переходят друг в друга. Вот ожила ещё картинка. Где жизнь, где грёзы.
Я сижу на маленькой скамеечке на кухне. На неё по особым дням ставят самовар и выводят трубу в дымоход. Но в обычные дни самовар стоит где-то наверху, и я люблю сидеть на этой скамеечке (она и сейчас жива).
Много разного люда во время войны перебывало в доме моей тёти Доры. Сейчас, например, напротив меня сидит военный лётчик в шлеме, на щеках у него играют ямочки, он улыбается и о чём-то оживлённо рассказывает. О чём? Не важно… Я смотрю на него молча, а в воображении за моей спиной, там, где белая дощатая перегородка отделяет кухню от комнаты, разворачиваются, как в кино, одна за другой картины. Я в пустынном и роскошном парке, подхожу к фонтану, сверкающие струи с шумом падают в воду, вижу на дне фонтана чистый песочек, вон мелькнула рыбка… и со мной прекрасный принц, вот этот молоденький лётчик. Это из «Аленького цветочка».
Недавно, перебирая старые альбомы, я наткнулась и на его фотографию. Но ни имени его, ни фамилии я не знаю. По крайней мере, его я не выдумала. А мои фантазии тут же ожили.
…В школе мне тоже интересно. Учусь легко. Отличница.
Юрка Софронов сидит со мной за первой партой у преподавательского стола в среднем ряду, а Лёнька Воробьёв, рыжий и весь в веснушках, умная бестия, – прямо за моей спиной. Учимся во вторую смену.
После уроков Юрка караулит меня, спрятавшись в темноте за сосной, потом отделяется от дерева, медленно подходит, чтобы бить меня. Мои протесты вроде: «Как тебе не стыдно, у тебя красная звезда на шапке», – только подливают масла в огонь. И я убегаю обратно в школу, чтобы дождаться кого-нибудь из взрослых.
Но не всегда это удаётся. И преследование продолжается. Бьёт Юрка жестоко. Домой прихожу с рёвом.
И вот объяснение с учительницей. Юрка, Лёнька, я и Циля Савельевна, классный руководитель. Выясняется: Юрка и Лёнька ревнуют друг друга ко мне, а попадает за это мне. Часто-часто я оказывалась под скрещивающимися мечами ревности. Одно время я даже называла себя «жертвой ревности».
Помню случай с Витькой Стенькиным. Он не учился в нашем классе, но объявил, что «дружит с Валей Семёновой». Тогда я отправилась к нему домой, вызвала его на улицу (у них во дворе была злая собака на цепи) и устроила ему выволочку: «Тебе не стыдно врать?» – нападала я на покрасневшего до корней волос мальчугана.
Вот когда моя прабабушка была бы довольна!
А может быть, невидимая, она была тогда рядом?
Нет, не интересовали меня мальчишки: ведь они не рыцари и не принцы…
А где-то идёт война, льётся кровь.
В 5-м классе учителя-предметники в основном эвакуированы из Москвы, Ленинграда, Киева. Мальчишек больше с нами нет: школы разделили на мужские и женские.
Мне нравится учиться.
География. На этих уроках обязательны карты. И нет такой точки на земном шаре, такой горы, озера, речки, города, страны, которых я не знала бы назубок. У географии своя аура. Я люблю путешествовать.
Немецкий язык нам преподаёт немолодая седая женщина из эвакуированных. Кажется, из Ленинграда. Она сдержанна, спокойна, всегда сидит. Но есть в ней та внутренняя сила, которая отличает интеллигентного человека. Меня она не спрашивает, как всех в классе. Я у неё за ассистента. Для нового параграфа она даёт пять-шесть новых слов, и я, это уже стало привычным, читаю на немецком и сразу перевожу новый текст на русский. Я по-немецки читала свободно. Писала как обычным, так и графическим шрифтом. Я знала много стихов и Гейне, и Гёте…
Но в новой школе, где грызли одну грамматику, а живого языка не знала и сама преподавательница, меня от немецкого языка «отшибло», поэтому в университете я начала учить английский с нуля, и в итоге – ни того, ни другого.
Но в той, военной поры школе во всех предметах, кроме литературы, я черпала одну поэзию.
Помню экзамен по ботанике (экзамены тогда сдавались ежегодно. Они назывались «переводные»). На этом экзамене присутствуют два человека из районо. Один из них задаёт мне «трудный» вопрос. Я отвечаю, стоя у стола, без запинки. Теперь спрашивает второй. Опять молниеносная реакция с моей стороны и исчерпывающий, развёрнутый ответ.
Незаметно экзамен набирает обороты, и все трое – «контролёры» и я – входим в азарт. Они наперегонки засыпают меня вопросами, я забрасываю их ответами.
Это продолжается около часа. Пятёрка!
Довольны были все! Никогда ни один экзамен мне не доставил столько удовлетворения, как в тот раз. Они прогнали меня по всему курсу и дали возможность взглянуть на себя со стороны.
Помню ли я сегодня что-нибудь из ботаники?
Увы…
А литература? В школе мне крупно не везло с литераторами. В этой 35-й школе (теперь это 35-я гимназия), даже фамилия у литераторши символична: Зверева! Она жена военного, трое детей. Муж на фронте. Она крутит романы с другими офицерами, и ученики это знают.
Вот в столкновении с нею открылась неизвестная мне самой новая сторона моей натуры. Я, ученица, вступила в открытый конфликт с учительницей. Я впервые проявила тогда характер.
В классе много москвичей, ленинградцев и т. д. Староста – Зоя Крестьянинова, москвичка. Живёт она в 11-м военном городке, в доме, что прямо напротив нашей школы. Окна в окна.
Сидим мы за одной партой у преподавательского стола в среднем ряду (я просидела так много лет). Мы не расстаёмся и после уроков. Это первая в моей жизни дружба. Зоя – флегматик.
Считается, что у меня красивый почерк. Поэтому вместо Зои я заполняю страницы классных журналов. Обязанности старосты она выполняет так же флегматично, но дисциплинированно: её уважают. Зоя бредит своей Москвой, мечтает скорее туда вернуться.
И вот настал этот счастливый для неё и несчастливый для меня день. Их семья уехала в Москву, а я, потерянная, бродила вокруг их дома. Первая дружба, первая разлука. Всё очень остро, очень больно, очень тяжело…
А жизнь продолжается. Литераторша была одновременно и нашим классным руководителем. Она провела классное собрание, выдвинула сама мою кандидатуру на роль старосты, поставила на голосование, все автоматически взмахнули руками – и вот я староста.
Мой самоотвод не принят: все знали, что я постоянно заменяла Зою и никто не предполагал, что за этим собранием последует. А последовала – война. С моей стороны она выразилась в полном отказе что-либо делать. Это был бунт. Молчаливый, но бунт.
Списки в журналах больше не заполнялись, какие-никакие формальные обязанности старосты – тоже. Когда меня просили, ругали, вызывали родителей и прочее, я молчала. Конфликт разгорался, вышел за пределы класса.
На уроках литературы Ольга Александровна так прозрачно проводила параллель между травлей Пушкина и собою, что понятно это было не только мне, но и всему классу. А я, как скала, стояла на своём. Откуда-то взялась внутренняя сила и чувство правоты – я не сдалась.
Педагоги начали роптать, что в журналах пустые страницы, конфликт затягивался – и пришлось классной руководительнице провести ещё одно собрание: старосту переизбрали. Победа осталась за мною.
Я хорошо помню эту властную внутреннюю силу, которая заявляла о себе всякий раз, когда меня пытались назначить на какой-нибудь «пост». Я, как чумы, боялась быть «в начальстве»: внутренняя свобода была дороже.
Так хочется побыстрее проскочить этот «послевоенный «этап»… Но «из песни слова не выкинешь». Пусть он будет напечатан мелким шрифтом. Душа рвётся туда, вперёд… К университету, к Анне Владимировне…
Кончилась война… Как часто говорили мы: «Вот кончится война…», и каждый добавлял своё.
«Вот кончится война… и поедим котлет…»
«Вот кончится война…» и представлялось что-то необычайно прекрасное…
Пришёл как-то лектор в школу и сказал: «Вот кончится война и через двадцать лет каждый человек будет иметь наручные часы!»
Кончилась война. Вскоре вернулся отец. Он был на Ленинградском фронте, генерал Власов командовал на этом направлении… Отец попал в плен. Сбежал. Трое суток он просидел в водопроводном колодце в Пскове, а когда вылез оттуда, сразу наткнулся на немецкого офицера.
«Что, Миша, домой хочешь? – спросил его немец и добавил: – Я тоже хочу!»
Видимо, русский язык знал и повёл его в часть. Отца отправили в Германию. Освободили его американцы. С нашими войсками он дошёл в обратном направлении до Кёнигсберга. Побывал и в Освенциме. И вот дома. Начинать пришлось всё с нуля.
Закончена и школа-семилетка. Я отнесла свой табель и похвальный лист в железнодорожную школу-десятилетку №1. Она есть и сейчас по улице Мамина-Сибиряка. Теперь это средняя школа №30.
Здание огромное, четырёхэтажное. Лестницы оснащены металлическими гнёздами, в которые вставлены цветочные горшки. Цветов от первого до четвёртого этажа множество. Очень нарядно. Директор, важная дама, посмотрела мои документы и благосклонно разрешила мне учиться в этой престижной школе. А некоторым моим одноклассницам пришлось преодолевать её несогласие.
Будь я более земной, контраст между жизнью во Львове, а потом в доме тётки с тем, с чем столкнулась разорённая войной семья, мог бы оказаться катастрофой.
Львов – европейский город с богатой архитектурой, парками, старинным замком, костёлами, театрами, музеями. Во Дворце пионеров мы можем увидеть изнутри, как жили богатые польские шляхтичи: нарядные полы, лепные потолки, свисающие сверху хрустальные люстры, а стены обтянуты богатым шёлком.
А довоенные магазины? Чего стоят одни витрины с пасхальными яйцами всех расцветок, всех сортов. А горы фруктов, вишни, клубники, черешни прямо на улице, на лотках. Магазины частные, богатство и изобилие повсюду.
Мы живём в самом центре – улица Обороны Львова. Мимо наших окон проходят демонстрации. Мы сидим на подоконнике и смотрим на нарядную праздничную толпу.
Квартира просторная. И богатая.
Я сплю на бархатном диване, который на ночь раскладывается и превращается в просторное ложе. Внутри бархат красный. Люстры, ковры, огромное зеркало от пола до потолка в богатой резной дубовой раме, изразцовая печь. Плитки её белые с нежным голубым рисунком.
В школу, это второй класс, я хожу через парк Костюшко. В парке много каштанов. Весной они преображаются. Их цветы напоминают свечи. Это зрелище не забыть!
Здание школы не типовое. Это огромный серый дом, часть которого выделена под школу. Я опять сижу у преподавательского стола, рядом со мной грязнуля и хулиган, он подкарауливает меня в парке, грозит побить… Но у меня есть рыцарь – Саша Бутов. Его отец военный. Мы живём на одной улице. Саша, увидев в парке моего соседа, начинает кружиться на месте, размахивая портфелем, наверное, он сам боится драчуна. Но передо мною, девочкой, держится молодцом.
Однажды нас всех быстро вывели из классов во двор, пронёсся слух, что здание заминировано… Пока искали бомбу, мы резвились во дворе.
Рядом со школой обтянутая колючей проволокой территория не то парка, не то леса. Там окопы от прежней войны. Они заросли бурьяном, края обсыпаются. А на дне цветут нежные невинные фиалочки. Я люблю эти цветы…
Я занимаюсь музыкой. Сосед-поляк держал частный мясной магазинчик в нашем доме, а вечерами музицировал. Мы исполняли на его рояле фортепианные пьесы в четыре руки. А его друг, стоя у нас за спиной, играл на скрипке.
С музыкой, как и с балетом (я полгода ходила в балетный класс в Новосибирске), пришлось расстаться навсегда.
Отец почему-то решил сменить квартиру. По объявлению к нам приходили разные люди. И тут я увидела на стене у двери узенькую металлическую полоску. В ней был тоненький папирус с текстом на еврейском языке.
Приходившие к нам люди открывали этот текст и вели себя по-разному. Одни разворачивались и уходили сразу. А другие – вступали в беседу, давали свои адреса, и мои родители ходили смотреть их жильё. Оказалось, до нас в этой квартире жила еврейская семья.
В такой вот странной форме я столкнулась с ненавистью между поляками и евреями. Только сейчас я начала разбираться в этом запутанном вопросе, помог, как не раз уже делал это, А.И. Солженицын. Я совсем недавно прочла его книгу «Двести лет вместе» (1795 – 1995 гг.). К этой теме я ещё вернусь…
А пока обсуждается вопрос: отпускать ли меня в летний лагерь, куда родителям предложили путёвку. Но по городу ползут слухи о войне, и мама наотрез отказывается оставить меня одну: в отпуск поедем все вместе. Мы приехали в Свердловск 18 июня, через четыре дня – война.
В годы войны Львов стал для меня городом-грёзой, городом-мечтой. «Вот кончится война… и мы вернёмся во Львов!»
Дом тётки в Свердловске тоже был «полной чашей». В войну было голодно, но муж её Пётр Денисович Порошин, работал в столовой, и мы могли каждый день есть свежие булочки. Они назывались «венские». У тётки не переводились конфеты.
Спала я на чёрном кожаном диване. В доме чисто и уютно: ковры, вышивки, цветы, прекрасная посуда… Тётя Дора, Фёдора Анисимовна Порошина, слыла «богатой»…
Два слова о вышивках. Мама всегда удивлялась: «Ведь никто тебя не учил!» А я в кружке рукоделия при Дворце пионеров участвовала даже в выставках. Беру в руки иглу и сегодня… Откуда это взялось? Теперь вот я могу предположить: если и правда, что в одном из воплощений я была испанской графиней, которая в молодости время своё отдавала любви, потом ушла в монастырь, а в другом воплощении была настоятельницей христианского монастыря в Австралии, то это рудиментарный след оттуда: монахини ведь – замечательные рукодельницы.
Но у меня это угасающий инстинкт, как след в небе после реактивного самолёта, который постепенно тает.
Вот кончится война…
Война кончилась. Послевоенные годы для нашей семьи оказались тяжелее военных: отец после плена не мог получить прежнюю работу, из партии был исключён. Тётка нам вскоре помогать не смогла – её муж умер.
Мы попали в кухню-каморку, плохо приспособленную для жилья. Зимой её приходилось отапливать и по ночам. К этой кухоньке примыкали узкие сени. Дверь с них сняли, отверстие замуровали, поставили рамы, получилось окно. Эти сени превратились в отдельную комнатушку для меня. Утром я сметала с потолка снег и иней. В уральскую зимнюю стужу мы жили почти на улице. Брат пока оставался у тётки.
Преподаватели в новой школе тоже оказались слабее. Другим девочкам в классе нравилась демократичная Вера Иосифовна Чернецкая, преподавательница немецкого языка… С нею многие летом работали в пионерских лагерях, она была старшей пионервожатой.
Нравился им и физик Павел Васильевич (Серебренников), и историки… А я стала учиться хуже.
Смогла меня увлечь лишь математик Крохина Мария Николаевна, она же наш классный руководитель. В школу я всегда приходила раньше других, так как жила очень далеко. Но Мария Николаевна была уже в учительской и через стеклянную дверь подзывала меня к себе: «У меня тут есть очень интересная, но очень трудная задача. Возьмёшься решить?» Я бралась. И к пятому или шестому уроку в тот же день задача была решена.
Приходила она и к нам домой. Наверное, была в шоке. Ведь все имели нормальное жильё, какое-никакое довоенное хозяйство. Нэля Ведешкина живёт в четырёхкомнатной квартире с собственным роялем. А тут – вообще ничего. Унылый, мрачный, тёмный угол.
Она всё допытывалась у мамы: «Как вы воспитываете свою дочь?» – я всё-таки училась неплохо и была кандидатом на золотую медаль… Мама отвечала: «Никак не воспитываю. Она всё сама».
Позднее мама принесла от тётки мои вышивки, великое множество, и сумела так любовно прикрепить их на голые стены, что к нам начали бегать соседи и сама домоуправляющая, которая ахала: «Как красиво!» Так унылое безобразие мы с мамой слегка скрасили.
Что до меня, я была нечувствительна к этой нищете, маму только жалела. Я по-прежнему упивалась чтением. Помню, возвращаясь из школы, я шла по дороге с раскрытой книгой в руках и так наловчилась, что ни разу даже не споткнулась. Я шла по улице (Некрасова), потом, как сомнамбула, поднималась по лестнице на мост, переходила на другую сторону оврага, шла по двору нашего дома – и всё, уткнувшись в книгу, утонув в ней. А потом, сидя верхом на парте, рассказывала сгрудившимся вокруг девочкам о какой-то «Гусиной принцессе»…
Так прошёл 8-й класс.
В 9-м классе родилась вторая моя школьная дружба – Люда Назаренко, Людмила Кирилловна Назаренко-Малиньш – её полное имя.
Мы должны были ехать в колхоз, убирать овощи. Я, как всегда, притащила с собою слишком большой рюкзак (я всегда брала много лишнего во все поездки), а пришли мы из всего класса только двое. Пока ждали остальных, разговорились, а потом вместе тащили назад мою ношу. Больше мы не разлучались.
Люда была высокой и стройной. Я – маленькой (1 м 57 см) и толстой. Нас и звали: «Пат и Паташонок». Сидели мы в одном ряду у окна, я за второй, она за четвёртой партой. Все уроки через Риту Сажину курсировали наши записки.
Господи! Как часто мы с нею ссорились и как горячо мирились!
Таких бурных, таких страстных объяснений, как с Людой, у нас ни с кем не было. Я помню Риту Сажину, Таню Свечникову, Веру Старцеву, Лялю Добродееву, Валю Лихушину, Веру Козлову, Женю Богословскую, Кремусю Ждахину, с которой мы начали часто общаться по телефону. Со многими из них я встретилась совсем недавно, полвека спустя.
Но тогда я зациклилась только на Люде Назаренко. И дома, и в школе, и во Дворце пионеров – только с нею. А когда её родители собрались уезжать в Ригу, мы обсуждали план, чтобы она осталась в Свердловске и жила в нашей семье, пока не закончит 10-й класс, но из-за моего отца она уехала в Ригу. На прощание она подарила мне огранённый, но без оправ тёмно-красный рубин со словами: «Если сохранишь его, будем вместе. Потеряешь – к разлуке». Договорились: через год встретимся в Ленинграде в институте.
В 10-м классе мы ежедневно писали друг другу длинные письма…
А жизнь подбрасывала сюрпризы. Как-то на вокзале я встретила троюродного брата Геннадия Семёнова, он учился в железнодорожном техникуме. Поговорили и разошлись. А потом он пришёл к нам домой со своим другом Герой Ярцевым. Я познакомила их со своей соседкой по парте, с одноклассницами. Они пригласили нас на вечер в своё общежитие. И так добавлялись к нашей компании два брата, Слава и Виктор Рябовы, Володя Дудырев, Петя Дука, Ира Федодеева, Рита Татаурова и много, много других. Это товарищество – одна из самых счастливых эпох в моей жизни.
Я по-прежнему много читала, а уроки литературы не любила, уж очень невыразительны и бледны литераторы, да и ссадина от Зверевой не прошла. Но в параллельных классах работала легендарная Зинаида Григорьевна Петрова, прозвище не злое, а доброе у неё было Зингра. Работала она не только в школе, но и в пединституте и много лет вела литературный кружок во Дворце пионеров, где собирались школьники со всего города.
Уже под старость в 90-е годы мне довелось встретиться с бывшими её кружковцами. Теперь они пенсионеры. Но по-прежнему собираются по очереди друг у друга на дому и читают свои доклады. Там есть педагоги, инженеры, юристы… На всю жизнь их объединила Зингра.
Два эпизода связаны у меня с Зингрой. К пушкинскому вечеру она попросила меня написать и прочитать доклад о Пушкине. Она была довольна моей работой. Вечер проводится торжественно, приглашены мальчики из 2-й школы, в зале – все старшеклассники. Слушают меня внимательно. Я заканчиваю свой доклад стихами: «Здравствуй, племя младое, незнакомое…» Не успела я договорить, как на сцену за моей спиной выскакивает Ирина Федодеева и говорит громко в зал: «Здравствуй, Пушкин!»
Зал грохнул. Так и не поняла я: по сценарию, что ли, у них так задумано? Но зал, Слава Богу, смеялся.
С Зингрой связана ещё одна тема. Как-то она бросила фразу: «Нельзя считать себя культурным человеком, не зная «Божественной комедии» Данте». Почему мне показалось важным стать «культурным человеком»? Но я отправилась в небольшой и уютный читальный зал Дворца пионеров.
Очень странное – впервые! – было впечатление: я ничего не поняла!.. Оказывается, трудно стать культурным человеком… С Данте у меня будут многолетние сложные отношения. На лекциях незабвенного Бориса Фёдоровича Загса я что-то не помню этой темы. Но вот коллоквиум не забыла. Я буду читать монографии, учёные труды… Дживигелов – так, кажется, имя учёного, посвятившего себя изучению этого монументального произведения. И опять я не пойму ничего. Нет ещё опыта… Эта поэма превратится, наконец, в самое важное событие в моей личной биографии. К ней я вернусь ещё не раз много-много лет спустя.
А рубин потерялся… Я молча простилась с Людой, ещё не веря в разлуку. Всю вину взяла на себя. Чувство вины пустило глубокие корни. Очень разрушительное чувство.
А Люда приехала в Ленинград, поступила в сельскохозяйственную Академию имени Тимирязева и, не дождавшись меня, вернулась в Ригу. Наша переписка прервалась.
Она вышла замуж за латыша, вырастила дочь и сына.
Много лет спустя в Москве я разыскала Зою Крестьянинову, а через тридцать лет мы встретились в Риге с Людой Назаренко.
Глава 4. Уральский государственный университет им. Горького
Когда ум объединяется с сердцем, он становится вашим другом.
Свами Чидвиласананда
Итак, вот вопрос, на который не сумеешь ответить, если ты материалист и атеист.
Почему я оказалась в университете (УрГУ им. А.М. Горького) на филфаке?
Никогда я не собиралась «изучать» литературу, а не жить ею. Никогда не думала о том, чтобы преподавать литературу, мои школьные учителя по этому предмету сделали всё, чтобы отвратить от него.
У нас с Людой Назаренко всё решено: мы будем учиться и жить вместе. Где? В Ленинграде. Это тоже оговорено. В каком институте? А вот это значения не имело. Лишь бы вместе. Выбрала Люда сельскохозяйственную Академию, значит, так тому и быть. Работали бы потом агрономами или ударились бы в генетику…
Но, во-первых, я потеряла подаренный Людой рубин и на мне долгие годы лежал груз вины. Во-вторых, родители. Они не пустили, потому что не было у них средств помогать мне на расстоянии (у нас с мамой был один лифчик на двоих). Впервые тогда ударила по нам бедность. Смириться с этим я тоже не могла.
Я говорю «родители», а ведь мама не работала и вины в том её не было. В эти дни я сумела обидеть её. Сама я забыла напрочь о своей резкой и несправедливой фразе. А она помнила. И много лет спустя воспроизвела её. Я, увидев её плачущей, сказала: «Ну, меньше в туалет будешь ходить». Вот что делает с человеком горе: он становится несправедливым и жестоким.
Да, прав Николай Фёдорович Фёдоров. Я усвоила хорошо эту мысль: «Человечество до сих пор не поняло, что есть только две беды. И первая беда – это бедность. А вторая – богатство. Опасны обе: и скудность, и излишество».
В другом месте у него же: «Пока существуют бедность и богатство, будет существовать смерть. И наоборот – пока существует смерть, будут существовать бедность и богатство».
Надо бы всем, наконец, задуматься, как разорвать этот порочный круг, хорошо сказано – «Заколдованный круг». Расколдовать его, по Фёдорову, можно лишь сообща. Недаром его учение войдёт в жизнь под названием «Философии Общего Дела». Но я забегаю вперёд. Пройдёт много лет, прежде чем эта проблема станет для меня главной, личной.
А пока школьнику после десятилетки в наше время один путь – в институт. Со школьной скамьи – на студенческую. Надо только выбрать, в какой: институт иностранных языков, юридический, университет, УПИ?
1949 год. Вот они, родные строчки: «Для бедной Тани все были жребии равны»…
Так как личная драма из-за Люды разыгралась ещё в школе, то я, схватив тройку по литературе и лишившись золотой медали, которая тогда полностью освобождала от вступительных экзаменов, должна была готовиться к ним и сдавать их наряду со всеми.
Но я не готовилась: такой силы была душевная травма. Поколебавшись, куда отнести документы, в институт на иняз или в университет на филфак, я пассивно-равнодушно отнесла их на филфак.
Вступительное экзаменационное сочинение. Я по-прежнему равнодушна. В школе, кажется, я писала их неплохо. На следующий день смотрю свою фамилию в экзаменационной ведомости – тройка! По итогам экзаменов – конкурс был пять человек на место – я не зачислена. Отец, кажется, где-то хлопотал, и меня взяли вольнослушательницей.
Пора было разозлиться на самоё себя!
В первую же зимнюю сессию я сдала экзамены на «отлично» и была зачислена на филфак.
Помню первые лекции… Огромная аудитория вмещает не только филологов, но и студентов других факультетов, журналистов, психологов… Окна с трёх сторон. Я сижу в самой гуще. Лекторы сменяют друг друга на высокой кафедре слева у окна.
Древнерусская литература. На кафедре Владимир Владимирович Кусков. Говорит о каких-то «апокрифах», сыплет древними названиями, речь густо приправлена непонятными для меня терминами… Мне он напоминает пастора. Проповеди его меня не трогают. Мне скучно.
Теперь на кафедре Павел Александрович Шуйский. Античная литература. Гомер – «Илиада» и «Одиссея». Он читает стихи в оригинале, запомнилось: «Армо вирумкве кано»… – самое начало, гекзаметр. Известно, что он перевёл обе поэмы великого грека на русский язык… Он темпераментный, подвижный, но очень старый, даже дряхлый.
А ещё он преподавал латынь. Но я занималась не у него, а у медлительного величавого Эбергардта, тоже старика! Про них гулял такой слух-анекдот. Эбергардт, выйдя из деканата, с трудом натягивает на себя пальтишко Шуйского и важно удаляется. За ним выскакивает Шуйский, срывает с крюка оставшийся балахон крупного Эбергардта и, утонув в нём, размахивая пустыми рукавами, убегает. Ни тот, ни другой подмены не заметили.
Среди педагогов, оказывается, они имели прозвище «бесполезных ископаемых».
На лекциях Шуйского мне тоже было не интересно. Не волнуют меня древние греки в его изложении…
Есть ещё Китайник Михаил Григорьевич. Лекции по фольклору. Я оказалась однажды в первых рядах, прямо перед кафедрой. Он говорит быстро, размахивает руками, а на меня падают брызги его слюны. Это я ощущаю всякий раз, когда появляется Китайник. Его я побаиваюсь.
Нет, не греет мне душу университет. Не понимаю я, чем провинился академик Марр и почему так важны работы Сталина по языкознанию, хоть и читает о них лекции один из любимых студентами Павел Акимович Вовчок.
А ещё старославянский язык, который читается сухо и формально… И множество других, таких же формальных дисциплин…
«Ненавижу всяческую мертвичину!»
Так почему же я не сбежала из университета? Тайком от родителей я написала уже письмо о переводе в Киев. Жду ответ.
А пока – ещё одно лицо. Я поняла не сразу, что означает появление на кафедре этой невысокой женщины в зелёном платье.
Но студенты всегда знают всё. Сначала по аудитории проносится гул: Анна Владимировна Тамарченко. Потом наступает глубокая тишина. Студенты ловят каждое слово: лучшая из лучших. «Введение в литературоведение».
Наука мне пока недоступна, но низкий хрипловатый голос Тамарченко, отчётливое ленинградское в отличие от московского «что», даже зелёное платье, отозвались в душе неясным эхом. И вот я среди тех, кто записался в её кружок. Помню, что готова была взять любую из предложенных ею тем и она, мягко усмехнувшись, сказала, что «первокурснику интересно всё».
Что потом было с этим кружком? Выбрала ли я тему?
Почему не довелось мне быть на её знаменитом спецкурсе по Маяковскому, куда сбегали от всех преподавателей студенты нашего курса в полном составе?
Нет, не ради одной науки судьба привела меня под своды этих широких и мрачных коридоров (теперь здесь СИНХ, по улице 8 Марта).
Она, а может быть, ещё, великая мамина Мечта – не отпустили меня никуда. Предопределённая свыше встреча состоялась.
Первые два курса промелькнули, не оставив от учёбы ярких следов. Кроме разве экзамена по латыни. Этот курс продолжался два года. Глубокий старик, мёртвый язык и такой страх перед экзаменом, которого у меня не было ни разу в жизни ни до, ни после! Запомнилось чувство: еду в трамвае и страстно хочу, чтобы трамвай перевернулся… Ну хоть что-нибудь случись! Пусть я лучше умру побыстрее, только бы избежать этой медлительной казни, этого позора – я не знаю латынь!
Эбергардт всё-таки внушал уважение: мне было стыдно! Но вот только сейчас по прошествии стольких даже не лет, а десятилетий, подумалось: он, наверное, не мог нас ничему научить, потому что и сам не знал эту латынь. Осталось что-то от старой гимназии… А теперь он уже в глубоком маразме. Как иначе объяснить, что я получила по латыни четвёрку?
Остальные экзамены не запомнились. Все идут по шаблону: сначала зубрёжка, потом лёгкий трепет перед входом в аудиторию, где идёт экзамен, подготовка, рассказ, оценка в зачётку – и ты на свободе. В университете я уже не была так увлечена учёбой, как в военные годы в школе.
Да и то сказать: одной истории КПСС, политэкономии, семинаров всяческих по трудам «классиков марксизма-ленинизма» было более половины от всей учебной программы, в которые я влюбиться не могла! А тройки получать не имела морального права перед семьёй.
Запомнилось: сижу в читальном зале, конспектирую работу В.И. Ленина «Что делать?» Передо мною вопросы к семинару. Какое это мучение – читать и ничего не понимать! Сколько ненависти в каждом абзаце! Сколько ничего не говорящих ни уму, ни сердцу имён политических и идейных противников!
И так все пять лет… А ближе к выпуску ленинская работа «Марксизм и эмпириокритицизм». Громятся один за другим Юм, Беркли и ещё десятки философов, политиков, экономистов! А мы не знаем и, главное, не должны знать, что думали, что говорили, что писали сами эти Юмы, Беркли и другие. Они не правы, и всё тут!
Помню, грызли мы, грызли эту работу, я оказалась почти самой натасканной, потому что экзамен сдала благополучно, а вот многие нахватали за эту работу троек. Тройка не давала в наше время права на стипендию.
На лекциях политического и философского профиля, от которых остался унылый и тусклый свет, сумел выделиться своими шоу только один – Лев Наумович Коган. У многих студентов он имел успех: умён, начитан, остроумен, Дон Жуан. От себя добавлю: развязен. Циник. У начальства в фаворе.
А вот Борис Фёдорович Загс, читавший нам курс зарубежной литературы, да так читавший лекции о Шекспире, что в перерыве студенты в слезах лежали на столах – оказался начальству не по вкусу.
Это единственная история травли прекрасного специалиста, которая протекала на моих глазах. Сначала его перевели в Институт иностранных языков – и тогда наши студенты побежали на его лекции туда.
Потом и оттуда убрали, назначили директором школы. В последние годы понизили до рядового преподавателя…
Он имел феноменальную память, помнил всех своих студентов, всех учеников. Маша Козлова пришла к нему как-то в школу по делу (он был ещё директором), и он, взглянув на неё, спросил: «Ваша фамилия Крутикова?» Это через много-много лет. Я не знала об этом его свойстве и, встречая его в Белинке, всегда прошмыгивала мимо.
Я заболела в университете застенчивостью, мне он казался недосягаемым. А поздоровайся я тогда с ним, вдруг он заговорил бы со мной? Нет, это слишком! Так что я впадала в столбняк от великого почтения, даже благоговения от его неординарной личности. Себя я считала серенькой, случайной в яркой толпе разнообразно талантливых студентов на нашем курсе. А если бы он помнил меня, то как мог оценить моё поведение: прошмыгну и не поздороваюсь даже! А если я обидела его – и не раз? Утешаюсь мыслью: может быть, всё-таки он понимал, что есть такая форма чистого поклонения, как полное молчание?
Борис Фёдорович! Знаю, меня сочтут за «чокнутую», но я верю, что Вы чувствуете моё раскаяние. Поверьте, я храню в душе моей тот след, который остаётся от встречи с благородным человеком. А Вы были для меня живым представителем мировой культуры, как же мне совсем-совсем юной, не робеть было перед Вашей эрудицией, Вашей начитанностью, Вашими знаниями. Ведь и своё увлечение литературой я тоже хранила в тайне.
Если же всё-таки я сумела обидеть Вас – простите меня: я знаю, Вы всё это слышите сейчас, и рада снять недоразумение.
Идёт 1951 год. Я осталась в университете, втянулась в учебную рутину. Душевная смута долго ещё не отпустит меня. Особенно трудны были в этом смысле первые два года.
Но вот летом, после 2-го курса, я по тур-путёвке впервые в жизни одна еду на Кавказ. Трудно забыть этот водопад ярких, разнообразных, радостных впечатлений: сколько новых встреч, знакомств, дружб…
Москва. Семейство Козловых. В тот раз дома был только отец и трое его сыновей. Узенькая длинная комната. Единственный диван. Но как они заботились обо мне, как опекали. Старший из сыновей Саша возил меня по Москве… Они проявили такую сердечность, что на долгие годы, да что там! – на всю жизнь стали почти родными для всей нашей семьи. И брат, и отец, приезжая в Москву, всегда шли к Козловым.
Майкоп. Добираюсь с пересадкой до места, откуда начинается наш маршрут. Гидом на этот раз оказался светловолосый мальчуган Женя, который до самого вечера показывал мне свой город. Запомнилось его выражение: «Я помесь негра с мотоциклом!» Откуда он возник? А из воздуха! Вся поездка – цепь, на которую чудеса нанизывались, как жемчужины.
И вот он, величественный Кавказ. Из глубины, из центра Кавказских гор, через хребты и перевалы идём к Хосте. Белоснежные ледники. Хмурые. Молчаливые леса, пышная тропическая растительность и в довершение ко всему – море!
Туризм тогда только-только начинался.
Сколько добрых, сколько весёлых лиц, сколько песен у костра, сколько смеха! Долго буду помнить и душистые луга, усыпанные цветами, и висячие мостики через грохочущие горные потоки, и скалы, нависающие над нами, и небо!
Вот, наконец, Хоста, потом Сочи, сказочный дендрарий… У меня сохранились фотографии от этой поездки.
Небо щедро вылило на меня тогда несколько ушатов праздничного неподдельного счастья! Душа окунулась в животворящий котёл и вынырнула из него обновлённой.
В поезде на обратном пути встреча с Рафиком. Стояли у окна, говорили обо всём. Успела узнать: армянин, женат, учится в аспирантуре в УПИ. Я больше не встречала его никогда. Этот Рафик на оставшиеся три года в университете был главной причиной того, что ни один мальчишка не сумел ко мне подступиться. Главное его достоинство – недосягаем! Судьба берегла меня от заземлённости и всегда – от пошлости. Рафик стал моей тайной. О нём не знал никто.
Перелом в учёбе наступил на третьем курсе. После каникул состоялось курсовое собрание, все делились впечатлениями. Выступала и я, рассказывала о музее Н. Островского в Сочи. Присутствовал на нём наш куратор Григорий Евсеевич Тамарченко. (Кураторами были оба супруга: и Анна Владимировна, и Григорий Евсеевич. Но в этот раз был только он.)
Вскоре после собрания помню наш с ним разговор в тёмном коридоре на втором этаже возле лестницы. У меня вырвалось отчаянное: «Григорий Евсеевич, оказывается, я ничего не знаю!» Это «открытие» я сделала, вернувшись из поездки. «Как сон пустой» прошли два года. Мне казалось, мои однокурсники ушли далеко вперёд… У нас была целая толпа отличников, но я утратила здесь этот статус и смотрела снизу вверх на Валю Догмарову, на Лёлю Логиновскую, на Милу Левину, на Надю Зеленскую, на Розу Подольскую… Все они казались мне очень умными, до них и рукой не дотянуться…
И тогда, у лестницы, Григорий Евсеевич рассказал о себе, как он, даже не закончив семилетку, поступил в ЛИЛИ (Ленинградский институт литературы и искусства), потому что друзья его старшего брата Давида занимались литературой. Он вспоминал, как ему было трудно, какое чувство горечи и печали пережил он на первых порах – и закончил: «Но теперь я сумею узнать всё, что захочу!»
Очень важный для меня разговор. Ни Григорий Евсеевич, ни я не подозревали, к каким последствиям он приведёт.
Я «включилась», наконец, в учёбу. Жизнь полна до краёв. Утром ежедневные лекции, после них – занятия в читальном зале университета, в Белинке, а по вечерам и в паузах между учёбой либо ко мне приедет кто-нибудь из друзей, либо я еду к ним в УПИ.
Дружба, родившаяся в 10-м классе, развернулась на все пять лет учёбы в вузе. Она была для меня настоящей «отдушиной».
Наша компания – система открытая, в неё постоянно вливались новые люди и застревали в ней. «Заводилами» были мы с братом Геннадием. Нам было от восемнадцати до двадцати четырёх лет, пока «кипела» эта молодость.
Постоянно рождаются новые идеи, планы, а сколько путешествий! Вернувшись с юга, я «заразила» туризмом многих на нашем курсе и за его пределами. Почти каждую субботу-воскресение – походы, и в дождь, и снег… Потом к нам примкнут ребята из УПИ.
Что мне дало общение с этими юношами? Я научилась видеть в них таких же, как мы, людей. Ведь, начиная с 5-го класса, мы учились в женской школе, и мальчиков надо было открывать заново. Никогда-никогда я не смотрела на них, как на «женихов» и тем более как на «любовников».
Товарищество! Какое магическое слово! Гена Семёнов, Гера Ярцев, Виктор Рябов, Слава Рябов, Володя Дударев (пусть земля ему будет пухом), Рита Татаурова, Ира Федодеева, Борис Сторожев… и много-много других.
У дружбы, у товарищества особая аура, особая форма неэгоистической любви. Её не следует путать ни с чем!
Студенческое братство! Я верна ему и сегодня! Я счастлива, что у меня это было. Это навсегда.
Отношения с мальчиками чисты, целомудренны. С ними можно говорить обо всём: о смысле жизни, о самом важном, о самом главном.
Вскоре у меня появится отдельная комната в этом же доме, письменный стол, старинный диван, книжная этажерка, оставшаяся в память о Люде, её настольная лампа с белым абажуром.
Господи! Как, в сущности, мало нужно человеку, чтобы быть счастливым!
Помню, мне стало жаль мальчишек, которые в УПИ лишены литературы так же, как меня в УрГУ лишили любимой математики. Первое время я бегала к Марии Николаевне, у которой всегда припасена заковыристая задачка, и каждый раз уходила от неё довольная своим решением.
Собираясь у меня, мы часто читаем вслух. Запомнилась почему-то одна «Олеся» Куприна.
Я до смешного щепетильна в вопросах преданности нашему товариществу.
Однако кончилось тем, что почти все мальчики нашей компании объяснились мне в своих чувствах, а все девочки влюбились в Геннадия. Там дошло даже до драм.
Виктор Рябов слыл эрудитом. Молчалив, улыбчив, невысокого роста. Зачастил как-то он к нам домой – и всё один.
Однажды попросил налить в стакан воды.
«Тебе сейчас будет дурно!»
Налила.
«Я люблю тебя», – выпалил он и сам выпил воду.
Он и не подозревал, как «обидел» меня: мало ли кто мне нравился?! Например, Рафик! Да и вообще, в те годы мне постоянно кто-нибудь нравился. Однажды выяснилось, что я «влюблена» в пятерых! Так что теперь, предавать друзей?!
Пришлось Виктору выслушать мою длинную проповедь о святости товарищества, о верности, дружбе и т. д. Но он ещё долго донимал меня письмами, стихами, а однажды, провожая меня (я ехала к тётке через лесок), он после моего ухода почему-то упал в снег и отморозил руки. Мы навещали его в больнице, я маячила где-то сзади, считая себя виновной в его болезни, но оставалась непреклонной.
К счастью, он вскоре переключился на другую девочку из нашей компании.
Слава Рябов, его брат, объяснение мне вручил в «письменном виде». Ответа не получил. Мы продолжали общаться как ни в чём не бывало.
Женился он на практике. Пришёл в общежитие, взял чемодан и объявил: «Ну, ребята, я пошёл. Я женился».
Девушка после института томилась в захолустье. Слава увёз её сначала в город, а потом – в Израиль.
Володя Дудырев, оказывается (я через много лет узнала это от Ирины Федодеевой), на день рождения подарил мне картину: на лесной полянке молоденький солдат в гимнастёрке и девушка, а под нею слово «объяснение» мне, как оказалось. Но узнала я об этом через несколько лет. Улыбаюсь и сейчас. Объяснение у нас состоялось у Главпочтамта, и Володя рассказывал мне о Лёне Шапкине. На практике Лёня спал и по ночам во сне называл моё имя, а днём над ним посмеивались ребята, и он стал на ночь бинтовать зубы. Володя предупреждал меня, и я устроила с Лёней разговор о том, чтобы он ни на что не надеялся. Что я ко всем отношусь одинаково.
– Неужели ты так же до двенадцати часов ночи можешь гулять ещё с кем-то?
– Конечно.
Но Лёня жил рядом с тем корпусом, где должен был жить Рафик. И я втайне надеялась, что, хотя бы издали увижу его. О Лёне мама говорила: «Он ходит за тобой, как нитка за иголкой»…
Но ни братья Рябовы, ни Володя Дудырев, ни Лёня Шапкин, ни Андрей Вострецов (хотя одно время мы были чуть ли не «помолвлены»), ни Вася Подкин, и не много-много других не стали для меня никем, кроме товарищей. Все они, по удачному выражению Ольги Ивановны Марковой, «были для меня «как подружки». И всех друзей я любила, но любовью вполне земной, хотя чистой и родственной даже. Но не к замужеству я стремилась, не к созданию семьи. Мне нужна была Единственная моя любовь особенная. Та, о которой уже написал Куприн в «Гранатовом браслете». «Наполеон в любви», – скажет о повести Феликс Вибе.
Хорошо помню особую тональность, серьёзную торжественность, когда я отчётливо сформулировала «установку» на своё будущее: «Замуж не выйду, но ребёнок у меня будет. А семья уже есть». Это я говорила своей однокласснице Ольге Размахниной, которая как-то ночевала у нас. Помню эту пророческую интонацию даже сейчас и недоумеваю: откуда это предчувствие? Да, всю жизнь я хотела посвятить маме: слишком важна, слишком прочна, слишком глубока моя к ней любовь.
И, если правда, что «женщины любят ушами», то мне грех жаловаться на мужчин: они не обошли меня своим вниманием.
Помню, пришла мне в голову мысль – вспомнить свои «романы». Я насчитала девяносто: и безответные, и отвергнутые мною, и взаимные. О некоторых случаях, особенно трагических, я должна буду рассказать.
Придёт моя любовь в свой час. Грозная, всемогущая, волшебная. И вечная. Любовь – трагедия. Любовь – тайна. Любовь, о которой сказано «сильна, как смерть».
Как таинственна жизнь: пока мы учились, пока дружили и влюблялись, миллионы ни в чём не повинных людей в это же время оцеплены колючей проволокой ГУЛАГа, а Даниил Андреев во Владимирском политизоляторе уже писал «Розу Мира». Вот и оспорь существование параллельных миров, которые даже не пересекаются между собой.
Глава 5. Анна Владимировна Тамарченко (в девичестве Эмме)
(13.08.1915 – 05.07.2015)
Ум, который един с сердцем,
считается великим, потому что он
генерирует золотые идеи.
Свами Чидвиласананда
С глубоким волнением, приступаю я, наконец, ко второй, Главной части моей «Исповеди».
Итак, 1949 год, УрГУ им. А.М. Горького, филфак.
В этом хмуром и неуютном университете мне приготовлена встреча, которая навсегда изменит мою жизнь. И не только мою.
Анна Владимировна Тамарченко.
Учитель! Какое великое Слово!
Вот что говорят о ней её ученики.
Роза Подольская, моя однокурсница: «Невысокого роста, стройная, с узенькой, как отточенная рюмочка, талией, – её не назовёшь красивой…
И сейчас вижу… Стоя на кафедре, она протягивала правую руку вперёд и улыбалась, будто любуясь новым открытием на своей ладони. Открытием по Маяковскому.
Поражал контраст между хрупкой внешностью и властью её голоса, низкого, с хрипотцой, прокуренного.
Каждое появление Анны Владимировны, каждое её слово, фраза, каждая лекция превращали нашу жизнь в праздник».
«Она влюбила меня в Маяковского», – говорила Роза.
Юлия Матафонова – журналист газеты «Уральский рабочий»: её статья «Льются с этих фотографий миллионы биографий» опубликована 23 апреля 2002 года.
«Войдя в аудиторию и удобно расположившись на кафедре, она окидывала взглядом присутствующих и сразу непостижимым образом брала их в плен. Дальше шёл монолог, словно обращённый к каждому.
Многие из учившихся у Тамарченко с гордостью причисляют себя к числу её учеников. Педагогов такого качества запоминают на всю жизнь».
Феликс Вибе – журналист, член Союза писателей, напишет ей в письме…
«Дорогая Анна Владимировна, я Вас просто любил. Я Вас полюбил на Ваших лекциях и за Ваши лекции. Это было прекрасно! Сегодня мне не восстановить в деталях и фразах Вашей, например, лекции о «Тихом Доне», но я помню чувство беспредельного моего восхищения Вашим тончайшим искусством соединения образа и мысли, рассказа о Григории, Аксинье и прочих героях и одновременного анализа всей книги и творчества самого Шолохова. Этого я в своей жизни до Вас никогда не слыхивал и такого счастья единения с великой русской литературой не ощущал. Спасибо Вам за это! Через годы – спасибо! Ваши лекции тогда я просто впитывал и однажды, когда кто-то из однокурсников огорчился, что не мог быть на Вашей лекции, я пересказал ему её из слова в слово. Вот на что способна любовь!
Анна Владимировна, университет всегда на бытовом, так сказать, уровне представляется большим скоплением студентов и преподавателей. На самом деле университет для каждого отдельного воспитуемого – это всего лишь один или два настоящих лектора-педагога. Вы для меня были Университетом номер один. Вы олицетворяли его полностью и всю жизнь, произнося слово «Университет», я представлял Вас и только Вас. И, несомненно, что далеко не я один так думаю и чувствую, и поэтому «во дни сомнений и тягостных раздумий» Вы должны отгонять от себя беспощадно любые грустные мысли. Ваша жизнь прекрасна»…
«… И любопытно, знаете ли Вы сами тайну своего волшебства? Предполагаю, что не знаете. Уж слишком много от Бога».
5.1 Продолжение. Университет. В. Исаева
Университетская жизнь многогранна. Я по-прежнему интенсивно общаюсь с друзьями, количество которых растёт неудержимо, одолеваю семейные катаклизмы (отец, вернувшись из плена и после фронта, долго и по-страшному пил), учусь с подъёмами и спадами, как блуждающая комета, переходя от одного преподавателя к другому: побывала в кружке Г.Е. Тамарченко по Чернышевскому, писала курсовую работу с В.В. Кусковым, брала какую-то тему по языкознанию… а зачёты и экзамены сдаю механически…
На поточной лекции по зарубежной литературе, которую читает после Загса Давидович, произошёл неожиданный инцидент. У лектора Давидович выпала вставная челюсть. На пол.
Молниеносно вскочил галантный Ермаш и предупредительно передал её преподавательнице. Она, отвернувшись к стене, вставила её и… продолжила лекцию.
Оглядываясь назад, вижу в нашей студенческой аудитории целую армию будущих идеологических работников. Основная масса, конечно, рядовые этой армии: преподаватели, артисты, библиотекари, творческие работники… Но немало и партийных руководителей: секретарей райкомов, работников обкомов и даже ЦК КПСС.
Так, бывший секретарь Свердловского обкома КПСС Кириленко будет переведён в Москву в ЦК КПСС, и туда же он возьмёт «своих» людей из Свердловска: Ермаш в отделе культуры ЦК КПСС будет курировать советский кинематограф, а Юрий Мелентьев, который постоянно торчал на нашем курсе: он историк, а его пассия Валя Качаева – филолог, после недолгого пребывания в ЦК КПСС будет назначен Министром культуры РСФСР и пробудет на этом посту не одно десятилетие.
Но это будет много позднее.
Так как я горожанка, то живу дома, а не в общежитии. Поэтому меня почти стороной обходят ежедневные страсти: у кого-то украли духи, у кого-то – перчатки, четыре года на курсе орудовал «вор», четыре года курс лихорадило: каждый день нервы, крики, слёзы. Дошло и до обысков…
Мы с Веркой Исаевой собирались сбежать с какой-то лекции, чтобы попасть на очередной фильм по Мусоргскому. Но, к счастью, преподаватель вошёл в аудиторию раньше, и мы остались.
В этот день обыскивали каждого. Представляю, что было бы, если бы удалось сбежать. Гнусная эта история закончилась разоблачением Вали Яковлевой, она была агитатором и одной из самых модных девушек. Она организовывала «разборки», «обыски» и т. д. Какая-то иезуитская психология: мало украсть – надо ещё и насладиться своею властью над собственными жертвами. На общее собрание прибыл её отец. Им оказался Первый Секретарь обкома КПСС г. Прокофьевска. Дочь его исключили из университета, и они благополучно отбыли домой.
Проводились разные собрания на курсе. Тема одного из них – «сожительство» Фаи Апелевич и Вовки Житникова. Помню пламенную речь Б.Ф. Загса, который рыцарски защищал женщину и всю «непомерную вину» взвалил на Вовку.
Эти страсти на курсе меня задевали мало. Я жила в ином «измерении».
Разные люди на нашем курсе, он большой, шестьдесят человек. Учатся вместе с нами и несколько иностранцев – румыны и венгры.
О нашем курсе говорят: «самый талантливый».
У меня сохранилась старая тетрадь с набросками об одной такой талантливой моей соученицы – Вере Исаевой. Сохранилась частично и переписка с нею. Вот некоторые отрывки.
Лекция. Передают записку: «Валька! Мусорянин сегодня на Сортировке. Пойдёшь?» Оборачиваюсь, ищу глазами поверх склонённых над конспектами голов Верку, киваю: «Пойду. Смогу».
…Мокрый асфальт, тёмные лужи, уютные вечерние фонари. Наконец, нашли низкий деревянный клуб, входим в прохладное пустое фойе с грубо сколоченным потолком. Клуб летний: двери, полы, стулья скрипят и громко хлопают, как из пугача.
Сели. Расстегнули пальто, устроились и замерли: погас свет, полились волшебные звуки… В тёмном зале началось чудо – идёт фильм «Композитор Мусоргский». Верка смотрит этот фильм девятнадцатый раз. Мусоргский покорил её сразу, она смотрела его ежедневно. Сначала фильм шёл в центре, потом пришлось ездить по районным Дворцам Культуры, теперь он идёт на окраинах.
Она влюблена в Борисова, исполнителя главной роли. Она следит за всей текущей периодикой, читает газеты и журналы. О фильме и о самом Борисове она прочла всё, что было опубликовано в те дни. Книгу Борисова «Из творческого опыта» она купила даже в другом городе.
Когда в доме появится радиоприёмник, она начнёт охотиться за программами радиопередач. Покупает газеты с ними всегда в одном киоске возле Главпочтамта. Раскупали их быстро, и она, если это совпадало с занятиями в университете, уходила с лекций.
Тщательно, красным карандашом, она отчёркивала и «Картинки с выставки», и «Хованщину», и «Блоху», но особенно счастлива была, когда встречала «Бориса Годунова», оперу эту она знала наизусть и могла спеть её от начала до конца.
Всё-всё только о Мусоргском!
Всё, что не Мусоргский, безжалостно отвергнуто. Других имён она слышать не хочет. Зазвучи при ней прекрасная симфония другого автора – она становится для неё просто глухой.
Но вот перед ней письма самого Модеста Мусоргского. Она читает их по вечерам за столом, освещённым настольной лампой. А он, её кумир, называет разные имена. Модест обмолвился об «Осенней песне» Чайковского. Верка мчится в магазин грампластинок и слушает чарующие звуки «Баркароллы» и «Осенней песни»…
Так же бурно, как отвергались, теперь возносятся они один за другим. Зазвучали для неё и божественный Бетховен, и изящный Берлиоз, и Масснэ, и Лист, и Григ… и Глинка, и вся «могучая кучка».
Мусоргский распахнул перед нею Мир большой Музыки.
В летние каникулы она поедет в Москву – там, в Третьяковской галерее, репинский портрет Мусоргского, и сразу после Москвы – в Ленинград: поклониться священному для неё клочку земли, могиле Мусоргского.
Мусоргский! Везде Мусоргский!
У неё нет ни товарищей, ни подруг. Она не бывает ни на студенческих вечерах, ни на танцах. Она смеётся над жалкой, мелкой любовью однокурсниц. Только Мусоргский!
В душе её горит словно могучий огонь, он гудит упруго и грозно, он требует пищи каждый день, каждую минуту! И она достаёт её: книги, заметки, пластинку, новое фото, незнакомую строчку, письмо…
Сегодня она в филармонии – «Картинки с выставки», завтра – в оперном театре – «Борис Годунов». Послезавтра в назначенное время сидит у радиоприёмника и ловит звуки оркестра… Она изобретательна до изумления!
Балакирева в фильме играл Балашов. Она читала и смотрела всё о Балакиреве и Балашове.
Она прочла все мемуары, все воспоминания, всю переписку Мусоргского и о Мусоргском, а его письма к Стасову знала почти наизусть.
У неё несколько папок с газетными вырезками, фотографиями, блокнотами с текстами песен и романсов… Они уже распухли. На полке тесно…
Но вот пожар отполыхал: всё, что звало, пленяло, манило неизвестностью – знакомо наизусть. На месте костра – пепел.
Вера от Анны Владимировны слышит на лекциях о Стендале: «У него, как и у Маяковского, своя философия любви». Он единственный написал «Трактат о любви».
Занимается новая «эра». Стендаль!
Едва ли мог бы поверить Стендаль, что его книги будут прочитаны с таким пылом, с такой жадностью, с такой страстью.
О, какой волнующий, какой таинственный и упоительный аромат доносился ночью в тихой комнате в светлом круге настольной лампы от этой дивной книги!
Первые страницы.
Первые слова! И мысли!
Незабываемые минуты счастья!
Появилась новая тетрадь с выписками из Стендаля – полка с Мусоргским сдвинута вниз.
Романы Стендаля! Его письма! Дневники! Записные книжки!
Целые ночи блаженства и счастья, глубокого, захватывающего, высокого, самозабвенного!
Старое издание, покрытые пылью зелёные с чёрным тома, пожелтевшие страницы, отдающие стариной…
И вдруг эти жёлтые страницы заговорили огненным языком и душа, такая близкая, такая родная, забилась на этих листах.
Какое счастье – целых пятнадцать томов!
Но нигде, ни в областной библиотеке, ни в одной крупной, ни в одной самой маленькой из библиотек – не было седьмого тома. А в нём «Трактат о любви».
Но зато была Аня – милая библиотекарь в уютном овальном читальном зале ДК им. Андреева. Она всегда приветлива. Высокая, смуглая, много старше своих необычных читательниц. Тонко, со значением, улыбается, когда они приходят, немного сумасшедшие, но очень уж любопытные!
Умная, спокойная, великодушная, она достала седьмой том в библиотеке Консерватории. То же самое старое издание. Потрёпанный томик. Жёлтые страницы.
А тут – О святой Патрик! Фильм «Пармская обитель».
И повторились, как с Мусоргским, ежедневные богослужения. День как-то надо прожить, а вечером – встреча в тёмном кинозале с любимыми героями. О Джина!
Не успела остыть – снова ошеломляющая радость: фильм «Красное и чёрное». И снова Жерар Филипп.
А тут ещё «Этюд о Бейле» Бальзака.
И вскоре затем «Три цвета времени» Виноградова!
Знал ли при жизни Стендаль такую взаимность, такое понимание, глубокое и искреннее?
Но спустя два века какая-то русская девочка, никому неведомая, незаметная, ничем не примечательная, была счастлива им. Им и больше никем другим.
Это он, Стендаль, музыку воспринимал, как она…
Это он, хотя сам уже не мог никогда вернуться на этот «клочок неба, упавший на Землю», открыл ей итальянскую, да и вообще всякую живопись…
Это он… он… он…
Удивительное качество, удивительное свойство – ещё вчера она была слепа, была равнодушна и, глядя на картину, не видела её. И вдруг эти картины задышали и живым, сильным чувством ранили её так больно!
К каждой картине, о которой он напишет, она будет подходить теперь с суеверным трепетом.
Она не может поехать в Италию. Слишком сильна и слишком необычна мечта!
Но опять Аня.
Перед нею толстые фолианты альбомов, книг, папок с репродукциями картин Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Корреджо. Аня имеет это богатство в своих шкафах.
Дни, недели, месяцы в свои интимные вечера она созерцает их шедевры. Каждая деталь, мельчайшие оттенки прочувствованы, пережиты, изучены…
О Вере я написала в третьем лице, а надо бы писать во втором. Не она, а МЫ. Я была больна Стендалем глубоко и долго. Здесь мы вместе.
На очереди «Кармен», фильм с Жаном Марэ. Стендаль забыт.
«Кармен» Мериме.
«Кармен» Бизе.
Аня поможет достать кинокадры (договорится с киномехаником) и фотографии.
Фото Жана Марэ с огромными печальными глазами. С болью, со скрытой мукой смотрит он прямо на неё, и спазм восторга сжимает горло.
Тема смерти…
«Кармен» мы смотрели четырнадцать раз.
Поразительная, редкая способность концентрации в самоотдаче… И такая же поразительная способность закрываться наглухо для прошлого…
Перешагивать через него.
Каждое новое увлечение отменяет прежнее.
Будут потом и Уолт Уитмен, и Микеланджело, и «Идиот» Достоевского, и Пастернак, и Блок…
Ни Уитмена, Пастернака, ни Блока я что-то не припомню на лекциях. Тогда на авансцене «лакировочники»: В.Н. Ажаев «Далеко от Москвы», В.К. Кетлинская «Мужество», С.П. Бабаевский «Кавалер Золотой звезды».
Настоящие сокровища мы открывали не столько в официальной атмосфере университета, сколько в личном общении. Так прочитаны, наряду с классикой, А. Твардовского «Тёркин на том свете» (общая тетрадь от руки), поэмы и стихи Э. Коржавина и многое ещё.
Подлинное рыцарство Духа воплотилось в конкретного, реального, живого учителя литературы. Читай: жизни!
Наконец-то!
Однажды произошло событие, для описания которого есть уже готовое выражение: «Гром среди ясного неба».
В некий утренний день уже, видимо, на 5-м курсе перед студенческой раздевалкой в толпе студентов ко мне подошла Анна Владимировна и предложила писать у неё дипломную работу по Маяковскому. Тут самое время помолчать!
Консультации проводились на дому у преподавателей. Этот дом стоит на прежнем месте: улица 8 Марта, №3. Не дом это вовсе, а живое, одушевлённое существо, к которому я много раз приходила позднее, чтобы зачерпнуть из прошлого глоток чистого кислорода. А тогда я попадала под «ток высокого напряжения» в самом начале улицы, ведущей от площади 1905 года к их двухэтажному особняку. Они жили на первом этаже. Слава Богу, рядом часто была Верка Исаева, она тоже писала о Маяковском.
Верке повезло больше: она и спецкурс прослушала, и с удовольствием работала над отдельными его стихами. Писала она о юморе Маяковского. Её талантливая дипломная работа до сих пор стоит на моей полке.
Верке я всегда буду благодарна: она стала тем громоотводом, который принимал на себя мощь энергетических разрядов от Анны Владимировны, которые могли меня тогда просто испепелить.
Мы вместе идём на консультацию… Приближаемся к дому… У меня от волнения подкашиваются ноги, сердце – в горле. Вот и дверь в небольшой коридор, в углу ларь. Входим во внутренний коридор, слева первая дверь в их квартиру, стучим. Я уже на грани обморока. Нам открывают. Мы входим.
Кто лучше Пастернака может передать это состояние? «Я вздрагивал, я загорался и гас… Я трясся – я сделал сейчас предложение…»
…Надо Верке отдать должное по части изобретательности. Прихожу как-то в их узенькую, как траншея, комнату на троих. Перед окном часто маневрирует какой-нибудь товарный состав. Напротив, через площадь, – вокзал. Теперь там здание гостиницы «Свердловск». На месте Веркиного дома – ресторан. А пока…
Верка заняла место у окна. Там стол, слева тумбочка и полка с книгами! Тут же радиоприёмник.
Чистота в доме стерильная. Нигде ни пылинки.
В этот раз вижу на тумбочке большую стеклянную банку, в ней ворох голых веток. Ещё зима. И Верка решила ускорить приход весны. Какое там дерево? Может быть, берёза? Или верба? Не важно… Уже намечаются почки. А когда почки лопнут и всё зазеленеет, можно будет отнести их к Анне Владимировне или просто следить каждое утро за процессом не просто распускающихся листочков, а по аналогии – за раскрытием и ростом внутреннего чувства. К Анне Владимировне.
Вера в отношениях с Анной Владимировной лидирует. Я признаю её превосходство, я ей благодарна. Ревности у меня нет. Мне больше подходят вторые роли. Тут можно затаиться, уйти вглубь.
Иногда я веду себя непредсказуемо. В доме Тамарченко мы появляемся всё чаще. Однажды пришёл свежий номер «Нового мира». Впервые опубликовано ранее не печатавшееся стихотворение Маяковского. Анна Владимировна начинает читать его вслух.
Не помню, что это был за стих, но и сейчас в ушах её голос, её неповторимая интонация. Внутри происходит что-то совсем мне неподвластное. Чувствую – физически! – как растёт, увеличивается в объёме моё сердце, ещё… ещё… Это причиняет настоящую боль… Боль становится непереносимой…
Но странная какая-то боль. Ещё немного этой боли-экстаза – и сердце моё не выдержит, лопнет! Я выскакиваю из-за стола, не дослушав стих и плача, бегу в один коридор, в другой, на улицу, за угол… Рыдая, забиваюсь в чужой подъезд и даю волю слезам. Я плачу долго, потом начинаю всхлипывать… потом медленно успокаиваюсь – и иду назад.
Прихожу, сажусь. Никто не проронил ни слова.
А Вера неутомима в изобретениях. О «грандиозных» событиях в университете знаем только мы двое: Вера и я – Анна Владимировна уходит домой! Мы с Веркой стремглав несёмся на маленький балкон прямо над входом в здание университета. Мы провожаем её взглядами до самого угла, а потом, перепрыгивая ступени, мчимся на третий этаж, пробегаем длинный коридор и выскакиваем на большой балкон, выходящий на магистральную улицу 8 Марта. Анну Владимировну ещё видно. И мы стоим, вбирая в себя это видение, пока она не сядет в трамвай или не скроется за поворотом.
В такое же громоподобное событие превращается и другой эпизод: Анна Владимировна подошла ко мне в коридоре и сказала несколько фраз! Теперь этим можно жить целую неделю.
Верка объявляет, что мы должны подарить Анне Владимировне розы. Она прочла где-то, что «роза – королева цветов». Но роз ещё нет в городе: ни в магазинах, ни на рынке, ни в дендрарии – нигде! Это сейчас цветы на каждом углу! В наше время купить розы было проблемой.
И начался наш многодневный марафон по всем возможным адресам. Ни на что меньшее, чем розы, мы не согласимся. Каждый день преодолеваются немереные километры… Назавтра всё повторяется… Идут дни за днями… Верка новыми туфлями содрала себе кожу на пятках, там кровоточат раны, она хромает… И вот, наконец, о чудо! – в наших руках розы!
Каждый раз. Покупая для Анны Владимировны розы, я помню те, первые! И с благодарностью думаю о той, прежней, Верке…
Близится время защиты диплома.
Идёт защита. Выступает моя рецензент, преподаватель советской литературы из Пединститута. Она дала мне такую высокую оценку, что не могли поверить своим ушам не только я, но и мои руководители. Анна Владимировна, радостная, прибежала поздравить меня, но меня это ничуть не утешило: сама-то я ценила её совсем иначе…
Университет окончен. Позади государственные экзамены, защита диплома… Выпускной вечер. Ода В. Житникова. Грустно… Ну, сидели в огромном зале, ну, произносили тосты, ну, гуляли всю ночь по городу – зашли даже к Кусковым! От нашего курса Анне Владимировне подарили терракотовую китайскую вазу.
О той вазе нужно будет рассказать особо.
Не помню себя, не помню толком ничего. Запомнила только полянку в Зелёной Роще, где мы присели, наконец.
Слышу: «О подвигах, о доблести, о славе»… Анна Владимировна читает стихи Александра Блока. Вот это от выпускного вечера осталось, запомнилось крепко.
Блок долго ещё будет оставаться «запрещённым» поэтом. Это Имя я впервые услышу здесь, на нашем выпускном вечере.
До отъезда на Дальний Восток, куда нас пошлют по распределению, мы с Веркой сумеем достать по толстому синему однотомнику Блока, который будет сопровождать нас не только десять дней в пути на Восток в поезде, но и в течение всей жизни, так как мои главные университеты только начинались.
Глава 6. Первый ученик
Начало самостоятельной жизни
Комсомольск-на-Амуре
Все страны мира граничат друг с другом, а Россия граничит с Богом.
Рильке
Поезд на Дальний Восток шёл тогда десять суток. В плацкартном вагоне (нас направляли в железнодорожные школы) все перезнакомились.
За окнами вагона – Сибирь… Долго объезжали Байкал. Но запомнилась – особенно! – Барабинская степь. Нигде ни души… За весь день не увидишь никакого человеческого жилья.
Сколько же тут простора!
Мы видели его своими глазами. И никогда позднее не могли поверить тем, кто считает Землю тесной и призывает сократить численность людей на ней.
Пришла же шальная мысль об этом в голову Мальтуса, и более ста лет люди вторят ей.
А В.И. Вернадский наглядно объяснил ошибочность такого мнения: «Если всё человечество поставить впритык в одном месте, оно займёт территорию, равную одному Женевскому озеру». Мне доведётся побывать рядом с Женевским озером. Большое оно! Но всё-таки озеро, даже не море!
Наш Циолковский вообще утверждал, что на Земле должно жить более шести биллионов людей, то есть в несколько тысяч раз больше, чем сейчас. Об этом в вагоне тоже шли оживлённые разговоры.
Вдруг возглас: «Идите сюда: к противоположному окну! Сейчас вы увидите место ссылки М.И. Калинина!»
И мы увидели, как мимо нас проплыли пять вытянутых в одну линию русских деревянных изб. Мелькнули. «И поезд вдаль умчало». Опять пустыня и степь… Отсюда не убежишь.
В нашем купе постоянные гости. Мы вслух читали Блока. Свесившись со второй полки, я рассказывала что-нибудь о прочитанном. Помню один такой рассказ О. Генри о женщине, которая умирала, каждый день наблюдая за тем, как падали листья с дерева перед её окном. Она приняла решение: умереть в тот день, когда ветер унесёт последний лист. Но шли дни за днями, а лист не отлетал, он крепко вцепился в ветви. И женщина, потрясённая такой волей к жизни, выздоровела.
А лист этот был создан художником так искусно, что его нельзя было отличить от живого. Художник читал мысли умирающей, он любил её.
Один из солдат-новобранцев, татарин, сразу же вызвал меня в тамбур и сказал: «Выходи за меня замуж». Я улыбнулась: «Я ещё не знаю жизни, хотя очень люблю читать книги. Мне замуж рано»…
А один из пассажиров, ленинградец, скажет: «Обломают вам крылья там»…
Нет, не сумели!
Хабаровск. Нас направляют в Комсомольск-на-Амуре, там было два места: одно – в новой десятилетке, второе – в семилетке. Мы тянули жребий, и Верке досталась десятилетка, а мне – пятиклассники, русский язык, в семилетке. Всё по-честному.
Поселили нас в общежитии для машинистов: обе школы принадлежат железной дороге. В комнате нас трое, ещё химик из Пермского университета. В те годы почти все крупные города посылали на Дальний Восток выпускников своих университетов. Надо было отрабатывать три года.
Как прошёл наш первый год?
Что осталось в памяти от моих уроков? Полное бессилие угомонить подвижных, как ртуть, пятиклашек. До 4-го класса их вела очень сильная учительница, они хорошо знали русский язык.
У меня они ходили на головах и всё, что знали, стремительно теряли. Я учила русский язык вместе с ними. Запомнились и горы тетрадей, которые надо было проверять ежедневно.
Для этих малышей благом оказался мой отъезд (через год): после меня они попали в хорошие руки.
В нашей школе были две прекрасные учительницы, с которыми я подружилась. Говорят, в каждом из нас как минимум три человека: один плохой, другой хороший, а третий – самый ценный – наблюдатель. Если бы узнать об этом пораньше! Я записала бы и назвала бы сейчас их Имена! Но через полвека уже не вспомнить…
Одна из них – её-то класс я и унаследовала – однажды сама пригласила меня на свой урок.
В театры люди идут сотнями, в цирки – тысячами… А спортивные состязания на огромных стадионах!? А Олимпийские игры, за которыми следит весь мир!? Что привлекает к ним зрителей? Мастерство! Высокое искусство исполнителей!
Я на том уроке была единственным зрителем особого, уникального искусства – педагогического. Первый класс. Сорок пять человек. Разговора о дисциплине не возникает: все при деле, все вовлечены в увлекательнейшее занятие – в постижение родного языка.
Учитель – творец… дирижёр и одновременно исполнитель. Каждая деталь урока точна, на месте, продумана вся композиция, опрокидывающая формальную схему. Ночь напролёт она, скульптор, художник и композитор в одном лице, кроила, резала, клеила, красила – и вот на руках у каждого малыша какие-то яркие, волшебно-праздничные кубики, кружочки, квадратики, фигурки… Все сосредоточены. Вызов к доске воспринимается как награда, чуть ли не как вручение ордена. Все остальные повторяют на своём «рабочем месте» то, что происходит у доски. Это трудно пересказать. Это нужно увидеть хотя бы один раз в жизни своими глазами.
Можете вообразить класс, где все до единого учатся на «отлично»? У этого Мастера иначе не получится!
Я восхищена, но слышу от неё: «Никому не говори! Знают!»
Вот почему она появляется в учительской с каменным лицом: она жена репрессированного. Однако её не трогают: боятся гнева родителей.
Вторая, молодая, ведёт уже 4-й класс. И тоже – 100% отличников. Она попала сюда из Приморья, где директор превратил свою школу в гарем, а она не только не согласилась стать его наложницей, но даже в ответ на его домогательства запустила в него графином с водой. Как её потом «прорабатывали» на всех уровнях, могут представить только те, кто жил в стране «победившего социализма».
Меня она обучала: «Ты, главное, вовремя сдавай все бумажки: планы, ведомости, отчёты – что они требуют. Это нетрудно. Зато они отстанут от тебя, и ты вольна делать всё, что захочешь». Совет её помогал мне всю жизнь.
Как её любили ребята! Я побывала на её уроках. Стоит ей задать вопрос – и сразу лес рук! Все ей в рот смотрят! Какое счастье, что мой Генка Шараев попал в её руки. Она заочно окончила пединститут, и ей дали 5-6-е классы.
О той и другой в школе говорили шёпотом, не трогали, но и, разумеется, никогда не хвалили. А таким официальная хвала и не требуется. Они живы учениками!
Простите меня, дорогие коллеги! Одно могу сказать в своё оправдание: я создала авторскую программу по русскому языку, по которой не только молодых, но и стариков можно обучать грамоте. И посвящу её вам обеим, хотя и безымянным.
Я люблю небо. Но никогда Небо не имело надо мною такой власти, как в Комсомольске.
Стоило мне выйти из помещения, из школы, либо из общежития, оно сразу охватывало, обнимало меня со всех сторон. Не знаю, может быть, это какой-то особый оптический эффект местности: город лежал на почти круглой равнине, с противоположного к нам конца, охваченный серебристой подковой – то Амур катил свои свинцовые волны. И со всех сторон сопки, осенью живописно менявшие краски. Город – огромная чаша. А над нею необъятное небо. Неба было в том краю больше, чем земли. На него нельзя не обратить внимания.
Я ходила, постоянно задрав голову: такого разнообразия, такого богатства цветов и оттенков просто вообразить невозможно, и ни один художник в мире не сможет состязаться с тем невидимым творцом, который, как богатый юноша, постоянно обновляет свои наряды. Небо то бледно-лимонное, потом начинаются узоры всех оттенков жёлтого; а ещё нежнейшая прозрачная лазурь, по которой рассыпаны жемчужины облаков; в следующий раз оно сиреневое, а потом – это огромный алый занавес, живописные складки которого опускаются на Амур-сталь, ближайшее к нам промышленное предприятие.
Ничего подобного по живописности в природе не припомню.
Может быть, обилие этих богатых и праздничных красок объясняется близостью Тихого океана? Мерещилось: вон за той дальней сопкой сразу откроется безбрежный океанский простор…
В Комсомольск ко мне приедут мама с братом Володей. Я плюхаюсь с уроками, с тетрадями, но я опять настоящая: мама тут, рядом. Мы одно целое. Она быстро перезнакомилась со всеми, никем не гнушается: ни вахтёрами, которые часами хмуро сидят у входа, ни буфетчицами, ни единым человеком из персонала. Она сумела приручить всех. Теперь и меня узнают и тепло приветствуют. Маму развлекать не надо. Она постоянно в деле. А вот чем занят Володя? «Гуляли по городу, ходили в кино», – рассказал он.
Время пролетело мигом. Я опять их провожаю, они уезжают в Свердловск. Помню, я попросила маму перед нашим отъездом на Восток не плакать, ведь будет много провожающих. И она не проронила ни слезинки, а я, к собственному позору, ревела без удержу…
Потом она скажет: «Думала, я от ума отстану». И вот снова проводы. Я опять реву, она опять не дрогнула. Шла я обратно, спотыкаясь о шпалы, в слезах, и постигала разрывавшимся от Любви сердцем, какую Великую Мать послало мне Небо.
Я должна пройти через годы, через страдания, прежде чем смогу почувствовать, прежде чем начну понимать, что великий сценарий к изумительному явлению по имени «Жизнь» уже готов на небесах. И каждому отведена роль. Спустя десятилетия я буду получать указания для исполнения моей роли от самого главного режиссёра. А тогда я думала: «Какой же необыкновенной должна быть жизнь под таким прекрасным небом».
В конце жизни мама вспомнит о Комсомольске. Я рада, что она видела это Небо, которого больше нет нигде в мире.
Увы, Земля, воспетая Верой Кетлинской в романе «Мужество», по контрасту представила нашим глазам зрелище безобразное, отталкивающее.
Город строили заключённые.
Уже построены Амур-сталь, судоверфь, завод самолётостроения, а между ними – бескрайние пустыри, на которых там и сям виднеются огороженные «зоны», обтянутые колючей проволокой, с овчарками, с вышками, с часовыми… Вечерами к ним стекаются колонны машин с зарешёченными окнами. Это возвращаются со строек на ночлег армия бесплатных работников.
Многие зэки, выйдя на свободу, здесь и оседают, вокзал принимает толпы бывших заключённых, едущих домой (1955 г.). Помню один из таких «транзитников» попросил у меня разменять его крупные купюры на мелкие. Я отсчитала и протянула их ему, а он вдруг и говорит: «Вот только сейчас я понял, что я на свободе».
Зэки и в общежитии. Один из них забрёл в нашу комнату: она никогда не закрывалась. Лицо врезалось в память. Он читал наизусть из пятой главы «Евгения Онегина» сон Татьяны. Такого страстного, такого жгучего, такого личного отношения, когда каждая строка полна живым и никому из нас, слушавших, неведомым страданием, я, конечно, никогда более не встречу. Это не под силу ни одному в мире актёру.
Тут кончается искусство,
Тут дышат почва и судьба…
Этот человек побывал на дне Преисподней и обжёг нас близостью к ней.
Потом он добился разрешения приходить в свободное время в школу и часами музицировал в учительской, где стояло пианино. Затем – исчез…
Мы с Веркой привезли с собою огромный ящик её и моих книг. Целая библиотека самых любимых… Появились и читатели. Зачастил к нам Генка Шараев с карими глазёнками умного татарчонка. Этот народец мне знаком, мы подружились. Хотя на уроках именно он, Генка, «доставал» меня больше других. Он просто сидеть не мог без дела, а я что-то мямлила у доски…
Как тосковала я без литературы!
Забредали разные люди. Однажды появилась журналистка, тоже с Запада (так называли всех, начиная от Урала и дальше), и, потрясённая, рассказала о том, что она увидела «внутри» зоны. Оказывается, женщины и мужчины находились там вместе и после рабочего дня начиналось то, что в народе называют «свальным грехом»: в темноте они, не видя друг друга, ползали по телам, совокупляясь, скопившись в одну бесформенную кучу. Этот образ «коллективного человечества» встречу у Р. Монро и вспомню рассказ той журналистки.
Приходила и пожилая учительница, жена репрессированного, брала книги для дочери. Именно она «раскрыла нам глаза». Приходила она в сумерки, тайком выкладывала факты, которые позднее легли в основу нашего письма в ЦК КПСС, потом, сохраняя конспирацию, растворялась в темноте.
Вот что узнали мы от неё. Прежняя директор не имела даже документа об образовании, она могла предъявить только какую-то сомнительную справку об окончании не то начальной, не то средней школы. Была груба и развратна, имела такую дурную славу, что против неё восстали не только учителя, но и весь посёлок.
В краевую газету ушло письмо. Оттуда приехал корреспондент и преподал урок, как жаловаться на администрацию. Вечером, на глазах у всех, в том числе учеников, голая директорша выскакивала из дома (она жила при школе), а корреспондент тоже голый и пьяный, гонялся за ней вокруг школы…
Он уехал… А её назначили директором вновь выстроенной школы-десятилетки, куда попала Верка. Это было за год до нашего приезда. В семилетку на место прежней посадили такую же, она при мне стала женой милиционера.
На фоне таких вот событий совершенно исключительной стала история Вити Савельева.
Однажды я услышала (теперь не помню, при каких обстоятельствах) об этом шестикласснике из Веркиной школы. Мать его, бухгалтера, посадили, когда мальчик был трёхлетним крохой. Её приговорили к десяти годам. Дядя его, юрист, который жил во Владивостоке, взял ребёнка на воспитание.
Через десять лет, выйдя на свободу, мать забрала сына к себе. Ей дали комнату на двоих в новом доме, в хорошей квартире. И тут на мальчика обрушились чудовищные испытания. Мать не просто избивала его, она изощрялась в своём изуверстве! Соседи часто видели мальчика дрожащим от ужаса на лестничной площадке, совершенно голого. Но истязательнице было этого мало. Она намазывала тот орган, который обличает в нём мальчика, мелом и, открывая дверь, колотила его по рукам, чтобы он не смел закрываться.
Услышав потрясшую меня историю, я захотела немедленно увидеть этого «бедолагу». И увидела в фойе новой школы мальчика в залатанной-перезалатанной школьной куртке, но с ослепительно белым и накрахмаленным воротничком. Он ежедневно менял его сам.
Было очевидно: он успел получить хорошее воспитание. Умное, сильное лицо, гордо посаженная голова, достоинство в каждом жесте. О чём-то свободно и непринуждённо разговаривает с товарищем. Нет и намёка на семейную драму. Таких не жалеют! Таких уважают! Дядя! Есть на Руси и никогда не переведутся благородные рыцари-мужчины!
И вот я опять в конфликте, так как «полезла в дела чужой школы»…
Мы подняли шум, пошли к юристам, к одному адвокату приходили даже домой, но все они разводили руками… и отговаривали обращаться в суд. Тем временем директор и мать объединили усилия в борьбе против нас…
Зашевелились и в нашей школе. Увидели двух наивных девчонок, которые никого тут не боятся, и поплыли к нам в руки «факты» со всех сторон.
Явился однажды к нам в необычной роли «жалобщика» и Генка Шараев. Стоит у двери и молчит. Думала, как обычно, за книжкой. Нет.
– Валентина Михайловна, помогите мне написать письмо Ворошилову.
– Что случилось?
– Меня оскорбила директор!
– Расскажи…
– Она вызвала меня в свой кабинет и сказала…
Опять мнётся, топчется…
– Что сказала?
– Ну, мне стыдно! Я лучше на бумажке напишу.
Даю бумагу.
– Ты что, считаешь меня… – покраснев, отворачивается и пишет на бумажном клочке: – «Праституткой?»
И смех, и грех. Ошибка в слове – моя недоработка. Но директриса меня перещеголяла: объяснилась с пятиклашкой! Вот оно: «На воре шапка горит».
Ищу полвека спустя в словаре иностранных слов:
«Проституция (от лат. prostitutie – осквернение, обесчещение) – продажа женщинами своего тела с целью добыть средства к существованию.
Мысли по поводу: «Непроверяемая безударная гласная. Трудное правило».
Сколько же мужчин, а не только женщин, и не только с целью добыть средства к существованию и тогда, и сегодня поневоле и по доброй воле осквернены, обесчещены…
Вот та Веркина директор, доживи до наших дней, как бы могла сейчас развернуться. В одночасье стала бы «Новой русской».
Нет, честь нужно хранить: это завет моей прабабушки! Честь нужно отстаивать, если потребуется – бороться, если не можешь победить – отдать за неё жизнь! Для этого существует на свете русская литература!
Не помню, как уладили мы тогда конфликт Генки с директором: может быть, этот «факт» тоже попал в толстую общую тетрадь?
Генка, Генка! Как сложилась твоя жизнь? Выучился ли ты? Кем стал? (мама твоя тогда очень болела)…
А знаешь, о чём я мечтаю сейчас? Вот бы нам встретиться! Мне уже семьдесят один, ты тоже взрослый мужчина, отец семейства, и как крепко бы мы обнялись, вновь стали бы наивными и чистыми, как тогда…
Или тебя уже обучили гордиться тем, что ты татарин и потому должен ненавидеть русских?
Вспомни, тогда мы знали, что у нас у всех одна общая родина, Земля, что мы члены одной общей семьи, Человечества? Разве мы делили наших писателей: Жюля Верна, Марка Твена, О. Генри, Гюго, Сент-Экзюпери – на «своих» и «чужих»?
О нет, я не призываю тебя совсем забыть о своей национальности, то есть о твоих ближайших предках… Ты, если вырос настоящим мужчиной, не можешь их не уважать. Уважая себя и свой народ, ты, естественно, уважаешь и других, всех. Тут только есть тоненькая грань: уважение не перепутай с самовозвеличением, обратной стороной самоуничижения. Уважение и высокомерие, уважение и отделение несовместимы. Это удел слабых, таких, как та директор школы, которая и не поняла, что она «оскорбила» тебя, употребив точно известное теперь и мне латинское выражение.
Верю, что твоё чуткое сердечко умело различать такие вещи.
Счастья и света тебе, мой первый Ученик!
Важная дама в Отделе Учебных Заведений в раздражении бросит мне в лицо: «Надо же, столько лет жили и не знали! Приехала Семёнова – и обнаружила… бюрократизм!»
Это меня не остановит. Толстую общую тетрадь «фактов» я вручу чиновнику Путей сообщения, к которому меня направят прямо из ЦК КПСС. Я увижу там толпы изнурённых людей, которых должны восстановить в партии. Когда дойдёт моя очередь, меня вызовут в кабину, и я буду говорить с невидимым мне Членом ЦК, а он на другом конце провода будет держать Начальника по сегодняшним меркам Министра Путей сообщения, и направит меня лично к нему. Я услышу: «NN, разберитесь и доложите мне о результатах».
Создадут комиссию, будут проверять обе школы. Директора десятилетки снимут, а на её место назначат… Толю Маликова, с нашего курса. У него, конечно, есть диплом о высшем образовании. Но меня поймут только мои однокурсники. Стоило огород городить!
А меня направят в Нязепетровск в Челябинскую область. В 10-е классы. Литература…
В Комсомольске-на-Амуре мы работали один год. После борьбы против директора десятилетки, в которой нам помогал ряд преподавателей моей школы, и борьбы за права Вити Савельева, борьбы с опытными, организованными и циничными представителями власти мы приобрели бесценный опыт, хотя допустили немало ошибок. В деле Вити мы опять вместе, хотя Верка и тут стремится к «лидерству». Так кому в голову влетела мысль выкрасть его в Свердловске, когда он с матерью поедет в отпуск к родным на Запад? Неужели меня подвело чутьё, неужели прабабушка покинула меня в этой ситуации? (Не помню! Не хочу валить на Верку лишнее.) Только затея эта к добру не привела.
Вспомнила почему-то небольшой фрагмент из жизни в Комсомольске-на-Амуре. Зашла в маленький полуподвальный магазинчик. Сколько же магазинов за всю-то жизнь пришлось «посетить». Невозможно пересчитать это множество. Ни одного не помню, а этот врезался в память.
Сидит там грустная женщина в пустом помещении у кассового аппарата, с бедным набором «товара». Зайдут за весь день пять-шесть посетителей…
Меня охватил ужас. На что она тратит свою жизнь: часами сидеть в тёмном помещении, чтобы отбить несколько чеков? И так всю жизнь!
Мне было так жаль бедную женщину, что я просто сбежала из магазинчика. Он всплывал в моей памяти не раз.
Тогда я оценила свою участь, как самую счастливую: мой мир сказочно богат! Я преподаю литературу!
На память вновь приходит Г. Гробовой: искусство, в том числе литературу, он относит к ценностям вечным, к ценностям, неподвластным времени. Таким же вечным, как сама жизнь.
Случайно ли, что идея бессмертия, оформившаяся в русском космизме в философию бессмертия и воскрешения, родилась в недрах русской литературы?3
Отпуск, 1955 год. Летом Анна Владимировна и Григорий Евсеевич отдыхали на даче в Калиново.
Но с Верою что-то у нас стало расклеиваться. Почему возникла заминка в наших отношениях? Почему в Москву в ЦК КПСС я ездила одна? Не помню.
Но «фанаты» упадут в моих глазах. И дороги наши вскоре навсегда разойдутся. Это будет позднее.
А пока мы всё ещё вместе. Стояли тёплые солнечные дни. Август. Помню Анну Владимировну в гамаке, помню прогулки по небольшому лесочку вдоль озера Таватуй, помню разговоры о романе Тендрякова «Саша отправляется в путь». Это журнальный вариант. Книга выйдет под названием «Тугой узел».
Анатолий Горелов после отсидки в лагере был назначен главным редактором журнала «Звезда» и заказал Анне Владимировне статью об этом романе. Статья рождалась на наших глазах.
Вернувшись с прогулки, мысли о прочитанном романе, возникавшие в лесу, записывались либо Анной Владимировной, либо кем-нибудь из нас.
Мысли просто нумеровались. Затем разрозненные мысли группировались и выстраивались в развёрнутое исследование такого зловещего явления, как превращение бывшего фронтовика в партийного бюрократа, Секретаря райкома. Статья получила название «Об отношении литературы к правде» и была опубликована в журнале «Звезда» №3 за 1957 год.
А в 1956 году разразилось громкое партийное дело, в котором фигурировали имена Тамарченко и Куканова.
Грозная правда из теоретической статьи шагнула в жизнь.
Вот когда аукнулся ХХ съезд.
Мы не могли напрямую участвовать в борьбе. Мы просто были рядом.
А Генка Шараев всё писал и писал мне письма на Урал и конверты украшал рисунком Голубя Мира.
Глава 7. Нязепетровск
(Челябинская обл., второй год работы, 1955 – 1956 гг.)
В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России,
Там вековая тишина.
Н. Некрасов
Я прибыла в Нязепетровск. Железнодорожная школа, десятилетка.
«Глухомань», «захолустье», «провинция» – эти отвлечённые понятия мне предстоит пережить здесь.
После насыщенной внешними и особенно внутренними событиями жизни маятник качнулся слишком резко – и замер, остановился.
По привычке к ассоциациям помню стихотворение Блока «На железной дороге» как символ глубинки, неподвижности, застоя не только в России, но и во всём мире.
Какое пугающее слово «захолустье», место, где чахнет, задыхается живая человеческая душа.
Не помню, была ли там библиотека. В клубе только кино и танцы.
Зато запомнилось оживление в учительской, когда обсуждалось событие, всколыхнувшее всех: корова принесла четырёх телят!
Тоска… Недаром сказано: в провинции даже дождь – приключение. Но зато я веду литературу в 10-х классах.
Нет, предстоит пройти ещё немалый путь, прежде чем я почувствую себя на месте в качестве «учительницы литературы». Годы спустя…
Пока я ношусь с личными увлечениями и потому создаю «камерный» литературный кружок. Вот где жива память об Анне Владимировне, где рождается атмосфера человеческой доброжелательности, искренности, чистоты, увлечённости…
Такие живые огоньки понесли тогда в мир многие воспитанники Анны Владимировны Тамарченко. И как важна оказалась роль школы, начинаю понимать это только сегодня, оглянувшись в прошлое.
В моей маленькой, но уютной квартирке «кружковцы» появляются почти каждый день. Особенно частыми гостями стали Лида Косоротова и Валя Воронова.
Я подошла как-то (о, опять в фойе, опять перед раздевалкой! Нет-нет, это было не намеренно, только сейчас до меня доходит эта символика) к Вале Вороновой и пригласила её на занятие литературного кружка.
Не помню, в этот раз или в другой я протянула ей Уолта Уитмена со стихом:
Камерадо, я даю тебе руку!
Я даю тебе мою любовь,
Более драгоценную, чем деньги,
Я даю тебе себя самого
Раньше всяких наставлений и заповедей,
Дашь ли ты мне себя? Пойдёшь ли
Ты со мною в дорогу? Будем ли
Мы с тобой неразлучны до последнего дня нашей жизни?
Это вызвало такую ответную бурю чувств с её стороны, что она написала мне длинное послание на нескольких страницах. Оно долгие годы хранится у меня, я перечитывала его иногда. И вновь всплывало в памяти открытое, умное, доброе и грустное лицо этой девушки.
Письмо Вали Вороновой
Окончательно убедилась, что мне просто необходимо до конца выяснить этот вопрос. Вы не представляете, Валентина Михайловна, как мне сейчас стыдно за все мои глупости, но я бы очень хотела, чтобы Вы не приняли за оправдания всё то, что я Вам напишу.
В тот вечер, когда я была у Вас одна, я настолько потеряла самообладание, насколько способен это сделать нормальный человек.
Ещё бы! Двумя словами разрушить всё, чем человек живёт изо дня в день в течение трёх месяцев! Мои безумные записи сказали Вам только то, что я ребёнок и «чудо гороховое», но что же случилось с этим ребёнком, они по существу не сказали. Итак, ребёнок берёт на себя обязанность объяснить сам, что же постигло его.
Вам, должно быть, не нравится этот тон? Мне он тоже не нравится, и вообще, начну писать без подобных отклонений.
Итак, проработав в Нязепетровске один год, Дмитрий Филиппович Радьков решил переехать на Украину. Когда начался новый учебный год, мы узнали, что уезжает и Полина Дмитриевна, которая вела у нас литературу, а нам пришлют новую учительницу. Приехали Вы. Пришли к нам на литературу. Кончился урок. Мнения о Вас немногословные: «Ничего. Хорошенькая». И вот Вы ведёте у нас свой первый урок. Как ведёте? Этого не помню. О Ваших первых уроках скажу только одно: Вы относились к нам исключительно по-человечески. Вы говорили не только о литературе, но и о жизни. Вы сказали, что всё идёт не так-то уж и гладко, как нам кажется, и, когда мы выйдем из школы, то увидим, что вокруг ещё много несправедливости. Не буду говорить за всех, но на меня эти слова ТАК подействовали!
С этих пор я постоянно следила за Вами, прислушивалась к каждому слову и без конца думала: «Что же это за человек?» Вы организовали кружок. Изредка мы делились мнениями о Вас с Лидой. Вы помните, что с нею Вы познакомились раньше, чем со мной. Она скупо говорила мне о Вас, о том, чем вы занимаетесь в кружке, но для меня это были не слова. Разумеется, я не могла уже равнодушно относиться к Вам, и уроки литературы для меня стали не просто уроками литературы. Чем? Даже не знаю, какое здесь применимо слово. Потом Лида попросила, чтобы меня приняли в лит. кружок. В пятницу случайно мы оказались вместе в раздевалке, и Вы сказали: «Валя, приходи сегодня вечером на кружок». Вы не просто сказали, Вы как будто просили, ко мне так никто не обращался. Вы понимаете, что я чувствовала тогда?
Вечером я пришла, ну а что было в этот вечер, Вы, наверное, помните. Когда вас спросили, какого Вы мнения о каждом из нас и очередь дошла до меня, Вы сказали: «У неё есть что-то общее со мной». Сколько я думала над этими словами! Я и до сих пор не знаю, почему Вы так решили. Если можете, объясните мне это.
В этот вечер мы договорились пойти в воскресенье на лыжах. Само воскресенье Вы вряд ли забыли. У меня довольно нескромная миссия – говорить только о себе, но ничего не поделаешь, иначе я не могу. Так вот, как вы помните, весь этот день я неотступно следовала за Вами и в походе, и в кино, по-детски радовалась тому, что имею возможность поднимать Вас, когда Вы падали. Помните? У меня этого счастья, к вашему несчастью, было вдоволь, хотя нет, вдоволь сказать нельзя, потому что я готова была делать это несколько суток подряд. И вот я ещё не оправилась от этого потрясения, как (действительно «соль на свежие раны») Вы в перемену вручили мне Уитмена.
Что могло быть для меня в это время ужаснее, чем эти слова? Мне кажется, не надо говорить о том, как я их восприняла, но, если Вам интересно, то я могу рассказать.
Я и сейчас не понимаю, что Вы хотели ими сказать, а тогда… Я писала Вам, рвала, давала себе слово за словом, что вот сегодня всё выясню, потом завтра, потом снова завтра, а Вы молчали, молчали, как будто бы ничего не было. Довольно, хотите вы или нет, я не буду больше писать последовательно. Итак, приготовьтесь слушать реплики. Не знаю, шутили Вы или серьёзно сказали, что Вы хотели, чтобы я научила Вас кататься на лыжах, а я, оказывается, вон что нафантазировала. Мне не верится, что для осуществления этой цели нужно было давать мне Уитмена.
Правда, Вы мне объяснили это тем, что человек не может жить в одиночестве, он должен непременно искать с кем-то духовной близости. Ведь так? Вы не представляете, насколько я согласна в этом с Вами! Поэтому делаю следующий вывод: Вы искали эту духовную близость со мной, но я оказалась ребёнком. Вы убеждаете меня в том, что Вы самый обыкновенный человек. Никогда, Вы слышите, никогда я не соглашусь с этим. Моё возмущение таково, что я даже не могу доказывать Вам обратного. Если Вы хотите доказательств, то устройте «диспут»: соберите всех Ваших поклонников и спросите у них: обыкновенный Вы человек или нет. Вы утверждаете, что у Вас нет педагогического таланта. Так это или нет – не мне об этом судить. Если Вы «учительница без педагогического таланта», то я пока ещё никто, так что ни советовать Вам, ни – упаси Бог! – читать наставления я не имею права, да и способности. По-моему, учитель должен прежде всего быть человеком и притом чутким человеком, чтобы воспитать в учениках эту чуткость и человечность. Вы же исключительно чуткий человек (это не моё открытие, в этом убедили меня Вы сами, вспомните). Вы не можете не видеть, что за Вами уже идут! А если Вы будете смелее, пойдут все! Значит, Вы можете показать людям верный путь, а вести по нему не надо, они пойдут сами.
«Каждый человек в глубине души стремится к хорошему. Подойдя к хорошему, он никогда уже не расстанется с ним, потому что оно всегда даёт больше удовлетворения, чем плохое».
Ведь Вы согласны со Станиславским!
Вы решили, что я выдумала Вас, нафантазировала. Нет. Вы сказали: «Надо жить иначе. Люди должны быть, как братья». И я не могу больше жить по-старому, и не я одна. Если Вы сделали это со мной, то неужели Вы думаете, что я одна. Я одна из худших, Вы ещё в этом убедитесь. Мои прошлые глупости мешают мне начать жить по-новому, я хочу освободиться от них, но мне необходима поддержка. Если Вы захотите, Вы скажете мне своё слово, я сделаю всё. Если Вы скажете, что всё это глупости, я буду снова искать и найду!
Вы видите, я верю Вам больше, чем себе, неужели же Вы будете убеждать меня, чтобы я не верила Вам? У меня сейчас такой прилив вдохновения и решительности, какой вряд ли ещё когда будет, и я спешу сказать Вам всё, что накипело. Вы сказали, что надо любить людей, и у меня сейчас избыток этой любви, но где применить её? Я всю её отдаю Вам. И Вы направите её туда, куда считаете нужным. Я верю Вам. Это письмо заставит Вас думать, но я от всей души даю Вам совет: не уделяйте этому слишком много времени, не толкайте меня на преступление. Готовьтесь лучше к завтрашнему уроку. Поступайте так, как подсказывает Вам Ваша совесть! Будьте такой, какая вы есть! Если Вы признаете неправильным то, что я Вам написала, то, прошу Вас, скажите прямо. Я должна знать всю правду, а Вы должны сказать мне её. В конце повторяю Вам назло: «Вы НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК!»
Писала вчера. Сегодня перечитала – слишком восторженно, но ничего не изменяю и ни от одного своего слова не отказываюсь.
Сохранилась ещё открыточка, видимо, ко дню рождения, к моему семидесятилетию.
То есть через сорок пять лет. Почти полвека:
В юбилейный день
Я пожелаю
И здоровья, и тепла, и света.
От любимых Вам – взаимного ответа.
От судьбы – неугасимости надежд!..
2001 г. Валя Воронова.
Оказалось, в этой глухомани тоже живут хорошие люди!
А тогда, на занятии кружка, меня спросили они, какого я мнения о каждом из них. Дошла очередь до Вали… Я сказала: «У неё есть что-то общее со мной».
Валя живёт теперь в одном со мною городе. Она очень больна: ноги. Я не ошиблась: это благородное и не очень счастливое существо. Многие годы она посвятила уходу за престарелой матерью, лишив себя «личной жизни». Вот и сбылась моя оценка: в этом мы, действительно, похожи.
У Вали дочь и двое внучат.
В Нязепетровске я впервые начала преподавать литературу. Валя была там моей первой ученицей.
С Нязепетровском связано ещё одно воспоминание. О закрытом педсовете. Событие это описал Даниил Андреев.
«Трудно охватить и оценить потрясение умов, вызванное выступлением Хрущёва на ХХ съезде партии о культе личности Сталина, которое прогремело, как своего рода взрыв психо-водородной бомбы, и волны, им вызванные, докатились до отдалённых стран Земного шара».
Докатились они и до нашего «захолустья».
На педсовете у двух женщин были обмороки, пришлось вызывать скорую помощь, и вывели их под руки. Слишком личным был удар.
А внешне жизнь выглядит прежней.
Вскоре аукнулось оно и для семьи Тамарченко.
У меня бесплатный железнодорожный билет, я могу приезжать по выходным домой. Как-то встретила Веру Исаеву и от неё узнала о фельетоне Бухарцева4 в «Уральском рабочем» о Г.Е. Тамарченко. Я достала газету, прочла гнусную эту статью-донос с большим опозданием, и странной была моя реакция: мне захотелось спрятать её. Под подушку, что ли?
Было больно, но отменить уже ничего нельзя…
Ведь именно Григорий Евсеевич впервые заговорил со мной по-человечески в один из самых трудных для меня моментов университетской жизни… Это его, Григория Евсеевича, мы провожали огромной толпой не то в Москву, не то в Ленинград… Это он написал нам с Веркой дарственную надпись, общую на двоих, на своей книге о Чернышевском. Это он оказался почему-то рядом, когда я звонила Анне Владимировне, и говорил: «Валька волнуется!» Помню даже ту телефонную будку на вокзале… И в трубке её голос, который сразу «выключал» для меня весь внешний мир.
Да, если бы не он, мы могли бы с Анной Владимировной разминуться… Ей шёл тогда сорок первый год, ему – сорок третий.
Сколько впереди ещё испытаний! Но тогда, в 1955 году, это была для нас первая беда, которая уже стряслась… Поэтому я каждую субботу-воскресенье в Свердловске и сразу иду к Тамарченко.
Там теперь атмосфера сгущена до предела: телефон прослушивается, сексотка-домработница обо всём, что происходит дома, докладывает «наверх», студентов в дом пускать рискованно. А мы уже выпускники… Нам приходить разрешалось.
События накалялись… До меня доходили лишь обрывки… Я внутри. В такие минуты важно одно – быть рядом.
Закончилось всё отъездом в Ленинград.
Переезд в Ленинград займёт много времени. После Анны Владимировны уедет младшая дочь Века, за ней – Григорий Евсеевич. С ними уедет и Вера Исаева. Ещё через несколько лет Ната и Фима.
Эта часть нашей общей жизни придёт к завершению.
А я написала заявление об увольнении и уехала из Нязепетровска.
Мы встретимся через много лет – десятилетий.
А сейчас нас всех ждёт что-то новое.
Глава 8. Евгений Николаевич Прокофьев
(07.05.1927 – …)
Муж
Мы только раз один
В кругу Земном
Горим взаимной
Нежности огнём.
М.Ю. Лермонтов
Когда возвышенная любовь
зовёт вас – идите. Без колебаний.
Не сдерживайте себя.
Не сомневайтесь – а не будет ли путь полон трудностей – просто идите.
Когда эта великая любовь обращается к вам, прислушайтесь; следуйте её командам.
Подарите себе пробуждение этой любви.
И если её голос грозит вдребезги разбить все ваши концепции, позвольте этому
случиться.
Свами Чидвиласананда
Как ручьи стекаются в один поток, так обстоятельства моей жизни несли меня навстречу к странному, необыкновенному, недолговечному замужеству. Оно длилось ровно год, а потом ещё пятнадцать лет, не отступая, не отпуская, стояло за моей спиной.
Отец ушёл из семьи, встретив женщину, которую знал уже в Новосибирске, и уехал к ней в Омск. Мама не работала. Я тоже. Володя учился в УПИ. Он получал повышенную Ползуновскую стипендию.
Я, уехав из Нязепетровска, направилась в Свердловское ГорОНО, где меня поставили на очередь. Хорошо помню номер очереди – 800-я. С утра я отправлялась на поиски работы, расчертив мысленно город на квадраты и побывала на десятках предприятий, где получала одни отказы.
Зашла и на Главпочтамт, в комитет ВЛКСМ и требовательно заявила: «Я вступила в комсомол в годы войны. Имею высшее образование. Моя семья бедствует. Прошу дать любую работу». Секретарь мог мне предложить только работу телеграфистки. Но в кабинете сидел какой-то паренёк в военной форме, он сказал: «У нас учительница ушла в декретный отпуск и уезжает в другой город. Работать нужно с заключёнными». Зато это была работа по специальности.
Лагерь расположен напротив знаменитых Каменных Палаток, где сам Яков Свердлов участвовал в маёвках. Строили его немецкие военнопленные, которые разводили в клумбах фиалки и анютины глазки.
Теперь здесь сидят обычные уголовники, которые шли по лёгким статьям или сидели впервые.
На этом месте позднее выстроят спортивный комплекс «Россия», а чуть подальше Дом культуры МЖК, о нём речь впереди.
Принимая меня на работу, полковник, наряду с обычной анкетой, вручил мне бумагу, в которой я должна была расписаться, что обязуюсь ни в какие неофициальные контакты с заключёнными не вступать. Я спокойно выполнила эту формальность: разве могла я предугадать, что именно здесь я взойду на Костёр своей любви и сгорю в нём дотла?
Это было полвека тому назад. Я прошла большую школу любви.
Знаю:
– есть Любовь, неподвластная даже Грозной Смерти (мама, сын);
– есть Любовь неумирающая, непрерывно растущая, не подвластная ни времени, ни пространству (Анна Владимировна Тамарченко);
– есть Абсолютная Любовь (к Гуру, к Богу).
А есть и такая, которая как взрыв вулкана, вспыхивает, освещая всё вокруг неземным огнём, а потом, всё взорвав, смиряется и, охладев, умирает навсегда.
Какой была моя любовь к мужу? Той, которая, отпылав, отшумев, превращается в холодный пепел. Пора-пора о ней и забыть?
Но у моего сына есть отец. И Геннадий (на самом деле он Евгений Николаевич) должен помочь мне разобраться, почему именно он, а не множество других, более благополучных претендентов, должен был им стать.
Я зачислена в штат лагеря в качестве преподавателя начальной школы (1-4-е классы), но вместе с другими «совместителями» веду литературу в 8, 9 и 10-х классах. Классы разбросаны по территории лагеря, между уроками мы переходим из одного барака в другой.
Чаще всего занятия проводятся в здании библиотеки. Здесь три комнаты: библиотека, то есть в центре – полки с книгами, ещё одно помещение для занятий – внутри, и одно, самое просторное, читальный зал, сразу с улицы.
Что касается 1-4-х классов, тут я пас. Я не знаю методики, чтобы обучить этих великовозрастных мужиков считать, то есть складывать, вычитать, умножать и делить разные числа. Приходится изощряться… А многие и цифр не знают. И букв тоже. Читать не умеют, писать тем более. В классе два ряда столов. В одном ряду сидят перво- и второклассники, в другом 3 и 4-е классы. Так бывало в деревнях.
Вот с этими четырёхуровневыми учениками мне надо научиться работать. Когда я и они уставали от общего неумения, устраивались «отдушины». Я приносила, например, рассказ Паустовского «Снег» и читала его вслух для всей аудитории.
Звучали и стихи. Уолт Уитмен «Приснился мне город…»
Приснился мне город,
Который нельзя одолеть,
Хотя бы напали на него
Все страны вселенной.
Мне снилось, что это был город Друзей,
Какого ещё никогда не бывало,
И что превыше всего в этом городе
Крепкая ценилась любовь и в ней
Была главная суть,
И что каждый час она сказывалась
В каждом поступке жителей этого города,
Во всех их словах и взорах.
А вот ещё:
Ты, загорелый мальчишка из прерий,
И до тебя приходило в наш лагерь
Много желанных даров,
Приходили похвалы и подарки,
И хорошая пища, пока, наконец,
С новобранцами
Прибыл и ты, молчаливый, без всяких
Подарков, – но мы глянули
Один на другого,
И больше, чем всеми дарами вселенной
Ты одарил меня…
Такие «отдушины» постепенно увеличивались, а всё остальное, хоть и не отменялось, но сокращалось.
Уроки литературы в 8-10-х классах доставляли мне самой радость. Я по-прежнему много читала и об этом свободно рассуждала на занятиях.
Как-то в лагерь явилась комиссия из отдела народного образования. Я не была предупреждена заранее. Они пришли в 8-й класс, там, кажется, учились десять человек. Самый большой класс. В 9-м классе – шесть человек, в 10-м – пять. Припоминаю, я говорила что-то о Пушкине: «Мороз и солнце»… Разбирала по косточкам. Увлеклась. Читала что-то из Белинского о Пушкине. Комиссия дала мне высокую оценку и больше никогда ко мне никто не заглядывал. Я получила репутацию «высококвалифицированного специалиста». О чём позднее будет заявлено даже в моей характеристике.
Женщин в лагере мало. И неудивительно, что в каждом классе у меня есть «воздыхатели».
Так же, как и у других учительниц. У математички, например, такие огромные серые русалочьи глаза, что не влюбиться в неё просто грех. И вот разносится слух: отвергнутый ею поклонник вскрыл себе вены… Она сразу попала в центр общего внимания. Мои «поклонники» сохраняют дистанцию, я чувствую их уважение.
Только один из них, восьмиклассник, где я была классным руководителем, начинает посвящать мне стихи, которые вручает не сам, а через Муртазина. Потом пойдут письма, одно особенно горестное: ему пора выходить на свободу, а ему «нисколь не хочется», здесь он может в школу ходить, меня увидеть: «возле тебя легче дышится»… Но порядок есть порядок… Больше я его никогда не увижу. А письма долго ещё будут лежать в моём архиве. Что, это тоже нарушение какого-то параграфа, ведь письма-то – неофициальный контакт?
Три-четыре письма восьмиклассника? Фамилию не помню.
Письма восьмиклассника
17 января 1956 года
Сколько раз, сидя за партой строго,
Я смотрел в глаза твои тогда,
Иль стоял, краснея, у порога,
Невпопад промолвив иногда.
Так я и ходил всё, не решаясь,
Правду всю сказать в её глаза,
Всё молчал, ходил, не приближаясь,
И не мог забыть её глаза.
Как же мне, друзья, ей объясниться,
Чтобы не обидеть, не спугнуть,
Как бы я желал ей весь отдаться,
Не мечтать и попусту не ждать.
И друзей нет, не с кем поделиться,
И никто не может то понять,
Раз лишь встретив, можно так влюбиться,
Поневоле будешь рассуждать.
На работе, в классе, дома –
Всюду вижу я глаза твои
И уеду не сказавши слова,
Не открывши муки все свои.
Я хочу, чтоб эти мои строки
Иногда напомнили они,
Как страдал, не открывая муки,
Я хочу, чтоб помнили о них.
30 января 1956 года
Здравствуйте, Валентина Михайловна!
Если можете, то простите за моё нахальство. Как видите, не хватило больше терпения. Так как не могу относиться хладнокровно к тому, что меня постоянно преследует и терзает. И напрасно вы так думаете, что в наше время не может быть таких людей, которые могут в своей любви порой доходить до безрассудства.
Я знаю, что у нас почти нет с вами ничего общего. Я просто дикарь и позволил зайти себе со своей впечатлительностью очень далеко. И я чувствую, что не выпутаюсь из тех пут, которыми связал сам себя: сначала – восхищение, когда вы читаете, потом дошло до того, что не могу ни одной минуты быть без вас. И мне кажется, что все знают, с чем я ношусь в своей бестолковой голове. Кажется, все меня презирают за мою беспомощность и эту проклятую стеснительность. У меня не хватает смелости сказать прямо, и тогда бы всё выяснилось сразу. Я сам себя ненавижу за свою трусость, никак не могу выйти из роли ученика, поэтому у меня никогда ничего не получается. В воскресенье я хотел остаться после беседы, но не мог выносить всех этих Шадриных и Бывальцевых, так же, как они не выносят меня. И всё получилось из-за пустяка.
Помните, раз Бывальцев не пошёл в школу. Вы у меня спросили, и я бухнул, что было действительно, что, мол Бывальцев не пошёл в школу просто из принципа. Что ему нужно что-то новенькое. Меня это задело. И вообще, я как-то старался за вас стоять. Они сначала подумали на Муртазина, но я сказал им, что это я. И с тех пор они как бы стараются избегать откровенного разговора. И вот, живя в таких отношениях, я не мог выносить фамильярную улыбочку, когда он сказал вам, что ему нужно с вами поговорить, и я с досады ушёл, чтобы не слыхать ничего и не видеть косых взглядов. После всего этого можете как угодно судить обо мне. Я высказал всё наболевшее, без этого я не могу. Ходить и постоянно думать об одном и не сказать – это не в моих силах.
Поверьте, у меня самые, как вам сказать, ну самые искренние намерения. Не знаю, как бы я был благодарен вам за вашу дружбу. Вот сейчас у меня в спецчасти спрашивают: «Куда поедешь?», а я не знаю даже, ещё не решил.











