Читать онлайн Голая лягушка. Истории без фильтров. И мысли, что прячут
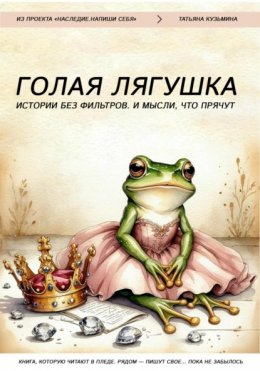
Введение
Или как всё началось: с одной мысли – “А что останется, когда мы уйдём?”
Я не писала книгу. Я спасала память.
Свою, мамину, папину.
Собирала её по крупицам – из запахов, из обрывков фраз, из того, что уже никто не скажет.
Когда умер папа, я вдруг поняла: всё.
Больше никто не напомнит мне, какой я была в детстве. Какая мама была до болезни. Что говорил папа в те редкие минуты, когда был рядом по-настоящему.
Осталась только я – и ощущение, что всё это уходит, как вода сквозь пальцы.
Остаются тени, образы, парочка фактов.
Но истории стираются.
И это страшно.
Потому что именно в историях мы – настоящие.
В реакции. В интонации. В эмоциях.
И я начала писать.
Сначала – письма самой себе.
Потом – эпизоды. Сцены.
А потом появилась мысль:
А что, если это не только про меня?
Я поехала в Сочи. Там шла конференция, и кто-то рассказывал про цифровые аватары.
Про то, как пытаются «воссоздать» умерших по кусочкам – по голосовым, фото, письмам.
Чтобы вроде как «общаться».
Но чем больше я слушала, тем сильнее чувствовала:
Это не оживление. Это – монтаж.
Потому что человек – это не набор фраз.
Он с каждым говорил по-разному.
Одни слова – любимой. Другие – сыну. Третьи – случайному попутчику.
И с разной интонацией.
Для одних он был хорошим. Для других – не очень.
Если всё это соединить – получится Франкенштейн.
Не человек. И не память.
И я поняла:
себя нужно писать живой.
Пока ты ещё можешь.
Пока ты помнишь.
Пока сама можешь сказать – что чувствовала, как жила, кого любила, что выдержала.
Так появился мой проект «Наследие. Напиши себя».
Он не про биографии.
Он – про живое.
Про боль, про любовь, про усталость. Про «не могу». Про «держусь».
Про простые дни, которые вдруг оказываются важнее праздников.
Эта книга – не роман.
Это суп.
Сваренный из писем самой себе. Из запахов кухни. Из щемящих вечерних мыслей. Из диалогов с детьми. Из одиночества и нежности.
Здесь нет советов, формул или правил.
Здесь – я.
Женщина. Мама. Девочка.
Сильно уставшая – и всё равно живая.
И каждый текст – это как ложка.
Где-то – горячо. Где-то – тепло. Где-то – чуть солоновато от слёз.
Но всегда – по-настоящему.
Почему лягушка?
Лягушка – это метафора для тех, кто привык адаптироваться к трудным условиям, не замечая, как всё постепенно становится невыносимым.
Как лягушка, которая не чувствует, что вода нагревается.
Я тоже шла через трудности, не осознавая, что сама становлюсь частью болота,
пока не пришёл момент, когда уже не было сил продолжать.
Но – в отличие от лягушки – я поняла:
нужно прыгнуть. И найти свою корону.
Если ты читаешь это – возможно, и у тебя есть что сказать.
Возможно, ты тоже не хочешь, чтобы тебя перепридумывали. Или просто забыли.
Ты хочешь быть услышанной.
Вот зачем писать.
Не ради славы. Ради близости.
Ради памяти, которую можно потрогать. Прочитать. Передать дальше.
Пусть эта книга станет не только моим голосом,
но и тихим приглашением тебе:
напиши себя. Пока помнишь. Пока дышишь. Пока живёшь.
С теплом и верой в силу живого слова,
Татьяна Кузьмина
автор проекта «Наследие. Напиши себя»
в Telegram @KuzminaTV360
мама и просто женщина, которая однажды села на кухне с чаем – и начала писать.
Как читать эту книгу
Эта книга – как дом с разными комнатами.
В каждой – своё настроение, свой ритм, своя правда.
Она поделена на тематические разделы: про детей и конфетки памяти, которые не хочется терять; про материнство – как опыт взросления и внутренней борьбы; про корни и память рода; про женщину, которая учится быть собой.
Каждый раздел – это отдельное направление.
А внутри – короткие истории, ощущения, моменты.
Где-то – светло и смешно. Где-то – больно и прямо.
И это нормально.
Не всё должно откликаться сразу.
Если какой-то раздел кажется далёким – просто отложите.
Найдите свой.
Здесь не нужно читать по порядку.
Жизнь течёт по времени, но мы чувствуем – не по линейке.
Мы живём по отклику.
Иногда воспоминания догоняют не по хронологии, а по запаху, звуку, взгляду.
Именно так устроена и эта книга.
Просто откройте её в нужный момент – и, возможно, она откроется вам.
В начале каждого раздела – короткое размышление: зачем писать об этом.
Даже если мои личные тексты не заденут вас напрямую, прочитайте эти вступления.
Там собрана суть: зачем вспоминать, фиксировать, рассказывать.
Почему слово, однажды записанное, может стать опорой – и для вас, и для тех, кто рядом.
Как именно – узнаете внутри, в начале каждого раздела.
Не спешите. Не читайте через силу.
Это не та книга, которую нужно “осилить” до конца.
Это та, к которой возвращаются.
Иногда – чтобы понять.
Иногда – чтобы просто почувствовать, что ты не одна.
Если вы сейчас мама и в водовороте быта – начните с разделов «Про материнство» и «Детки-конфетки».
Если хочется близости и честности – попробуйте «Женщина. Точка».
Если внутри копится слишком много – «Без полок» может стать тем, что нужно.
А если не знаете, с чего начать – просто откройте наугад.
Книга сама вас позовёт.
В этой книге нет правильного пути.
Есть только ваш.
А это уже – многое.
Поехали.
1. Раздел: "Записки с подоконника детства"
«Детство – это не время. Это место, из которого мы никогда не уходим до конца.»
«Детство – это не время. Это место, из которого мы никогда не уходим до конца.»
Этот раздел – как старый альбом: с варежками на резинке, секретиками под стеклом и солнцем в пылинках.
Это истории, написанные с того самого подоконника, где когда-то мечталось стать взрослой.
О детских переживаниях, первых открытиях, боли, смущении – и о свете, который остался внутри.
Это не просто воспоминания. Это способ прикоснуться к себе прежней.
И ещё – это переплетение меня взрослой с той девочкой, которая всё ещё там, на подоконнике:
смотрит в окно, прячет нос в занавеску, немного боится – и очень ждёт, чтобы её, наконец, услышали.
Зачем я пишу про своё детство:
1. Чтобы создать связь
Пишу, чтобы напомнить – я не одна, и ты не один.
Мои истории – это не просто личные эпизоды. Это попытка создать пространство сопричастности.
Когда кто-то читает мои переживания, он может узнать в них себя.
Понять, что его боли и радости – не уникальны, не странны, не “слишком”.
Это даёт облегчение, понимание и, возможно, ключик к внутреннему миру.
2. Чтобы переосмыслить прошлое
Пишу, чтобы распутать клубки. Чтобы осознать уроки, которые принесло детство.
Чтобы увидеть, как именно они сформировали мои ценности, страхи и опоры.
Письмо помогает мне взглянуть на давние боли – и заметить: они были частью роста.
Порой, написав, я вдруг понимаю: я уже не та девочка. Но теперь – я могу её защитить.
3. Чтобы переписать свою историю
Пишу, чтобы оживить то, что казалось забытым.
Добавить краски, где раньше была только тень.
Это не просто пересказ событий – это акт возвращения власти над своей памятью.
Я переписываю моменты не ради вымысла, а ради смысла.
И каждое слово – это шаг. К свободе. К прощению. К принятию.
Так боль становится опытом. А опыт – силой.
4. Чтобы передать детям и будущим поколениям
Пишу, чтобы оставить след. Чтобы мои дети – и те, кто придут после – знали, кем я была.
Что чувствовала, через что проходила.
Я не хочу, чтобы меня помнили одной строчкой – “мама была доброй” или “бабушка – бухгалтером”.
Я хочу передать им не факт, а живую ниточку.
Чтобы они могли найти в моих историях и себя.
Чтобы почувствовали: их история – тоже важна.
Мои воспоминания – это не просто архив.
Это зеркало, в котором можно увидеть отражения поколений.
Потому что детство – это не только прошлое.
Это и есть важная часть нашего настоящего.
А теперь – устройтесь поудобнее.
Возьмите кружку чая – пусть он будет горячим, как воспоминания.
Возможно, рядом понадобится платочек.
Потому что эти истории – не только обо мне.
Они могут быть и о вас.
Мы все – как книги, припорошенные пылью времени.
Храним свои страницы с теми же тревожными ночами и тихими чудесами.
И когда я буду рассказывать, вам может показаться, что где-то между строк звучит ваше имя.
А в глазах зажжётся тот же огонёк, что когда-то был и у меня.
Позвольте этим словам коснуться тех мест в вас, которые тоже помнят детство.
Страхи. Мечты. И надежды, похожие на мои.
Варежки-зайчики
Я до сих пор помню тот день. Это не просто воспоминание – целый клубок ощущений.
Мы ехали в автобусе – огромном, старом, скрипучем. На Дальнем Востоке зимой морозы доходили до минус тридцати, и каждая поездка в таком транспорте превращалась в испытание. Самое тёплое место было впереди, рядом с водителем, где грел мотор. Мне повезло – автобус был почти пуст, и я заняла это уютное местечко.
Автобус казался маленьким оазисом тепла среди снежной пустыни. Я стягиваю варежки и кладу их рядом. На секунду закрываю глаза – так хорошо…
– Ты не замёрзла? – спрашивает мама.
Я качаю головой. Но отвечать не хочется – слишком уютно. Автобус мчится вперёд, а меня от тепла разморило.
А потом – всё. Я стою на остановке, автобус уже уехал, а руки мои – пустые.
– Варежки! – вырывается у меня, и сердце проваливается куда-то вниз.
Они остались там. В тёплом автобусе. На том самом месте. Белые, пушистые, как маленькие зайчики, которые вдруг решили сбежать от меня в неизвестность.
– Ну что ж, не вернёшь уже, – спокойно говорит папа.
Но мне не спокойно. В груди сжимается тугой комок.
Как я могла так глупо потерять их? Почему не заметила раньше?
Значит ли это, что я неаккуратная, рассеянная, не такая, как надо?..
Позже я уже не помнила: как мы дошли домой, как прошёл день. Но помнила этот комок в груди, который преследовал меня долго.
Казалось, эти варежки навсегда остались частью моего чувства вины – будто белые зайцы из пушистого меха теперь бегали за мной тенью.
Прошли годы. У меня появились дети.
Мы путешествовали по России, часто переезжали из города в город. И в какой-то момент мой сын потерял кроссовок.
Скорее всего, он просто вывалился из машины, когда мы останавливались.
– Мам, ну я не знаю… Он пропал, – вздыхает он.
Я смотрю на него. Маленький, с растрёпанными волосами, он стоит передо мной и не понимает, что в этом такого.
– А если не найдём? – спрашиваю я.
– Ну, тогда буду в одном ходить, – отвечает он весело.
И тут меня накрывает. Не из-за кроссовка, конечно. Из-за воспоминания.
Вот она – я. Маленькая девочка в огромном автобусе.
Вот они – мои варежки, которые уехали без меня.
Вот оно – чувство вины, от которого я не могла избавиться так долго.
А теперь – мой сын, который просто пожимает плечами и идёт дальше. Потому что это… нормально.
Я улыбаюсь.
– Ладно, пойдём за новыми.
Потом появилась дочка. И снова – потерянные вещи. Игрушки, варежки, перчатки, зонтик.
Однажды она вообще пришла домой без шапки.
– Где шапка?! – ахнула я.
– А я не знаю, – пожала она плечами.
В тот день я пошла по той самой дороге, по которой дочка возвращалась домой.
И увидела её шапку. Шёл дождь. Её аккуратно повесили на школьный забор.
Какой-то человек поднял и оставил её там, словно надеясь, что хозяин вернётся.
Шапка покачивалась на ветру, пропитанная дождём, но всё ещё ожидающая.
Вдоль забора висели перчатки и варежки – каждая из них когда-то была потеряна.
Теперь они терпеливо ждали своих хозяев.
Я взяла шапку в руки. Ткань была холодной, мокрой.
И в этот момент меня накрыло странное чувство – не раздражение, не злость.
Что-то другое.
Как будто я держала в руках не просто вещь, а кусочек детства, который снова ускользает.
Я смотрю на неё – и понимаю:
я прощаю себя.
Ту маленькую девочку, которая так переживала из-за уехавших белых варежек.
Потому что вещи теряются.
Потому что дети – такие: живые, непоседливые, иногда невнимательные.
И это нормально.
И, может быть, мои варежки-зайчики тогда не сбежали.
Может, они просто нашли кого-то другого.
Кого-то, кому было очень холодно.
И я надеюсь, что они согрели чьи-то маленькие ручки.
Как когда-то согревали мои.
А в моих воспоминаниях они остались навсегда —
белые, пушистые, весёлые варежки-зайчики,
которые однажды уехали от меня в далёкое детство,
помахав на прощание с высоты автобусного окна.
Колокольчик совести: деньги, вина и уроки поколений
В детстве у меня была одна большая страсть – открытки и карманные календарики.
Их было так много: с цветами, животными, пейзажами.
Они переливались глянцем, пахли типографской краской, и каждый новый экземпляр был маленьким сокровищем.
Я жила в мире коллекционеров. У кого-то – только цветочные открытки, у кого-то – целая серия с героями.
Мы обменивались, торговались, мечтали о редких экземплярах.
Я жадно рассматривала чужие коллекции и чувствовала, как внутри растёт желание:
«Мне нужны ВСЕ!»
Но где их взять?
Карманных денег давали мало, а в киосках на открытки уходило больше, чем у меня было.
Я смотрела на витрину, как голодный ребёнок на пирожные за стеклом.
Запретный плод
Однажды, когда родители уехали на дачу, я осталась дома.
Ходила по квартире, бродила из комнаты в комнату.
И вдруг взгляд упал на мамину сумку.
Внутри лежал кошелёк.
Я стояла и смотрела.
– Нет, нельзя. Это же мамины деньги! – говорила я себе.
Но в голове звучал другой голос:
– А если взять совсем чуть-чуть?.. Они же не заметят. Да и я просто одолжу. Потом отдам… как-нибудь.
Я открыла кошелёк. Там было несколько купюр и много мелочи.
Я осторожно взяла пару монет. Потом ещё пару.
И быстро захлопнула его.
– Всё, всё! Больше не трогаю!
Но сердце колотилось, как бешеный барабан.
Покупка и разоблачение
В тот же день я побежала в киоск и купила открытки.
Как же я была счастлива! Держала их в руках, рассматривала, перечитывала надписи на обороте.
В этот момент я чувствовала себя самым богатым человеком на свете.
Но счастье длилось недолго.
– Таня, иди сюда, – голос мамы был необычно спокойным, но ледяным.
– Ты брала деньги из кошелька?
Я застыла. Мир сжался до одной точки.
– Нет… – голос дрогнул.
– Точно?
Я кивнула, но мама уже знала правду.
Она молча вытянула руку – в ладони были мои открытки и мой кошелёк, полный монет.
Боже, как же мне было стыдно.
Сначала – ужас. Потом – злость.
На маму. На себя. На этот мир, в котором деньги нельзя просто так взять.
– Ну и что теперь? Я плохая? – выкрикнула я сквозь слёзы.
Мама посмотрела на меня внимательно:
– Ты не плохая. Ты сделала плохой поступок. И сама знаешь, что так делать нельзя.
Она не кричала, не ругала.
Но в груди что-то обрушилось.
С тех пор тот день стоял перед глазами, как расколотое зеркало, отражающее моё детское отчаяние.
И хотя меня больше никогда не ловили на подобном, колокольчик совести внутри меня продолжал звенеть.
История повторяется
Много лет спустя мой семилетний сын повторил этот сценарий.
Звонок от учительницы:
– Вы случайно не давали сыну две тысячи рублей в школу?
– Нет. А что случилось?
– Он купил на них… шоколадки.
Я не знала, плакать или смеяться.
Он не просто потратил их на себя – он угостил всех.
Мы сидели на кухне. Я смотрела на него.
– Ты понимаешь, почему так нельзя?
Он молчал и ковырял вилкой край тарелки.
– Я просто хотел, чтобы всем было хорошо. И чтобы было много друзей.
И вдруг я вспомнила себя.
То самое чувство – когда хочется чего-то так сильно, что логика уходит на второй план.
– Ты должен понять: брать чужое – это воровство.
– Мам, я больше так не буду. Честно.
И он действительно больше не повторял.
Как и я – когда-то.
Позже похожая история случилась с моей дочерью.
Она тоже взяла деньги без спроса. Но быстро осознала ошибку.
Урок поколений
Позже я прочитала, что у детей есть такой этап – этап эгоцентризма.
Когда они делают всё только для себя.
Это естественный процесс самоутверждения.
Они ещё не умеют до конца различать свои желания и чужие границы.
И иногда пробуют взять что-то – не из злого умысла, а потому что мир пока кажется им «своим».
Это не преступление.
Это шаг на пути к личной ответственности.
А ещё – наши дети это наши отражения.
Они проходят через те же уроки, что и мы, но по-своему.
И если мы правильно проведём их через это,
то не только научим – но и излечим самих себя.
Колокольчик совести затих.
Теперь я знаю: все эти моменты – часть взросления.
Часть принятия себя.
Часть жизни.
Волшебство, которое не прошло
I. Летние пытки
Когда я была маленькой, каждое лето меня отправляли в деревню – к бабушке, к тёте с дядей.
Деревня… Ах, деревня. Не как в сказках про ромашки и пироги, а суровая, со своим укладом:
Туалет – на улице. Вода – через колонку, которую надо качать руками.
Помыть посуду? Сначала нагрей воду. Потом – ещё одну, для полоскания.
Каждая тарелка – как маленькая победа. Каждая кастрюля – бой за цивилизацию.
Но были там и свои чудеса. Те, что цепляются за сердце – и никуда не отпускают.
II. Ночная лаборатория
Мой дядя увлекался фотографией. Настоящей. Плёночной.
Когда ночью весь дом засыпал, мы превращали гараж в лабораторию волшебства:
красный фонарь, ванночки с проявителями, запах химии —
и белый лист бумаги, на котором вдруг начинала проступать жизнь.
Я помню, как стояла, замерев, и смотрела:
в белой воде рождалась улыбка, жест, чей-то взгляд.
Как будто кто-то брал невидимые нити момента – и аккуратно вплетал их в ткань вечности.
Магия. Самая настоящая.
Потом дядя отдал мне своё снаряжение и фотоаппарат.
И уже я сама, завешивая окна тяжёлыми шторами, ночами колдовала над снимками —
ощущая себя немного алхимиком, немного художником.
Спустя годы это волшебство не закончилось. Оно просто сменило форму.
III. Волшебство продолжается
Сейчас всё проще.
Нажал на экран телефона – и поймал момент.
Но я всё ещё ловлю не лица, а чувства.
Когда дочь Алиса смеётся, держит в руках шарик, танцует на солнце —
я тянусь за телефоном, потому что внутри что-то щёлкает:
– Вот это. Это – сохраните.
Я снимаю короткие видео, делаю фотографии – не для соцсетей.
Для неё. Для нас.
Чтобы однажды она смогла открыть старую папку и увидеть:
«Вот я. Вот мама.
Вот мы – счастливы.»
И это будет больше, чем фото.
Это будет маленький, спрятанный кусочек счастья.
Сундук сокровищ, в который можно будет заглянуть, когда вдруг станет темно.
– Мам, – скажет она, – а можно ещё раз посмотреть, как я ногу в рот засовывала?
И я скажу:
– Конечно, котёнок. Конечно.
Потому что настоящее волшебство —
это не магия и не фокусы.
Это моменты, которые ты сохранил для тех, кого любишь.
Вход воспрещен
День рождения в 40 лет – это не просто дата.
Это точка отсчёта.
Хочется сделать что-то символичное. Важное.
Очищение. Перерождение. Что-то вроде этого.
Я изучала варианты – SPA, баня, бассейн.
И тут внезапно нахлынуло воспоминание. Старое, но такое яркое, словно кто-то резко включил свет в давно забытой комнате моей памяти.
Возвращение в детство
Мама работала на телефонно-телеграфной станции, и её сотрудникам предоставлялся доступ в бассейн, где могли плавать и дети.
Мне тогда было лет десять или одиннадцать.
Это было событие!
Мы с подружкой отправились туда без родителей – такие взрослые, самостоятельные.
Дорога была долгой: почти час на автобусе.
В салоне холодно, но на душе – тепло от предвкушения.
Кто-то громко обсуждал новости, кто-то дремал после рабочей недели.
– Ты тапочки не забыла? – спрашивает подружка.
– Нет! И шапочку тоже!
Мы сидели, прижимая к себе сумки с купальниками, представляя, как будем плескаться в тёплой воде.
Но меня ждало разочарование.
На входе строгая администраторша проверяла всех по списку – словно страж у ворот рая.
Осмотрела нас внимательно, затем нахмурилась:
– Девочка, а у тебя на ногтях лак! Это нельзя. Иди стирай.
Я опустила глаза – и правда: остатки розового лака. Мелочь. Но не для бассейна.
– Но… – я хотела возразить, но администратор была непреклонна.
– Без разговоров. Или убираешь лак, или уходишь. Всё, не задерживай очередь.
Горячая волна обиды подступила к горлу.
Где мне взять жидкость для снятия лака в бассейне? Денег нет. Да и это не в городе.
Я растерянно посмотрела на подругу, потом – на закрытые двери бассейна.
Внутри плескалась вода, доносились весёлые крики, а я сидела на лавке в коридоре – отгороженная от радости каким-то дурацким лаком на ногтях.
Пока все плавали, я сидела на холодной лавке и сковыривала лак ногтями.
Руки дрожали. Слёзы капали прямо на пальцы.
Я вырывала кусочки лака – как будто отдирала кусочки собственного детского счастья.
«Я успею… Я смогу…» – думала я. Но лак не уходил до конца.
Я царапала, тёрла, дышала на ногти, размягчала слюной, шепча сквозь слёзы:
– Ну пожалуйста… Пожалуйста…
Но время шло. Подружка уже выбежала из воды – счастливая, довольная.
А я так и не попала в этот бассейн.
Потом все вышли и пошли пить чай из термосов, есть бутерброды.
А мои бутерброды были со следами слёз и горечи.
Каждый кусок был наполнен не только хлебом и сыром, но и солоноватым привкусом разочарования.
Я жевала медленно, чувствуя, как вместе с едой застревают обида, злость и беспомощность.
Первая взрослая правда
Обратно я возвращалась другой.
Как будто вкусила горькую пилюлю взрослой жизни.
Теперь я знала:
Иногда правила важнее людей.
Доброта – не данность, а редкость.
Иногда ты просто остаёшься по ту сторону двери.
И это не тронет никого, кроме тебя.
– Ну почему нельзя было поставить баночку с жидкостью? – шептала я себе.
– Неужели это был первый случай? Почему нельзя было просто помочь? Она же знала, что мы не местные и приехали издалека…
Спустя годы
И вот сейчас, спустя годы, я снова думаю об этом.
О том, как часто мы сами создаём ненужные преграды —
вместо того чтобы предложить простое решение. Протянуть руку помощи.
Теперь, когда я сама управляю процессами и создаю сервисы, я всегда думаю:
А что, если мой клиент – та самая девочка с лаком на ногтях?
А если ему не хватает одной мелочи, чтобы пройти дальше?
Как я могу подстелить соломку, чтобы его путь был мягче?
Этот случай научил меня важному:
Иногда небольшое действие способно спасти чьё-то настроение.
Иногда – целый день.
А может, даже изменить восприятие мира.
И если у тебя есть возможность помочь – помоги.
Будь человеком с запасной баночкой жидкости для снятия лака.
Потому что для кого-то это может значить очень, очень многое.
"Стыд с вырезом до талии"
I. Балахон
Сськи. Да, вот так.
Без завуалирований. Без «грудь», «формы», «женские округлости». Просто – сськи.
Потому что именно так они и вошли в мою жизнь: не как подарок,
а как чужой, непрошеный гость, на которого сначала злишься,
а потом привыкаешь жить вместе.
Когда они только начали расти – я сутулилась.
Пряталась в балахоны, в растянутые свитера с горлом,
как будто могла спрятаться от самой природы.
– Ты чего такая сгорбленная? – спрашивала мама.
Как объяснить, что в теле вдруг появилось что-то чуждое?
Почему каждый взгляд, даже в маршрутке, ощущался как насилие?
В подъезде на восьмом этаже – зомби.
Между этажами сидели настоящие наркоманы и пьяные молодые парни,
создавая вокруг нас постоянный притон.
Лифт не доезжал до девятого, и путь домой превращался в шпионскую операцию,
где каждый шаг был на грани.
Нужно было пройти этот этаж пешком – другого пути не было.
Каждый раз, проходя мимо, я чувствовала,
как пробираюсь сквозь пространство, в котором стоит ослабить бдительность —
и ты окажешься чужой.
А это было опасно.
Один раз меня схватили за локоть.
– Не трогай, она своя, – сказал сосед.
Он имел в виду: «из этого подъезда». Он меня знал.
Знал, что я «из их». Хотя я была – из себя.
Но страх остался.
Плотный, как свитер.
Грудь не хотелось показывать, потому что она как будто предавала.
Сдавала тебя. Делала не своей.
Девчонкой. А девчонок – обижали.
II. Вырез
Прошли годы.
Я уже носила майки. Осторожно.
Как будто впервые примеряла собственную кожу.
– Ты чего такая спортивная? – говорили мужчины.
И я думала: это комплимент?
А может, завуалированное «тебе чего-то не хватает»? Пары размеров?
Смотришь на других: у той – тройка, у той – четвёрка.
А у тебя – двойка с минусом.
И ты вроде бы и не жалуешься…
Но и не радуешься.
Как-то смотрела вебинар на любимую тему – про маркетинг.
Оратор – женщина. Говорит серьёзные вещи.
А я слушаю, но взгляд сам соскальзывает в ямочку на груди.
Эта ямочка – как мишень для взгляда.
Даже у меня. А что уж говорить про мужчин.
Неважно, о чём она говорит – про рост охватов или про воронку продаж.
Ты всё равно ловишь себя на мысли: взгляд упал туда.
Потому что грудь – особенно большая – это не просто форма тела.
Это оружие. Сильное. Настоящее.
Некоторых женщин природа наделила сполна.
И они умеют им пользоваться.
У них другой уровень входа – в отношения, в кабинеты, в переговорные.
У них своё VIP-приглашение в мир «да».
Иногда – даже неосознанно.
Они могут быть не умнее, не глубже.
Но при первом касании – внимание уже захвачено.
Это как гипноз.
Как будто рядом кто-то включает фонарь – и все мотыльки летят на свет.
Мужчины вдруг забывают, зачем пришли. Речь сбивается. Решения становятся мягче.
Карты ложатся иначе.
Ты смотришь на это, и вроде бы всё понимаешь.
И вроде бы – не завидуешь.
Но внутри мелькает: у неё есть. У меня – нет.
И тут начинается самый сложный разговор.
С самой собой.
Про ценность. Про тело.
Про то, что в этой лотерее генетики тебе досталась не тройка.
Не четвёрка.
А досталась – душа.
Или ум.
Или терпение.
И ты себе говоришь:
Ладно. Я найду другое оружие.
Может, всё дело в том, что я когда-то сама её не хотела.
Спрятала. Сутулилась. Стеснялась.
И тело услышало:
– Не надо.
И не выросло.
Осторожнее с желаниями.
Иногда они исполняются.
Слишком буквально :)
Размышления к разделу «Записки с подоконника детства»
Иногда кажется, что детство – это что-то далёкое, тёплое, почти мифическое.
Но когда начинаешь писать, вытаскивая из памяти запахи, сцены, фразы – оно вдруг оживает.
Появляется не образ, а история.
Не просто «было весело», а – вот это случилось, вот так я чувствовала, а вот тут я впервые поняла, что…
Эти тексты стали для меня откровением.
Потому что я вспомнила не только, какой была девочкой,
но и что я до сих пор ею остаюсь.
Где-то глубоко – я всё ещё верю, боюсь, надеюсь так же, как тогда.
Всё ещё нуждаюсь в поддержке. В разрешении быть собой.
Я поняла: писать про своё детство – это не про ностальгию.
Это про восстановление связи с собой.
Про внутренний мост между взрослой «я» и той, маленькой,
которая верила в чудеса – но уже начинала замечать тени.
Это важно. И для себя. И для детей.
Потому что, когда я вспоминаю свою девочку —
я лучше понимаю своих.
И это – не все истории моего детства.
Лишь яркие фрагменты, не смытые временем.
Как кусочки пазла, которые вдруг начали складываться в цельную картину.
Это – и есть наследие.
Которое я продолжаю создавать. Добавляя новые главы. Новые переживания.
Проект «Наследие. Напиши себя» как раз про это:
не про сухие факты, не «где родился – где крестили»,
а про внутреннюю память.
Про то, что хочется сохранить. Даже если это кажется «мелочью».
Потому что потом, через много лет,
именно из таких «мелочей» складывается ощущение:
я была. я жила. мне было важно.
И именно такие истории
хочется однажды передать дальше.
2. Раздел: “Про материнство”
“Материнство – это не только про то, как быть мамой. Это про то, как не потерять себя, пока ешь остывший суп и качаешь коляску. Это про то, как жить – в этих стенах, в этих чувствах, в этих новых координатах. Это путешествие, полное открытий и неожиданных поворотов.”
Материнство – это не просто дети.
Это внутренняя революция.
Это когда ты меняешься – иногда добровольно, чаще вынужденно.
Это про трансформацию, про внутреннюю работу, про обнуление и построение себя заново.
Да, можно сказать: «Это просто этап».
Но на самом деле – это отдельная жизнь.
Проживаемая всеми органами чувств. На глубине. На пределе.
Почему я пишу?
1. Чтобы вернуть себе голос.
Иногда в материнстве нас слышат только как «маму Кости» или «маму Алисы».
А я – это ещё и я.
Писать – значит напомнить себе, что внутри мамы живёт женщина.
Со своими эмоциями, страхами, радостями и болью.
2. Чтобы самой себе сказать «спасибо».
Материнство – как река: уносит и перемещает.
Иногда оглядываешься – и не узнаёшь себя.
Тексты возвращают. В моменты, в ощущения, в проживание.
Я снова помню, как это было. И понимаю:
+100500 бессонных ночей – это не просто,
а героический подвиг в одной отдельно взятой маме.
Без медалей. Без благодарности. Без сценических аплодисментов.
Но я знаю: это было важно.
И писать – значит признать это. Зафиксировать.
Чтобы не раствориться в рутине.
Чтобы найти повод обнять себя по-настоящему – и сказать:
«Спасибо. Я справилась».
3. Чтобы легализовать чувства.
Материнство не всегда про счастье.
Это – про злость, усталость, раздражение, выгорание.
И про чувство вины за всё это.
Я пишу, чтобы признать:
«Я живая. И я имею право».
А значит – могу начать быть. Не просто выживать.
4. Чтобы прожить заново – уже по-другому.
Письмо даёт дистанцию.
Ты больше не внутри крика, а снаружи – с ручкой.
И вдруг видишь, что стояло за злостью, за истерикой, за болью.
А иногда – находишь там нежность. И смысл.
5. Чтобы оставить след.
Не только в детях – но и в себе.
В словах.
Чтобы однажды, если самой станет плохо,
можно было открыть страницу и вспомнить:
я справлялась. Уже тогда. Смогу и теперь.
6. Чтобы делиться по-настоящему.
Многие боятся говорить правду о материнстве.
Боятся, что осудят. Что «яжмамки» заклюют.
Я – говорю.
Потому что знаю: в правде прячется исцеление.
Когда ты читаешь – и видишь, что ты не одна.
И это держит.
Ты можешь перечитать сотни книг по воспитанию.
Можешь быть осознанной, внимательной, бережной —
и всё равно однажды сесть на кухне и подумать:
«Я не вывожу».
Потому что материнство – это не проект.
Здесь нет дедлайнов и премий.
Здесь ты – на живую.
На нервах, любви и чайных пакетиках.
Здесь не будет советов. У меня их просто нет.
Зато есть честные истории.
Про то, как я ошибалась, уставала, выгорала, терялась – и снова находила себя.
Про то, как менялись мои дети – и вместе с ними менялась я.
Это тексты с остывшей кашей, с криками в ванной и неожиданным теплом в самой середине обычного дня.
Я пишу – чтобы помнить.
И, может быть, чтобы отпустить.
Потому что материнство проживается не только через действия,
но и через слово.
Через разрешение быть живой —
даже в роли, где «надо» всегда больше, чем «можно».
Где заканчиваются инструкции – и начинается реальность.
Без фильтров и медалек.
Настоящее.
Если ты узнаешь себя – обними эту главу.
Здесь нет правильных. Зато есть живые мы.
"Как я чуть не воспитала маму… и весь остальной мир"
Всё началось с того, что меня накрыло.
Нет, не одеялом. Декретом. И депрессией.
Одной рукой держишь младенца, другой – пытаешься собрать свою жизнь в кучку.
И в какой-то момент понимаешь: кучка не собирается.
Она рассыпается, трещит, сбегает от тебя, как молоко на плите.
И вот сидишь ты – в какой-то домашней кофте, растянутой до размеров семейной реликвии,
в пятнах от каши, варенья и усталости, с синяками под глазами,
которые дали бы фору любой панде —
и впечатываешь в поисковик:
«Почему у меня всё плохо?»
А интернет, радостно потирая лапки, выплёвывает ответ:
«Всё из-за мамы! И ещё папы. И бабушки. И вообще – проработай род.
Иначе будет стеклянный потолок, несложившиеся отношения, непослушные дети и геморрой :)».
Что делать? Пошла я тогда к коучам, психологам.
Куча вебинаров – как будто с разбега нырнула в аквариум с золотыми рыбками,
каждая из которых обещала исполнить заветное желание.
Погрузилась в тренинги по «любви к себе»,
«отпущению обид на родителей» и прочим чудесам самокопания.
Плакала в подушку. Выписывала обиды на маму в тетрадку.
Визуализировала «маленькую девочку в белом платьишке».
И знаешь, что поняла?
Любовь к себе – это не волшебная мантра.
Не сто раз написанное «Я достойна счастья» на зеркале помадой.
Любовь к себе – это когда ты, стоя на кухне с кастрюлей супа в одной руке
и пылесосом в другой, находишь 10 минут тишины и завариваешь себе чай.
Потому что тебе можно. Потому что ты живая.
Где в этом дне – я?
Недавно болтала с подругой. Ну как болтала – выговаривалась.
Говорю:
– Вот тебе и мои «выходные»! Покормить, одеть, поиграть, погулять, прибрать, спать уложить, сто раз переодеть, оттереть, убрать – и по кругу.
А вечером – постирать мечты о себе.
На том конце – тишина. А потом весёлый голосок:
– Ну а что ты хотела? Это же твой ребёнок. Ты и отдыхаешь!
Отдыхаю?..
Я глянула на себя: синяки под глазами, взлохмаченные волосы,
пустой взгляд и сбитые мозоли на моральном фронте.
Отдыхаю.
И тут пришло страшное осознание:
Где в этом марафоне – я?
Где мои выходные, где мои маленькие радости,
моя чашка кофе в тишине, прогулка без цели?
Кажется, у многих взрослых «отдых» стал походить на смену вида задач.
Просто вместо работы ты моешь полы, таскаешь сумки,
бегаешь по кружкам с детьми.
Только это отдыхом не пахнет. Пахнет усталостью.
И супом из переработанных мечт.
Неспешный глоток жизни
А ведь счастье – оно в другом.
Не в том, чтобы всё успеть.
А в том, чтобы остановиться.
Сесть на лавочку. Выдохнуть.
Выпить кофе, глядя, как по ветру гуляют облака.
Поймать в ладони весну.
Жизнь хороша, когда её пьёшь маленькими глотками —
а не захлёбываешься из вёдра.
И да, это парадокс нашего времени:
чтобы успеть главное – иногда надо перестать спешить.
Про родителей, психологов и здравый смысл
И ещё одно поняла:
не во всех бедах виноваты мама с папой.
И бабушка с дедушкой тоже.
Можно, конечно, сидеть на лавочке оправданий,
пить пивко и ворчать:
«Это всё из-за детства!»
А можно – поднять свою взрослую попу,
обнять внутреннюю девочку и сказать:
«Мы справимся».
Даже если мама не всегда понимала.
Даже если папа не всегда обнимал.
Жизнь – это не про перекладывание вины.
Это про принятие.
Про выбор.
Про то, чтобы радовать себя – каждый день. Хоть на чуть-чуть.
И тогда будет что вспоминать. С теплом. А не с укоризной.
Взрослая жизнь начинается там, где заканчиваются оправдания.
Можно ещё двадцать лет сидеть на лавочке обид,
кормить голубей крошками упрёков
и вспоминать несправедливое детство.
А можно – встать, встряхнуться
и начать строить свою реальность.
Без ожиданий, что кто-то придёт и всё исправит.
Никто не обязан.
Каждый шаг – уже выбор.
Каждый день – уже ответственность.
И если чего-то хочется – придётся идти. Брать. Делать.
Потому что теперь это – твоя игра.
И счастье всегда начинается с маленького «можно»,
сказанного себе.
Ты же мать
Таня сидела на кухне и смотрела в стену.
Глаза жгло. В груди билось что-то колючее, беспокойное, будто осиный рой перед грозой.
На периферии сознания плыл рев дочери, натянутой струной звучавший где-то в другом конце дома.
Это невыносимо.
Сколько раз она ловила себя на этой мысли:
«Я не могу больше».
Но всегда вставала.
Шла дальше.
Отодвигала это за скобки.
Второй декрет. Второй чёртов декрет, который она тянула в одиночку.
Муж? А что муж?
– Я работаю. Я устаю. Ты же дома сидишь – отдыхай.
Он приходил, ел, смотрел в телефон или уходил в гараж.
Мог развалиться на кровати посреди хаоса: игрушки, крики, пролитый сок.
А потом – уходил спать в другую комнату.
«Чтобы не мешать тебе, с ребёнком».
Чтобы не слышать ночные истерики.
Чтобы не вставать на пятый, десятый, двадцатый плач за ночь.
Чтобы не менять памперсы, не стирать заблеванные пижамы, не ходить по квартире,
укачивая визжащего ребёнка, пока ноги не сведёт судорогой.
Таня ловила себя на мысли, что завидует ему.
Завидует его возможности просто закрыть дверь.
Возможности не отвечать. Не тащить.
Она тащила за себя. И за него.
Родителей уже не было в живых.
Бабушек-дедушек, которые бы могли помочь – тоже.
Няню? Да на какие деньги?
Она тонула в рутине.
Каждый день – как под копирку.
Проснуться. Подорваться на крик.
Покормить. Убрать.
Помыть. Покормить снова.
Погулять. Приготовить обед.
Поменять памперс. Разобрать игрушки.
Покормить. Уложить. Встать через пять минут. Укачать. Готовить. Убирать. Развлекать.
И снова. И снова. И снова.
И вот оно – слово, которое жгло сильнее всего:
Должна.
Должна быть хорошей мамой.
Должна справляться.
Должна не уставать.
Должна радоваться каждому моменту.
Должна радовать мужа.
А если не радуюсь?
Если хочется просто выключить звук?
Просто поспать хотя бы одну ночь без пробуждений.
Просто побыть в одиночестве в туалете,
а не слушать рев под дверью и отчаянный стук маленьких кулачков.
Просто взять книжку и почитать —
не вскакивая через минуту от очередного:
«Маааааааа!»
Просто. Побыть. Одной.
Хотя бы день.
Сцена в ванной
Однажды Таня купала дочку в надувном круге – таком, что надевают малышам для купания в большой ванне.
Девочка стояла в круге, передвигалась ножками по дну,
а Таня, надеясь хоть немного сделать что-то для себя, повернулась к зеркалу – почистить зубы.
На секунду отвернулась.
Повернулась обратно – девочки не было.
Всё вокруг замедлилось.
Сознание металось:
Я её уже вытащила?.. Я её ещё не принесла?.. Что происходит?
Доли секунды – но мозг не справляется.
А она – ушла под воду.
Малышка выскользнула из круга.
Таня не кричит. Она будто в замедленной съёмке.
Кажется, два шага до ванны – вечность.
Реальность будто прорывается сквозь туман.
Она вытащила дочь.
Всё хорошо.
Но могло бы быть иначе.
И от этого – страшно.
И ещё страшно —
что муж, несмотря на её просьбы, не слышал.
Просьбы о помощи – растворялись в пустоте.
Она оставалась одна. В тени.
Загнанная. Сама.
И в какой-то момент поняла:
надо выбираться.
По чуть-чуть. По чайной ложке.
Из колодца усталости и безнадёжности.
В мир, где снова будет место для меня.
Несколько выводов
Материнство – это не только радость.
Это колоссальная ответственность,
которая требует огромных эмоциональных и физических ресурсов.
Когда кажется, что весь мир против тебя,
а ты одна – в колодце беды,
важно помнить: ты у себя одна.
Я для себя решила:
пусть ребёнок немного поплачет, пока я чищу зубы. Это нормально.
Забота о себе – не каприз, а необходимость.
Поддержка партнёра – не приятный бонус, а жизненно важная опора.
Если муж – не несущая конструкция, а просто наблюдатель,
который не видит и не слышит —
это не та семья, о которой мечтают.
Не стоит слушать советы тех, кто не был на твоём месте.
Люди, у которых есть помощь бабушек или нянь,
которые ещё не были родителями – могут говорить многое,
но это не про тебя.
И уж точно не стоит слушать «яжмамок»,
которые обесценивают чужой опыт,
прикрываясь идеальными картинками из соцсетей.
Пусть будет бардак. Пусть на столе будет покупная еда. Это не важно.
Важно – твоё состояние.
И его нужно восстанавливать любой ценой.
Даже если всё остальное придётся временно отложить.
Если в этой игре больше никого нет – восстанавливать нужно только себя.
Потому что иначе —
можно оказаться в очень страшном месте.
И не только в воображении.
А в реальности.
Забота о себе – это не эгоизм.
Это фундамент всей семьи.
Ты держишь их. А кто держит тебя?
Мама – это не контроль, это якорь
Иногда кажется, что с детьми мы разыгрываем пьесу, забыв сценарий дома.
Мы импровизируем, путая реплики, подглядывая в чужие роли, пересказывая обрывки собственного детства.
Что-то берём, что-то сжигаем на внутреннем костре:
«Вот этого – никогда».
Я помню это чувство очень точно.
Как не надо. Как не хочу. Как не буду.
Анализируя своё детство и путь брата, я впервые по-настоящему поняла, что такое упущенное время.
Не как теорию из книги по психологии.
А как холодный сквозняк, который однажды распахивает дверь – и что-то важное выдувает навсегда.
Мой старший брат в подростковом возрасте начал сбегать.
Сигареты. Пропажи по ночам.
Глаза блестели – как у взрослого, а душа металась, не зная, куда спрятаться.
Родители хотели как лучше – отправили его в деревню, к тёте, дяде, бабушке.
Чтобы был под присмотром, пока они работали.
Но это было пространство, где много травы, но мало почвы.
Много взрослых – но мало примеров.
Там, где воздух пах самогоном, а слово «авторитет» давно имело другой смысл.
А потом – срыв. Падение.
Уход в зависимость.
Алкоголь, как тень, обнял его за плечи.
И всё, что ещё можно было бы удержать, начало ускользать.
Это отложилось в душе тяжёлой, но чёткой печатью:
ребёнок не может быть предоставлен миру без фильтра.
Даже если ты на пределе. Даже если нет денег, мужа, времени, энергии.
Потому что мир не щадит.
Мир – это не мягкий плед.
Это шквальный ветер.
И если ты не держишь – его унесёт.
Я много думала:
А как бы сложилась судьба брата, если бы его не отправили в деревню?
Сколько бы прожила тогда мама, если бы ей не трепали нервы каждый день?..
Но ответов на эти вопросы быть не может.
***
Я работаю из дома. Варю кашу, открываю ноутбук, обсуждаю задачи, решаю математику.
Всё – рядом. Я не охраняю, я просто присутствую.
Как стена дома, которая не падает.
Это не гиперопека.
Это – якорь.
Молчащий, но важный.
Потому что между «ещё не поздно» и «уже всё» – иногда всего один день.
Одно решение. Один разговор. Один взгляд, в котором ты услышала.
Старший сын не хотел идти в 11 класс. Мы проходили через шторм.
– Я больше туда не вернусь, – говорил он, не глядя мне в глаза.
– Ты можешь хотя бы объяснить почему?
– Потому что я устал. Потому что это бессмысленно, – сказал он.
Мы спорили. Кричали. Хлопали дверями.
Потом я замолчала.
Потому что внутри себя уже знала:
слышать важнее, чем переубеждать.
Затем – потепление.
Как после затянувшейся зимы, когда впервые пахнет талой водой.
Теперь сын в техникуме. Пошёл работать.
Стал пробовать. Расти. Ошибаться. Вставать.
Это был росток сквозь бетон.
Недавно он сказал:
– Мам, я понял. Я не хочу просто вкалывать руками.
Я хочу систему. Хочу, чтобы дело шло – даже когда я отдыхаю.
Чтобы не только силы, но и голова работала.
И в этот момент у меня внутри что-то защёлкнуло.
Всё, что я когда-то говорила, шептала, транслировала – проросло.
Медленно. Не сразу. Но – сильным всходом.
***
А теперь – Алиса. Моя девочка. Девять лет.
Недавно мы вместе пересматривали её старые видео.
Ей тогда было три.
На одном из них она с серьёзным лицом намазывает губную помаду на камень и говорит,
что это её изобретение – камень-помада.
– Мама, я же гений, представляешь? – улыбается, глядя на экран, гордясь маленькой собой.
Я смотрю на неё – и вижу, как складывается её самооценка.
Не как отражение чужих мнений,
а как что-то, что она вырастила внутри.
Спокойная уверенность. Основа. Опора.
Я с ней. Я рядом.
Я не идеал.
Я просто – стена.
Плечо.
Глубокий вдох.
Пока есть это доверие, пока я могу быть её авторитетом —
я выбираю быть рядом.
***
И знаешь, всё это – не про контроль.
Это про ритм.
Про то, чтобы идти рядом.
Не впереди. Не сзади.
Не тянуть и не толкать.
Просто быть на расстоянии вытянутой руки —
если вдруг захочется схватиться.
Быть вовремя, когда в тебе нуждаются.
Я не идеальный родитель.
Я пробую. Я ошибаюсь. Я прошу прощения. Я учусь.
Но я точно знаю:
быть рядом – важнее, чем быть правой.
Спасибо себе – той, что выбрала остаться.
Той, что осталась домом.
Каша или каша
Ты когда-нибудь задумывалась, чего хочешь на самом деле?
Я резко подняла голову. Чай в кружке ещё слегка парил, за окном стемнело, а напротив сидела моя подруга, разглядывая меня с хитрым прищуром.
Вопрос повис в воздухе, как мыльный пузырь. Красивый, хрупкий, прозрачный – его хочется поймать, но стоит дотронуться, и он исчезает. Я открываю рот, чтобы ответить, но слова застревают где-то между горлом и сознанием.
– Ну… конечно… – начинаю я, но тут же замолкаю.
Потому что если честно – я не знаю.
После развода жизнь разлетелась, как зеркало на асфальте. Осколки везде: в ботинках, в карманах, в душе. Ходишь, живёшь, улыбаешься – а где-то внутри режет. Сложно себя собрать по кускам, когда не понимаешь, какие из них твои, а какие прилеплены кем-то другим.
«Так надо», «так правильно», «так живут люди». Чьи это слова? Кто это во мне говорит?
Пытаюсь отделить своё. Родное. Настоящее. Прислушиваюсь к себе, но в голове – белый шум из чужих ожиданий и чужих "надо".
– Хочешь суп или кашу?
Выбор. Ложный, как пластмассовый фрукт в вазе. С виду – настоящий, а откусишь – зубы сломаешь.
Родители решают, что ты будешь есть. Что наденешь. Куда поедешь. Нет, ну формально тебя спрашивают. Но в пределах дозволенного. Суп или каша. Джинсы или юбка. Дача или… дача. Хочешь сейчас пополоть или после обеда. А хочешь ты чего-то третьего – не положено.
– Куда поедем?
– В деревню.
– А на море?
– Не. Картошку садить, окучивать, полоть, копать… в зависимости от времени года.
Где-то глубоко в груди отчаянно билась мысль. Маленькая. Жалкая. "А можно не на картошку?" Но она тонула в родительском «так надо».
***
Детство было творческим. Но только в моей комнате. Там я строила города из конструктора. Выжигала узоры. Вязала, рисовала, вышивала. Настоящая мастерская без границ. Маленькая вселенная. Только стоило выйти за дверь – начинался другой сценарий. Не мой.
Огород. Грядки. Полоть. Поливать. Ползать по земле, пока солнце жжёт спину. Я ненавидела дачу, деревню…
– Мам, а можно не ехать?
– Надо.
Вот и весь диалог.
Я не виню родителей. Мир был жесткий. Взрослым и так хватало забот. Им не до детских "хочу". Им бы самим хоть чуть-чуть "могу". Они не нарочно. Просто так устроено.
Но вот что странно. Если слишком долго делать то, что "надо", перестаёшь слышать, чего "хочется".
Сначала это кажется мелочью. Вынеси мусор. Убери в комнате. Надень потеплее. Потом это превращается в привычку. Делать так, как правильно. Удобно. Как "все люди".
И вот однажды ты сидишь перед тарелкой. Там суп или каша. И ты не знаешь, чего ты хочешь. Не в еде. В жизни.
И вот я уже «ягодка». Созрела. Наливная, спелая. Только вот беда – не знаю, кем хочу стать, когда вырасту.
Вроде взрослая. Самостоятельная. Разумная. А внутри – пустота. Будто кто-то вынул сердце и оставил только оболочку. Будто всю жизнь писали за меня, а теперь сунули в руки чистый лист: «Ну, давай. Пиши». А я не знаю, с чего начать.
***
Теперь я сама мама.
– Хочешь суп или кашу? – вырывается по привычке.
Стоп. Что? Опять?
– Ты хочешь кушать? – спрашиваю дочку осторожно, будто боюсь, что слова рассыплются в воздухе.
Она смотрит на меня широко распахнутыми глазами. Думает. Прислушивается к себе. Я вижу, как внутри у неё зарождается это новое – право хотеть.
Конечно, пробиваются мои детские сценарии. «Выбор без выбора». Каша или каша. Но я хотя бы стараюсь. Учусь. Учусь слушать свою дочь. Учусь слышать её.
Я хочу, чтобы она умела слышать себя. Чтобы знала: её желания – важны. Чтобы не стояла потом перед тарелкой жизни и не гадала, чего же она хочет на самом деле.
P.S. И да, я сейчас никаким огородом не занимаюсь. Потому что я этого не хочу. И не буду. Значит, уже иду на поправку. И не всё потеряно. :)
Зачем мне ещё раз проживать детство?
Спросила я себя, глядя на Алисину коробку с фломастерами, которую она только что уронила. На пол. С видом: «ой, само упало».
Я села рядом. Сначала – просто посидеть. А потом услышала внутри щелчок. Не в суставах, а в голове. Щелчок понимания. Такой… тёплый. Не громкий, как в кино, а мягкий – будто кто-то щёлкнул выключателем абажура в комнате, где давно было темно.
«Мне нужно прожить её детство. Потому что со своим я уже ничего не могу сделать».
Мысль понравилась. Стало светло. Уютно.
У меня ведь почти нет фотографий из детства. Родителей уже нет. Бабушек – тоже.
Воспоминания? Размытые. Как слайды в тумане.
– Мам, а помнишь, как я в три года изобрела камень-помаду? Я гений.
– Помню, – говорю я. – Конечно, помню. Потому что сняла на видео.
Я улыбаюсь, поднимаясь с пола, отряхивая с колен фломастеры и воспоминания. Смотрю на неё – босоногую, радостную, в футболке с кляксами.
– Мам, давай сегодня пойдём на пикник! – говорит она так, как будто это путешествие на край света.
– Давай, – отвечаю я. И сама удивляюсь, как легко стало соглашаться на такие простые радости.
Пока она собирает любимого гуся и бутылку воды в дорогу, я стою на кухне и понимаю: вот он – мой шанс прожить не заново, а по-настоящему.
Каждый день с ней – это как исправить прошлое. Не переделывая, а создавая новое. Светлое. Надёжное. С запахом новых открытий и слоёного печенья.
И если кто-то спросит, зачем взрослому человеку снова вляпываться в детство, я скажу:
– Чтобы научиться быть счастливым там, где ты есть. Прямо сейчас.
С фломастерами и бумажками под диваном. С пикником в парке.
С девочкой, у которой целая вселенная в глазах.
С ней я будто возвращаю себе ту, которую когда-то потеряла.
Я понимаю: я воссоздаю детство. Не своё – её. Но как будто и своё, по второму кругу. Только теперь – с любовью. Без вины. Без страха. Без боли.
Я стараюсь ловить эти моменты – тёплые, искренние, настоящие – на камеру. Снимаю видео, щёлкаю фото, сохраняю голосовые. Чтобы у неё осталось своё детство.
Настоящее. Живое.
Чтобы, когда ей будет грустно или одиноко, она могла вернуться. Не в пустоту, как когда-то я. А в свет. Во вкус. В себя.
А сейчас я чувствую: если она счастлива – и я счастлива.
А если счастлива взрослая я, то и внутренняя, маленькая – улыбается. Вместе с ней.
Это такая внутренняя матрёшка радости: детство внутри детства. Слои любви.
Состояние – клёвое. Как утренний хлеб с домашним маслом.
Простое. Тёплое. Живое.
Точки, где всё решается
Иногда кажется, что жизнь – это сплошной суп из случайностей. Где-то пересолено, где-то не доварено, но главное – это точки. Те самые точки выбора, где ты либо начинаешь жить заново, либо продолжаешь выживать.











