Читать онлайн Слова в снегу: Книга о русских писателях
- Автор: Алексей Поликовский
- Жанр: Биографии и мемуары
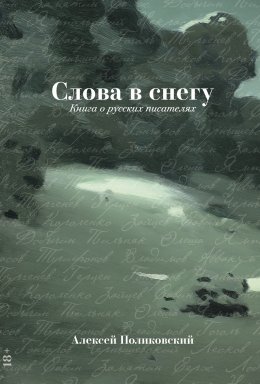
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Текст публикуется в авторской редакции.
Редактор раздела «Литература»: Елена Доровских
Издатель: Павел Подкосов
Руководитель проекта: Александра Шувалова
Арт-директор: Юрий Буга
Дизайн обложки: Денис Изотов
Корректоры: Елена Барановская, Лариса Татнинова
Верстка: Андрей Фоминов
На обложке использована картина Архипа Куинджи «Пятна лунного света в лесу. Зима» (1908) / Art Heritage / Alamy / Legion-Media
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Поликовский А., 2025
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2025
Предисловие
Высокий, тощий, в белой длинной рубахе и драных портках, с сияющими глазами на тёмном лице – протопоп Аввакум писал своё житиё в тесной избе, где сквозь прорубленное в брёвнах окошко лился слабый свет северного дня. Писал, уже битый кнутом, уже сидевший в подвале, с хворобой в теле, с отбитыми рёбрами, уже видевший, как его соратникам режут руки и языки – и всё же писал, ибо поперёк страха и ужаса должен был положить своё слово. Так и сделал.
Отсюда, от этого пророка с высохшим узловатым телом, идёт русская проза, здесь её исток и здесь её родовая отметка: слово не просто так, оно вес и плоть, оно кровь и совесть, выговорить его трудно, а не выговорить нельзя.
И вслед за ним, за гневливым протопопом семнадцатого века, не чуждым юмора и добродушия, идут они один за другим – русские писатели, те, что служили слову всей своей жизнью. Нет среди них главных и не главных, важных и второстепенных – это игры критиков, расставляющих фигурки – потому что все они в полную силу и даже сверх своей силы вершат труд, от которого пальцы в чернилах, как у Писемского, и тоска самоубийства, как у Герцена, и лихорадка с по́том, как у Толстого. Давлением времени и забывчивостью потомков то один из них, то другой отталкивается во тьму, как это случилось с Савиным или Арцыбашевым, но и там не гаснет их свеча или электрическая лампочка, а нет электричества, так керосинка, при тусклом красноватом мерцании которой писал Добычин.
Пишет возбуждённый до безумия, до бессонницы, до нервного крика Лесков. Пишет, налегая обширным животом на край стола, флегма Гончаров. Пишет в крошечной парижской квартирке Борис Зайцев, вся проза которого словно нежный весенний дым. Пишет Пильняк, владелец американского авто и дорогих костюмов, не ведающий – или ведающий? – что его ждёт. Пишет Трифонов в окутанной чадом торфяных пожаров брежневской Москве. Пишут они, которые есть на этих страницах, и ещё другие, которых здесь нет, потому что всю русскую литературу не уместишь в одну книгу.
И те, кто здесь есть, и те, кого здесь нет – все они русская литература в её движении и стремлении, в её страсти и боли, в её желании понять мир и отчаянии перед миром, который упорно холоден и жесток. Но есть ведь добро? А зачем тогда зло? Как всё это понять?
Можно жить в своём времени и на своём месте, а можно в русской литературе, которая сама по себе и время, и место, и отдельный от всего и всё-таки связанный со всем мир, где идёт куда-то очарованный странник Иван Северьянович Флягин, хладнокровно режет лягушку нигилист Базаров и спивающийся интеллигент Олеша выставляет себя на суд. На самосуд.
Мир ускоряется, дробится, мельчит, частит, а русская проза дышит ровно и сильно. От чёткой, сдержанной пушкинской фразы до завихрений Андрея Белого, от плотного быта толстых романов Боборыкина до таинственной прелести коротких бунинских рассказов – вся она не подвластна корысти и суете. Ощущение истины и чистоты пронизывает эту прозу. Писали её праведники, не носившие ни ряс, ни белых одежд и бывшие в миру кем угодно – ядовито-желчным чиновником Салтыковым-Щедриным, запойным алкоголиком Николаем Успенским или даже агентом Коминтерна Виктором Сержем с револьвером в кармане.
Но были среди них и такие, святость которых не спрятана, а видна с первого взгляда – как Гаршин, всякую человеческую боль чувствовавшийся как свою. И если в Толстом, тоже наделённом таким мучительным даром, была страшная сила сопротивления, то в тонком и ранимом Гаршине силы не было, а только – беззащитность.
Никуда эта проза не спешит и не будет спешить, пусть всё вокруг в нашем двадцать первом веке даже ускоряется до бешеного мелькания в глазах. А тут, в мире русской прозы, всё так же медленно мы будем идти к гончаровскому обрыву, идти в цветущих садах, под ярким солнцем, вблизи широкой Волги. И с берега откроется простор.
То, что здесь, в нашем времени и месте, считается незыблемым в своей важности – государство, цари в дальней истории, генсеки в ближней, власть, парады, войны, стройки века и прочая и прочая – то в высшем мире и на его весах понижается в весе, теряет в размере и оказывается малым, как пушинка. А русская литература на тех же весах показывает свой истинный вес. Может быть, она и есть то лучшее и высшее, что Россия дала для всечеловеческой истории. И если есть Суд, на котором Он, зная неведомые нам законы, спросит об оправдании – то этим оправданием будет русская литература.
Царства проходят. Книги остаются.
В это верили все они, от расстриги-попа Аввакума в земляной яме семнадцатого века до изгнанника Георгия Владимова в его квартире в немецком Нидернхаузене двадцатого века, последнего писателя русской классической школы, в которой слово не лекарство, а боль. А после него – конец, пустырь с клоунами, шоу-литература.
Однако же вот что ещё. Видим, как внимательный читатель, глянув на оглавление, начинает загибать пальцы: Толстого тут нет, Достоевского нет, Булгакова нет… А Чехов? И его тоже на этих страницах нет, хоть автор и ездит каждый год к нему в гости в Мелихово и заглядывает в окно, к которому когда-то по высоким сугробам приходили зайцы… Но здесь не съезд писателей с обязательной явкой, не общее собрание русской прозы с датами жизни и библиографией; смысл этой книги не всеобщий охват, а выбор сердца, не последовательность истории, а сиюминутность дружбы и любви.
Русская проза жива, и создатели её живы в том очевидном и тонком мире, который соседствует с нашим. Очки дополненной реальности не нужны, чтобы увидеть его, достаточно души и сердца. И тогда на ночном бульваре в центре Москвы в свете фонаря вдруг мелькнёт быстрой тенью фигура в плаще, со странно-знакомым лицом, с длинным носом. Гоголь! А кто это идёт по Тверской, мимо бутиков и кафе, высокий, с седой головой, в гороховом пальто? Иван Сергеевич, вы? Тургенев кланяется с высоты роста. Тут же переносимся в Полтаву и видим, как из низенького домика выходит человек с окладистой бородой и озабоченным лицом. Плотная фигура, неспешные движения… Это Короленко, он держит путь в ВЧК, хлопотать за тех, кого арестовали прошлой ночью, позапрошлой ночью, любой ночью. И корабельный инженер Замятин склоняется над листом бумаги в сугубо сухопутной Лебедяни, где этим летом снова поспевают крупные красные яблоки.
Аввакум











