Читать онлайн Иван Бунин. Жизнь наоборот
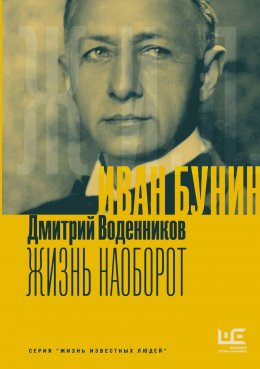
© Воденников Д.Б.
© Бондаренко А.Л., художественное оформление
© ООО «Издательство АСТ»
1
Ударил ком земли, и скоро Бунин оказался под землей, где так оказаться боялся.
Ком земли был мерзлый, подали его по традиции на лопате, и эта чужая смерзшаяся земля, в неожиданно жестокий парижский мороз, хоть чем-то напоминала родину.
Иногда люди кричат у могилы: «Ему (ей) холодно там!» – так начинаются театральные истерики у гроба. Но здесь никто театральных истерик не устраивал. Все одиннадцать человек, провожающие Бунина в окончательный путь, вели себя сдержанно. Одни – потому что это была для них обычная рутинная служба, другие – потому что были людьми русской интеллигентской культуры и изменять ей не умели. Кладбищенский священник, Вера Николаевна Муромцева-Бунина, Татьяна Сергеевна Конюс, Борис Юльевич Конюс, князь Голицын с женой, Леонид Федорович Зуров и четверо певчих.
Все одиннадцать человек встали очень рано, еще затемно, часов в шесть. По французским законам тело должно быть перенесено из временного обиталища и захоронено до девяти утра. А утро было суровое, на улицах расцвела гололедица. Стало подниматься солнце, и парижский снег порозовел.
Когда мы читали бунинский рассказ «В Париже», нам в голову не приходило, что героиня, схоронившая своего возлюбленного, тоже ехала обратно ранним утром. Правда, там и дело было весной.
На третий день Пасхи он умер в вагоне метро, – читая газету, вдруг откинул к спинке сиденья голову, завел глаза… Когда она, в трауре, возвращалась с кладбища, был милый весенний день, кое-где плыли в мягком парижском небе весенние облака, и все говорило о жизни юной, вечной – и о ее, конченой. Дома она стала убирать квартиру. В коридоре, в плакаре, увидала его давнюю летнюю шинель, серую, на красной подкладке. Она сняла ее с вешалки, прижала к лицу и, прижимая, села на пол, вся дергаясь от рыданий и вскрикивая, моля кого-то о пощаде.
Вера Николаевна над гробом ничего не кричала, но все пережила мучительно. Это погребение далось ей трудней, чем торжественное отпевание Ивана Алексеевича на рю Дарю.
(…«Рю Дарю». Это парижская улица в восьмом округе. Какая неуместная, на русское ухо, рифма. Рю – дарю. Да и смысл: он не может не выскочить вдруг – даже если ты говоришь на французском с детства, как на родном.)
Кто-то вспоминал потом: служба была простая, строгая, чем-то напоминала фронтовое погребение. И голоса четверых певчих быстро таяли в морозном воздухе.
- Отче наш, Иже еси на небесе́х!
- Да святится имя Твое, да прии́дет
- Царствие Твое,
- да будет воля Твоя, яко на небеси́ и на земли́.
- Хлеб наш насущный да́ждь нам дне́сь;
- и оста́ви нам до́лги наша, якоже и мы оставляем
- должнико́м нашим;
- и не введи нас во искушение, но изба́ви нас
- от лукаваго.
- Яко Твое есть Царство и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно,
- и во веки веков. Аминь.
Пока хор пел эти строки на церковнославянском, одноногий князь Голицын, который на кладбище приехал со своей женой на стареньком автомобиле (он шоферствовал как раз в те времена: работал в Красном Кресте, обслуживал старческий дом; да, но ты не можешь отделаться от мысли: как же он шоферстовал, если был одноног? – однако ты гонишь эту мысль, больше всего тебя царапает тут, что князь вообще должен шоферстовать: «бывшие» люди, прошлое величие, тоска и одновременно спасительность эмиграции), опустился на единственное колено, опираясь при этом на сильно сношенные костыли, и, подняв к парижскому морозному небу выцветшие слезящиеся то ли от возраста, то ли от понятной печали глаза, стал подпевать нетвердым, как будто надколотым голосом: «Да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь…»
Гроб был опечатан. Как письмо. Сургучными печатями. Куда уйдет это письмо? Кто прочтет его? Кому мы вообще посылаем себя, как письма при жизни? Кому нас потом посылают, как письма или, точнее, как посылки – до востребования?
Гроб стали опускать в яму, но эта посылка не хотела уходить: долго цеплялась за углы узкой могилы. Но и тогда никто – слава богу – не закричал: «Ему же там холодно!» Люди умели не устраивать пустых истерик, да и жизнь им показала, что есть в этом мире что-то более важное, чем наши расстроенные театральные нервы.
Потом гроб с Буниным тяжело ухнул вниз.
Вот тут на лопате и подали землю.
Парижская земля смерзлась черными (нечерноземными) зернистыми ледяными комьями. Вера Николаевна стянула с холодной руки шелковую тонкую перчатку; оцарапав пальцы, отломила от смерзшегося комка земли несколько «катышков»; бросила их в яму.
Однажды Борис Зайцев вспоминал, как в 30-е годы в Грассе, на одной из вилл (мы еще вспомним о них мельком, когда жизнь, текущая наоборот, позволит нам это сделать), на берегу большой воды (мне так нравится это выражение: «на берегу большой воды», «на берегу малой воды», «на берегу быстротекущей, как жизнь, воды») Бунин вдруг засучил рукава и показал своему неслучайному собеседнику руку.
Грасс, свет, солнце, море… Иван в соломенном канотье, белой рубашке с короткими рукавами, в белых панталонах и туфлях белых на босу ногу… Иван не купается. Просто сидит на берегу, у самой воды, любит море это и солнечный свет. Набегает, набегает волна, мягкими пузырьками рассыпается у его ног – он босой теперь. Ноги маленькие, отличные. Вообще тело почти юношеское. Засучивает совсем рукава рубашки.
– Вот она, рука. Видишь? Кожа чистая, никаких жил. А сгниет, братец ты мой, сгниет… Ничего не поделаешь.
И на руку свою смотрит с сожалением. Тоска во взоре. Жалко ему, но покорности нет, не в его характере. Хватает камешек, запускает в море – ловко скользит галька эта по поверхности, но пущена протестующе. Ответ кому-то. «Не могу принять, что прахом стану, не могу! Не вмещаю». Он и действительно не принимал изнутри: головой знал, что с рукой этой будет, душой же не принимал.
Теперь же ни у души, ни у руки никто ни о чем не спрашивал. То, что когда-то было Буниным, «упаковали» в цинковый гроб. Это было его пожелание: он не раз говорил, что ему страшно думать, что к нему в гроб заползет змея.
- Покуда март гудит в лесу по голым
- Снастям ветвей, – бесцветна и плоска,
- Я сплю в дупле. Я сплю в листве тяжелым,
- Холодным сном – и жду: весна близка.
- Уж в облаках, как синие оконца,
- Сквозит лазурь… Подсохло у корней,
- И мотылек в горячем свете солнца
- Припал к листве… Я шевелюсь под ней,
- Я развиваю кольца, опьяняюсь
- Теплом лучей… Я медленно ползу —
- И вновь цвету, горю, меняюсь,
- Ряжусь то в медь, то в сталь, то в бирюзу.
- Где суше лес, где много пестрых листьев
- И желтых мух, там пестрый жгут – змея.
- Чем жарче день, чем мухи золотистей —
- Тем ядовитей я.
И пусть в стихотворении «Змея» речь у Бунина идет о марте, но «посылке», отправленной в неприхотливую вечность, слишком долго идти до «адресата»: пройдет эта холодная осень, мерзлая зима, придет французский март, но некому было тебя еще при жизни утешить тем, что даже если ты чего-то сильно боишься, в конце концов оно не обязательно сбудется.
Тэффи когда-то написала (она, кстати, тут рядом, умерла примерно на год раньше): «Несколько дней тому назад навестила Бунина. У него вид лучше, чем был на юбилее. С аппетитом поговорили о смерти. Он хочет сжигаться, а я отговаривала».
Может быть, зря?
(«На похоронах было одиннадцать человек». Все перечитываю эту фразу, а она, как назло, попадается в файле: я пишу текст, что-то копирую из папки с именем «Жизнь наоборот», что-то стираю, какие-то факты опускаю в черновике вниз (еще пригодятся), а эту фразу стереть забыл. И вот она иногда всплывает. «На похоронах было одиннадцать человек». Значит, вместе с Буниным двенадцать. Бунин ненавидел Блока за его поэму. Впрочем, не только «Двенадцать» ему не нравились. Нина Берберова вспоминала: «В гостях у Бунина вынули с полки томик блоковских стихов о Прекрасной Даме. Он был весь испещрен нецензурными ругательствами, которые раньше называли заборными». Да и Ходасевичу желчный Иван Алексеевич написал: «А что бы сказал Александр Сергеевич покойный об оном Блоке? Боюсь, что очень матерно, невзирая на то, что сей печальный глупец совсем не лишен дарования». Вот Блок Бунину и «отомстил». Двенадцать их было на том кладбище, двенадцать.)
Итак, никаких кремаций. Вера Николаевна выполнила бунинское завещание.
…чтобы лицо его было закрыто, «никто не должен видеть моего смертного безобразия», никаких фотографий, никаких масок ни с лица, ни с руки; цинковый гроб ‹…› и поставить в склеп. И, слава Богу, все было как он хотел, за исключением того, что служба была торжественная, но о ней ниже. Мы вытащили его диван в столовую, поставили на место моего, покрыли белой простыней, и когда переложили тело, уже одетое, на эту его постель, то, скрестив руки, я вложила деревянный маленький крестик в руку и закрыла его лицо. Кроме нас трех, видело его еще трое, когда его положили в гроб. Последние дни лицо его было прекрасным. Я неоднократно прощалась с ним и была счастлива, что из-за праздника его оставили лишний день дома. Панихиды бывали ежедневно в половине седьмого вечера. Народу перебывало много. С каждым днем цветов было все больше и больше. В воскресенье посланы были телеграммы и письма ‹…›. В этот день я спала один час: уезжая, Зёрнов мне что-то впрыснул в руку. Когда я осталась одна, у меня был припадок печени, что мешало мне заснуть. С восьми часов я стала звонить по телефону. Первым позвонила Струве, так как у них уже был опыт с похоронами. И младший сын Алексея Петровича быстро ко мне приехал и очень помог. Позвонила Полонским и еще кому-то, Михайлову, Конюс взяла на себя Б.С.
- Спокойно на погосте под луною…
- Крестов объятья, камни и сирень…
- Но вот наш склеп, – под мраморной стеною,
- Как темный призрак, вытянулась тень.
- И жутко мне. И мой двойник могильный
- Как будто ждет чего-то при луне…
- Но я иду – и тень, как раб бессильный,
- Опять ползет, опять покорна мне!
Стихотворение так и называется – «Смерть». Но откуда такой страх?
С детства он этой темой заворожен. Боится. Не может смириться, бунтует. Мы помним этот гладкий камешек. Который летит и скользит по поверхности большой воды.
Говорил: «Жизнь нам Господь Бог дает, а отнимает всякая гадина». (Гадина, гад, змея. Опять эта ползучая тема.)
Даже с тем, как обходятся с мертвым телом, смириться не мог:
Умер человек и как можно быстрее его увезти. Я хотел бы, чтобы меня завернули в холст и отправили в Египет, а там положили бы в нишу на лавку, и я высох бы. А в землю – это ужасно. Грязь, черви, ветер завывает.
Когда умирал кто-то из близких или знакомых, на их похороны не ходил, ну или ходил крайне редко. Где-то я прочитал, что даже не простился с отцом и матерью. Странное поведение для писателя – ведь писатель пишет о жизни и смерти. К тому же смерти в текстах самого Бунина иногда даже чересчур много.
– И вот ты опять со мной и уже навсегда. Но даже видеться мы будем редко – разве могу я, твоя тайная жена, стать твоей явной для всех любовницей?
В декабре она умерла на Женевском озере в преждевременных родах.
«Натали»
А через месяц после этого разговора казачий офицер, некрасивый и плебейского вида, не имевший ровно ничего общего с тем кругом, к которому принадлежала Оля Мещерская, застрелил ее на платформе вокзала, среди большой толпы народа, только что прибывшей с поездом. ‹…› Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре.
«Легкое дыхание»
У Владимира Набокова, который еще выйдет на нашу крутящуюся сцену позже, и, возможно, это будет его не единственный выход, в его лучшем романе «Дар» описана уличная сцена, с которой все и начинается:
Облачным, но светлым днем, в исходе четвертого часа, первого апреля 192… года (иностранный критик заметил как-то, что хотя многие романы, все немецкие например, начинаются с даты, только русские авторы – в силу оригинальной честности нашей литературы – не договаривают единиц), у дома номер семь по Танненбергской улице, в западной части Берлина, остановился мебельный фургон, очень длинный и очень желтый, запряженный желтым же трактором с гипертрофией задних колес и более чем откровенной анатомией.
В этот облачный, но светлый день набоковский герой выходит из своей парадной – и тут же происходит чудо:
Переходя на угол в аптекарскую, он невольно повернул голову (блеснуло рикошетом с виска) и увидел – с той быстрой улыбкой, которой мы приветствуем радугу или розу – как теперь из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба, зеркальный шкап, по которому, как по экрану, прошло безупречно-ясное отражение ветвей, скользя и качаясь не по-древесному, а с человеческим колебанием, обусловленным природой тех, кто нес это небо, эти ветви, этот скользящий фасад.
Параллелепипед ослепительного неба – это так по-набоковски. Но Бунин часто видит совсем другой зеркальный шкаф – и этот шкаф отражает землю. И хотя облака тоже удаются нашему герою, и этот прозрачный воздух, и этот апрель, это позвякивание колокольчиков – но отвести взгляда от жирной или сухой земли он и здесь не может. Причем в самом буквальном значении слова «земля». Земля, которая всегда могила. Не грядка, не космический гигантский шар, а именно свежая или заброшенная могила, кладбищенская ограда.
Может быть, Бунин самый двоякосмотрящий зверь в русской литературе? Были же, есть двоякодыщащие рыбы. Вот Бунин и есть такой двоякосмотрящий тиктаалик русской прозы.
Он видит абсурд и не дающийся человеческому уму странный порядок жизни, который потом с наслаждением жизнь подчеркнет еще и социальным потрясением, после чего уже не все смогут оправиться. И пусть Бунин не сразу разглядел этот абсурд, не сразу нашел ключ (хотя какой может быть ключ у абсурда?), но когда он разгадал тот секрет без отгадки (просто есть тьма, она тут, бросай камешек чистой от жил и старческих пятен рукой, не бросай), то сразу увидел, что все зеркально. Это зеркало – и зеркало это, нет, не льстит, оно просто есть и тем пугает тебя больше всего. Потому что вот ты делаешь шаг – и выпадаешь из зеркала. А если тебя нет в зеркале – значит, тебя нигде нет. Ты живешь, как написал один из исследователей бунинских жизни и текста, только пока ты в пределах рамы. Но скоро тебе придется сделать шаг вне – и все закончится.
- Темнеет зимний день, спокойствие и мрак
- Нисходят на душу – и все, что отражалось,
- Что было в зеркале, померкло, потерялось…
- Вот так и смерть, да, может быть, вот так.
- В могильной темноте одна моя сигара
- Краснеет огоньком, как дивный самоцвет:
- Погаснет и она, развеется и след
- Ее душистого и тонкого угара.
- Кто это заиграл? Чьи милые персты,
- Чьи кольца яркие вдоль клавиш побежали?
- Душа моя полна восторга и печали —
- Я не боюсь могильной темноты.
Боитесь, Иван Алексеевич. Еще как боитесь.
В своем дневнике Бунин выделил однажды фразу Толстого – «Я как-то физически чувствую людей». И сразу же заметил: «Я все физически чувствую. Я настоящего художественного естества. Я всегда мир воспринимаю через запахи, краски, свет, ветер, вино, еду – и как остро, Боже мой, до чего остро, даже больно!»
Поэтому и больно – что вот придет, отнимет. «Ты кто?» – спросишь ты. Но мы уже знаем ответ. Тот же Толстой в своем арзамасском ужасе четко услышал имя. И никогда этот голос не сможет забыть.
Бунин – зверь. Зверю не объяснишь, что смерть – это естественно. Зверь чует свою ползущую через кусты смерть обостренно.
Он обладал необыкновенным чувственным восприятием мира, все земное, «реальное» ощущал почти с животной силой – отсюда огромная зрительная изобразительность, но все эти пейзажи, краски, звуки, запахи, – обладал почти звериной силой обоняния, – думаю, подавляли его в некоем смысле, не выпускали как бы из объятий.
Борис Зайцев
Двоякодышащее существо, двояковидящий полузверь-получеловек, раненый тиктаалик выползает на сушу, видит жизнь, чувствует смерть, его омывают сзади темные воды Мирового океана, а мордочка тиктаалика тянется к доисторическому небу. Интересно, какого оно было цвета? Неужели такое же, как мы его видим сейчас? Почему-то от этого становится особенно неуютно. Мы тоже так же посмотрим в последний раз на неизмененное и неизменное небо и не узнаем его. А потом умрем где-то под корягой – и однажды туда заползет непохожая на своих теперешних сестер древняя змея и уляжется спать на том, что осталось от нас. На наши полурыбьи, полурептильные косточки. «Ляг со мной», – перед смертью попросил Бунин Веру Николаевну. А тут не попросишь – сама приползет: смерть Морена Кащеевна, смерть Маржана Горыновна.
Бунин – со слов Ирины Одоевцевой:
Меня иногда красота пронзает до боли. Иногда я, несмотря ни на что, чувствую острое ощущение блаженства, захлестывающего, уносящего меня, даже и теперь. Такое с ума сводящее ощущение счастья, что я готов плакать и на коленях благодарить Бога за счастье жить. Такой восторг, что становится страшно и дышать трудно. Будто у меня, как, помните, у Мцыри, в груди пламя, и оно сжигает меня. Или нет. Будто во мне не одна, а сотни человеческих жизней. Сотни молодых, безудержных, смелых, бессмертных жизней. Будто я бессмертен, никогда не умру.
…Я пишу эту главу в апреле (уже не знаю, кто и когда ее будет читать). И вот вспомнил. Однажды, когда я был маленьким (кажется, это был второй класс), я пришел домой 2 апреля и сказал бабушке, открывшей дверь, что получил «два», кажется, по арифметике.
Что уж там переклинило в моей детской голове, теперь непонятно. Никакой двойки я не получал.
– Ну ничего, – сказала бабушка. – Завтра исправишь.
– С первым апреля! – радостно выкрикнул я.
– Сегодня второе, – ответила она. – Или ты думаешь, что можешь лгать теперь весь апрель?
Честно говоря, так я и думал. Можно лгать весь апрель. Такая вот невыносимая легкость бытия в апреле.
Ивану Бунину, наверное, казалось, что какой-то злой и глупый шутник так же его жестоко обманул. Перепутав все даты, все месяцы, все числа, он, дав человеку жизнь, не сказал сперва, не предупредил, что все кончится – рано или поздно. Ну, солгал, с кем не бывает.
«Тебе „два“, – сказал тот потом. – Тебе всегда будет „два“, даже если ты знаешь всё на „отлично“. Смерть придет и упразднит все твои лучшие оценки. Любовь упразднит, дар упразднит, саму жизнь. Ты думал, что ты бессмертен? Перечти тогда про арзамасский ужас Толстого».
- О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
- А счастье всюду. Может быть, оно —
- Вот этот сад осенний за сараем
- И чистый воздух, льющийся в окно.
- В бездонном небе легким белым краем
- Встает, сияет облако. Давно
- Слежу за ним… Мы мало видим, знаем,
- А счастье только знающим дано.
- Окно открыто. Пискнула и села
- На подоконник птичка. И от книг
- Усталый взгляд я отвожу на миг.
- День вечереет, небо опустело.
- Гул молотилки слышен на гумне…
- Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне.
«Всё в тебе, конечно. Тютчев ты наш. Ты же оттуда взял эту мысль? Помнишь?»
- Тени сизые смесились,
- Цвет поблекнул, звук уснул —
- Жизнь, движенье разрешились
- В сумрак зыбкий, в дальный гул…
- Мотылька полет незримый
- Слышен в воздухе ночном…
- Час тоски невыразимой!..
- Всё во мне, и я во всем!..
«Всё, конечно, в тебе. Но и смерть тоже. Поздравляю, Ванечка!»
…И вот «Ванечка», уже взрослый, смотрит на тень от дыма из паровоза (что еще может быть прозрачней, чем эта очевидная метафора?), которая бежит по полям (метафора бежит? Тень от дыма? Что там бежит?), смотрит на круглые белые клубы его, тающие в блестящем воздухе, и говорит: «Какая это большая радость – существовать. Только видеть, хотя бы видеть лишь один вот этот дым и вот этот свет. Если бы у меня не было рук и ног ‹…› и я бы только мог сидеть за калиткой на лавочке и смотреть на заходящее солнце, то это не мешало бы мне быть счастливым. Одно нужно: только видеть и дышать».
У уже упомянутого Тютчева было («у-у-у-у» – как будто говорит в этой моей неловкой фразе качающий головой, недовольный моей фонетической глухотой звук):
- Как дымный столп светлеет в вышине!
- Как тень внизу скользит неуловима!..
- «Вот наша жизнь, – промолвила ты мне, —
- Не светлый дым, блестящий при луне,
- А эта тень, бегущая от дыма…»
«Ванечка» Бунин мог бы под этим пятистишием подписаться.
2
Жизнь наоборот, у-у-у-у, жизнь наоборот. О, как бы я хотел тоже начать жить в прошлое. Обратно отматывая дни. Не сделать тех ошибок, неловкостей, измен, которые сделал. Не ударить людей словами, сколько раз я ударил. Не сказать «да», когда говорил, а не надо было. Не сказать «нет». Как бы я хотел прожить жизнь в обратном порядке.
Нет, на самом деле не хотел бы.
И все же мне не дает покоя этот страх Бунина перед смертью. Отчего так? Зачем?
Ведь без смерти все становится бессмысленным.
Он писал: «Я именно из тех, которые, видя колыбель, не могут не вспомнить о могиле. Поминутно думаю: что за странная и страшная вещь наше существование – каждую секунду висишь на волоске!»
Ну и отлично.
Так и надо.
Ты же писатель – соберись, смертный ангел.
Чего будут стоить все наши дни, если нам будет умирать не больно (зачеркнуто), если нам умирать не придется?
…Вера Николаевна и еще несколько человек входят в столовую и садятся вокруг стола. Потом она вспомнит эти минуты как жуткие.
Она сказала: «Дайте мне собраться с силами», – и все минуты три молчали.
Через три минуты она вспомнит слова Бунина (Яна, как она его называла): «Главное, ты не растеривайся, помни, где мое завещание, как меня хоронить…»
Он хотел, чтобы его сожгли, но сделал мне уступку. И, собрав все свои силы, я сказала: «Что же нам теперь делать?» Было три часа ночи. Зёрнов сказал, что он может закостенеть, и предложил его одеть. И мы принялись за работу. Я, конечно, меньше делала, чем Вл. Мих. и Берта Соломоновна. Я обтерла его одеколоном. Затем стали обряжать его. Все самое новое. Пришлось открыть черный «нобелевский» сундук, где хранились его костюмы.
Интересно, каким одеколоном обтирала Бунина Вера Николаевна?
Наверное, «Кельнской водой».
Там много цитруса. Именно им «освежали» после бритья в парикмахерских. Когда пришла война (и первая, и вторая), часто на фронте его использовали как обеззараживающее средство.
Или там был цветочный и древесный запах?
Теперь Бунин пах либо цитрусом, либо деревом и цветком.
Вряд ли ему бы это понравилось. Он так сильно понимал запахи.
Был однажды с первой своей женой, поехали они с ней к ее друзьям, на дачу под Одессой, все цветет, пахнет. А он говорил всегда:
У меня в молодости было настолько острое зрение, что я видел звезды, видимые другим только через телескоп. И слух поразительный – я слышал за несколько верст колокольчики едущих к нам гостей и определял по звуку, кто именно едет. А обоняние – я знал запах любого цветка и с завязанными глазами мог определить по аромату, красная это или белая роза. Это было какое-то даже чувственное ощущение.
И тут представилась возможность это проверить.
И вот выходит он в сад, вечером, и чувствует: «тонко, нежно и скромно, сквозь все пьянящие, роскошные запахи южных цветов тянет резедой».
«А у вас есть тут резеда», – говорит хозяйке.
Та его на смех подняла. Нет, говорит, никакой резеды. Пусть у вас и нюх, как у охотничьей собаки, но вы ошибаетесь, Ваня. Розы, олеандры, акации и мало ли что еще, но только не резеда. Спросите садовника.
Тогда Бунин предлагает пари. Пятьсот рублей. Жена возмущается: «Проиграешь!»
Но пари все же состоялось. И я выиграл его. Всю ночь до зари во всех клумбах – а их было много – искал. И нашел-таки резеду, спрятавшуюся под каким-то широким, декоративным листом. И как я был счастлив! Стал на колени и поцеловал землю, в которой она росла. До резеды даже не дотронулся, не посмел, такой она мне показалась девственно невинной и недоступной. Я плакал от радости.
В общем, «Ваня» не ошибся.
- Дождь прошел. Уж не трепещет
- Тучка молнией-грозой.
- Посмотри, как небо блещет
- Сквозь деревья бирюзой!
- От кустов ложатся тени,
- А цветы полны водой;
- Пахнет свежестью сирени,
- Сладко пахнет резедой.
- Точно замер пруд широкий;
- Как в зеркальном серебре,
- Отразились в нем глубоко
- Избы, ивы на горе.
- А вдали уже алеет
- Свет заката, – и теплом
- Ночь в окно порою веет,
- Точно ласковым крылом.
Это вам не Анна Ахматова. Было у нее раннее стихотворение: она любила все эти детали, Гумилев научил, все-таки акмеизм.
- Я на солнечном восходе
- Про любовь пою,
- На коленях в огороде
- Лебеду полю.
- Вырываю и бросаю —
- Пусть простит меня.
- Вижу, девочка босая
- Плачет у плетня.
- Страшно мне от звонких воплей
- Голоса беды,
- Всё сильнее запах теплый
- Мертвой лебеды.
Однажды, уже в возрасте, где-то в Комарове сказала Лидии Чуковской: «Ну покажите хоть, как она выглядит, лебеда-то эта?» Иван Алексеевич знал – и как выглядит лебеда, и как пахнет резеда. Просто так не рифмовал.
…Мы только тени, любовь моя, только тени. Тени лебеды, которой мы не знаем, тени резеды, просто тени.
Как в античном Аиде, скользим, не задевая. Тени не больно. Больно только полоске света, прищемленной дверьми. Да и то если верить Андрею Вознесенскому.
У Федора Сологуба (которого, к слову сказать, Бунин не любил – «вымученная, искусственная выдумка Сологуба», – хотя, как известно, он мало кого любил, но об этом позже и еще не раз) был рассказ – «Свет и тени».
Там двенадцатилетний гимназист Володя Ловлев в ожидании обеда стоит в гостиной и вдруг у рояля видит серую книжечку, на одной из страниц которой – картинки. Голова барышни, бык, белка, ослик. Всех их можно сложить пальцами, если правильно поставить лампу, отразить тени пальцев на обойной стене. Но сейчас день – это не время для теней, их время – вечер, ночь.
Мальчик берет эту книжку с собою – и скоро он с головой уйдет в этот странный театр. И мать свою за собой уведет.
Рассказ Сологуба закончится тревожно, как-то нехорошо.
Пройдет недолгое время, и вот снова очередной вечер с крýгом горящей лампы, и полоска света из другой комнаты прищемлена дверью: Володя с мамой сидят перед лампой и делают странные движенья руками. На стене – привычные, дорогие сердцу образы: головка барышни, белка, ослик и бык. Какие-то люди. «Володя и мама понимают их. Они улыбаются грустно ‹…›. Лица их мирны, и грезы их ясны, – их радость безнадежно печальна, и дико радостна их печаль. В глазах их светится безумие, блаженное безумие. Над ними опускается ночь».
Я уже не помню, кто рассказал, но в черновиках у меня есть история.
Кто-то из моих знакомых стоит у окна и смотрит на ночной заснеженный двор. Там медленно движется силуэт. Он кажется вырезанным из черного картона или тенью. Куртка, острый капюшон. Силуэт движется медленно. Даже сперва кажется, что этот силуэт выгуливает собаку. Но нет никакой собаки. И все равно чудится, что этот силуэт не один.
И тут наблюдающий понимает, что двигающийся в квадрате снежного ночного двора действительно не один. Вдруг, как во сне, он начинает трепетать и двоиться. Потом и вовсе распадается на две темные половины.
«И я понимаю, – шепчет мой безымянный чужой черновик, – что рядом шла вторая тень, чуть пониже, но одетая примерно так же. Куртка, капюшон, джинсы. Это девушка».
И все равно из окна кажется, что там просто разделилось некое ночное призрачное существо. Два силуэта стоят сперва развернутые в одну сторону, профиль к профилю. Потом поворачиваются друг к другу и становятся похожими на два дерева под порывами ветра. Кренятся то в одну, то в другую сторону, и вдруг – навстречу. Так бывает, когда неожиданный виток ветра кренит кроны в своем потоке. Это так странно и так похоже на мультфильм, на спектакль, что сначала даже не понимаешь, что это поцелуй. Не объятие, просто сближение их капюшонов. Приезжает снежная машина, собирающая сугробы. И страшно, что она и эти тени унесет тоже, и останется только асфальт. Но она уезжает, а сугроб и два силуэта остаются.
Девушка отстраняется, стряхивая капюшон, и стоит, как стоят, когда скрывают слезы. Потом опять разворачивается, и снова они становятся единой колонной, как темный колышущийся кустарник. А потом приходит такси. И девушка садится в машину. А оставшаяся половина поднимает руку, прощаясь.
«Было понятно, что у этой пары нет дома, но почему-то осталось чувство чужого и яркого счастья».
Мы тени, любовь моя, только тени. И нам не больно.
Или не тени. А след от ботинка, заполненный водой. Да-да, мы помним: камин затопить и хорошо бы собаку купить. Почему-то в юности эти строчки казались особенно прекрасными.
- И ветер, и дождик, и мгла
- Над холодной пустыней воды.
- Здесь жизнь до весны умерла,
- До весны опустели сады.
- Я на даче один. Мне темно
- За мольбертом, и дует в окно.
- Вчера ты была у меня,
- Но тебе уж тоскливо со мной.
- Под вечер ненастного дня
- Ты мне стала казаться женой…
- Что ж, прощай! Как-нибудь до весны
- Проживу и один – без жены…
- Сегодня идут без конца
- Те же тучи – гряда за грядой.
- Твой след под дождем у крыльца
- Расплылся, налился водой.
- И мне больно глядеть одному
- В предвечернюю серую тьму.
- Мне крикнуть хотелось вослед:
- «Воротись, я сроднился с тобой!»
- Но для женщины прошлого нет:
- Разлюбила – и стал ей чужой.
- Что ж! Камин затоплю, буду пить…
- Хорошо бы собаку купить.
Впрочем, пусть это лирическое отступление тоже истает тенью – вернемся в комнату, где умирает Бунин, мы же договорились, что ведем обратный отсчет, и я буду об этом часто напоминать, а то текст двоится, троится, пытается улизнуть на боковые тропинки – текст любит такие фокусы. А жизнь любит рифмы.
В общем, одно легкое Бунина уже не работало, а во втором плохо рассасывался «фокус». (А вот тебе и рифма. Фокус-покус. На самом деле хокус-покус: «Хокус-покус для юношества: искусство ловкости рук». «Hocus pocus junior. The anatomy of leger-demain».)
И что-то было не то с анализом крови. Бунин сказал: «Душа с телом расстается».
Вера Николаевна все приставала к нему с расспросами, а он стонал, но не объяснял.
«Я говорила: „Ведь ты умеешь это делать, отчего молчишь?“ Не хотел меня пугать».
Да что там объяснять? Душа начинает расставаться с телом – а тело не хочет ее отпускать.
Доктор, вызванный по телефону 8 ноября 1953 года, вечером определит, что конец близок: пациент задыхается, сердце ослабело. Доктор сделает все необходимые впрыскивания, попытается успокоить больного (как будто тут можно чем-то успокоить, это как успокаивать человека, стоящего на краю крыши высоченного многоэтажного дома без страховки: «Сейчас ты полетишь»), пообещает Вере Николаевне приехать позже, если понадобится, – и это, разумеется, понадобилось: ночью его вызывают снова. Но когда доктор приедет, Бунин будет уже мертв.
Тут очень ранит деталь: на шею покойного Вера Николаевна повязывает шарфик.
«Я знаю, – скажет она, – ему было бы приятно, этот шарфик ему подарила…» – и она называет женское имя.
Она не захочет, чтобы кто-то видел его лицо после смерти, – и закроет ему лицо платком. Но для доктора делает исключение.
…Она приоткрыла платок с лица покойника, и я в последний раз увидел красивое лицо, ставшее вдруг чужим и спокойным, точно он что-то увидел, что разрешило ему ту загадку смерти, которая мучила его в жизни.
3
Иногда смотришь на людей, и они тебе кажутся прозрачными, и ты как будто видишь, что там у них внутри, в душе, плещет. Как у той ведьмы Гоголя, которая затесалась в хор ночных прозрачных утопленниц, но что-то у нее внутри чернеет. Может, эта загадка смерти и была тем, что так мучило Бунина, – и поэтому он тоже все время выглядывал в человеке: что же там конкретно темнеет в нем?
Мы тоже так делаем, и это часто несправедливо – но такая уж у нас всех мизантропия. Но Бунин тут, конечно, превзошел всех нас, вместе взятых, даже стал интернет-мемом. («Я ничего не понимаю в кранах, – говорю я продавцу в отделе сантехники, – мне тут написали, что я должен купить, вы мне поможете?» Где я, а где краны? «А то я пишу книгу про Бунина, а у меня как раз кран потек», – продолжаю жаловаться я. «А, это тот, который всех поливал?» – вдруг радуется продавец. Где кран, а где Бунин?)
Мы все помним, что он говорил.
О Куприне (хотя вроде дружили):
Перечитываю Куприна. Какая пошлая легкость рассказа, какой дешевый бойкий язык, какой дурной и совершенно не самостоятельный тон.
Бунин сам признавал неровность их взаимоотношений – правда, перевел тут фокус («фокус-покус») с себя на товарища:
Странно вообще шла наша дружба в течение целых десятилетий: то был со мной весел, нежен, любовно называл Ричардом, Альбертом, Васей, то вдруг озлоблялся, даже трезвый: «Ненавижу, как ты пишешь, у меня от тебя в глазах рябит, одно ценю: ты пишешь отличным языком, а кроме того – чудесно верхом ездишь…»
Вера Николаевна, тоже переводя стрелки на Куприна и привлекая для сравнения авторитет самого Достоевского, писала:
…Отношения Куприна к Бунину были очень непростые, тут понадобился сам Достоевский, чтобы все понять. Диапазон был большой: от большой нежности к раздраженной ненависти, хотя в Париже все было смягчено.
Но ужалить (укусить) Бунин мог, как та змея, которой он сам так страшился.
Любивший иногда хваcтаться своим дворянским происхождением, как-то сострил за столом, когда разговор зашел о родовитости, на реплику Куприна, что и у того мать была княжна Кулунчакова: «Да, но ты, Александр Иванович, дворянин по матушке».
Куприн побледнел, взял со стола серебряную чайную ложку и стал сжимать ее в руках до тех пор, пока она не превратилась в бесформенный комок. После чего молча швырнул все, что осталось от ложки, в противоположный угол комнаты.
Забыть неудачную остроту Куприн Бунину уже не смог.
Известная пародия на Бунина «Пироги с груздями» у Куприна начинается так:
Сижу я у окна, задумчиво жую мочалку, и в дворянских глазах моих светится красивая печаль. Ночь. Ноги мои окутаны дорогим английским пледом. Папироска кротко дымится на подоконнике. Кто знает, может быть, тысячу лет тому назад так же сидел и грезил и жевал мочалку другой, неведомый мне поэт?
А заканчивается такими двумя абзацами (ну а что? И правда, смешно, там даже условная «резеда», которую так тонко мог уловить в воздухе Бунин, мелькнет, только уже под видом других цветов):
Я возвращаюсь в свою печальную комнату. Из сада пахнет дягилем и царскими петушками. Меланхолично курлыкает на пряслах за овинами бессонная потутайка. Отчего у меня болит живот? Кто знает? Тихая тайная жалость веет на меня незримым крылом.
Все в мире непонятно, все таинственно. Скучный, вялый и расслабленный, как прошлогодняя муха, подхожу я к двери, открываю ее и кричу в зловещую темноту:
– Марфа, иди сюда!.. Натри меня на ночь бобковой мазью…
Счет «один-один», как сказал бы какой-нибудь футбольный болельщик.
Но и всех остальных Бунин даже не пробует, не пытается пожалеть.
О «Петербурге» Белого Бунин вроде бы говорил: «Ничтожно, претенциозно и гадко».
Судя по записям в дневнике, Бунин вообще не переносил Белого. Есть у него, в частности, и такое:
Ходил к Шестовым. Дождь, пустые темные рабочие кварталы. Он говорит, что Белый ненавидит большевиков, только боится, как и Ремизов, стать эмигрантом, отрезать себе путь назад в Россию. «Жизнь в России, – говорит Белый, – дикий кошмар. Если собрались 5–6 человек родных, близких, страшно все осторожны, – всегда может оказаться предателем кто-нибудь». А на лекциях этот мерзавец говорит, что «все-таки» («несмотря на разрушение материальной культуры») из России воссияет на весь мир несказанный свет.
Не щадит и Алексея Толстого, хотя сперва относился к нему неплохо:
Кончил «Восемнадцатый год» А. Толстого. Перечитал? Подлая и почти сплошь лубочная книжка. Написал бы лучше, как он сам провел 1918 год! В каких «вертепах белогвардейских»! Как говорил, что сапоги будет целовать у царя, если восстановится монархия, и глаза прокалывать ржавым пером большевикам… Я-то хорошо помню, как проводил он этот год, – с лета этого года жили вместе в Одессе. А клуб Зейдемана, где он был старшиной, – игорный притон и притон вообще всяких подлостей!
Так Бунин говорит о второй части трилогии «Хождение по мукам». Хотя раньше он и отмечал у Толстого редкую талантливость, и даже называл первоклассным работником[1], но простить тому возвращение в 1923 году на родину и популярность в Советском Союзе, по-видимому, не смог.
Константин Симонов, встречавшийся с Буниным в Париже, потом запишет:
После ‹…› предварительного злого пассажа в адрес Толстого Бунин много и долго говорил о нем. И за этими воспоминаниями чувствовалось все вместе: и давняя любовь, и нежность к Толстому, и ревность, зависть к иначе и счастливей сложившейся судьбе, и отстаивание правильности своего собственного пути.
И все-таки, справедливости ради, придется признать: когда в 1935 году Бунин прочтет начальные главы «Петра I», то отправит записку в редакцию «Известий» (тут опять много вопросов: в «Известия»? Эмигрант Бунин? Советскому теперь писателю Алексею Толстому? А не опасно ли было так делать?): «Алешка, хоть ты и сволочь, мать твою, но талантливый писатель. Продолжай в том же духе».
Впрочем, доставалось от злого языка Бунина не только современникам.
В 1944 году Бунин перечитывает Гоголя и пишет о нем в дневниках резкое:
Нестерпимое «плетение словес», бесконечные периоды. «Портрет» нечто соверш[енно] мертвое, головное. Начало «Носа» патологически гадко – нос в горячем хлебе!
Бедный Гоголь прочел сразу же где-нибудь на небесах (рукописи-то не горят), что Бунин счел возможным сказать про его незавершенный роман «Рим»: «Задыхаешься от литературности и напыщенности». Нос Гоголя покраснел от досады где-то в райских кущах и даже чихнул.
Николай Васильевич, дорогой, вы же хороший, не зовите под ваше райское древо Федора Михайловича, не давайте ему запретный плод бунинских дневниковых записей. А то Федор Михайлович проиграется потом в небесных казино в пух и прах (ангельский пух и бывший земной прах) – от послесмертной досады.
Понемножку читал эти дни «Село Степанчиково». Чудовищно! Уже пятьдесят страниц – и ни на йоту, все долбит одно и то же!..
И там же:
Пошлейшая болтовня, лубочная в своей литературности!
Но вот, кажется, невозможное: ну не мог Бунин не ценить Чехова, они же так близки серебристой (я сначала написал «замшевой», но стер – замша не из нитей, а они мне потребуются через шесть слов) изнанкой своей прозы, она из похожих нитей плетена, что-то есть в их словах родственное, к тому же в молодости Бунин Чехова любил и ставил очень высоко. Они ведь почти дружили, переписывались, периодически встречались, Бунин даже писал про Чехова книгу (правда, не дописал). Однако:
Сколько чепухи, нелепых фамилий сколько записано – и вовсе не смешных и не типичных – и какие всё сюжеты! Всё выкапывал человеческие мерзости! Противная эта склонность у него, несомненно, была.
(Вот оно, то, что чернеет, темнеет – в том числе и внутри Чехова.)
Не очень нравится ему и «Дядя Ваня». «В общем, плохо. Читателю на трагедию этого дяди, в сущности, наплевать». А пьесу «Вишневый сад» Бунин и вовсе называет самым плохим чеховским произведением.
Хотя лучшее про «море было большое» подарил нам в память о Чехове именно Бунин.
Я поблагодарил за приглашение, и мы молча прошли всю набережную и сели в сквере на скамью.
– Любите вы море? – сказал я.
– Да, – ответил он. – Только уж очень оно пустынно.
– Это-то и хорошо, – сказал я.
– Не знаю, – ответил он, глядя куда-то вдаль сквозь стекла пенснэ и, очевидно, думая о чем-то своем. – По-моему, хорошо быть офицером, молодым студентом… Сидеть где-нибудь в людном месте, слушать веселую музыку…
И, по своей манере, помолчал и без видимой связи прибавил:
– Очень трудно описывать море. Знаете, какое описание моря читал я недавно в одной ученической тетрадке? «Море было большое». И только. По-моему, чудесно.
Ну а про декадентов-современников лучше и не говорить. Их в дневниках Бунин сильно недолюбливал, хотя в реальной жизни общался и как будто опять-таки дружил. (Удивительная эта способность – разводить свои «дневную» и «ночную», дневниковую, стороны.)
Так, например, о Зинаиде Гиппиус:
Перечитываю стихи Гиппиус. Насколько она умнее (хотя она, конечно, по-настоящему не умна и вся изломана) и пристойнее прочих – «новых поэтов». Но какая мертвяжина, как все эти мысли и чувства мертвы, вбиты в размер!
А попозже и совсем припечатал:
Дочитал Гиппиус. Необыкновенно противная душонка, ни одного живого слова, мертво вбиты в тупые вирши разные выдумки. Поэтической натуры в ней ни на йоту.
Еще называл ее стихи «электрическими».
(Однако удивительная вещь. Мы уже вспомнили, что Бунин не терпел, ненавидел похороны. Даже родителей в последний путь не проводил. Но Зинаиде Николаевне была оказана особая честь: когда Зинаида Гиппиус в 1945 году умерла, Бунин не отходил от ее гроба ни на минуту, все время его с ней прощания.)
И только Льву Николаевичу в этом «пантеоне» дневниковых записей выпала неразменная золотая монета удачи – его Бунин почти не ругал.
В том-то и дело, что никому, может быть, во всей всемирной литературе не дано было чувствовать с такой остротой всякую плоть мира прежде всего потому, что никому не дано было в такой мере и другое: такая острота чувства обреченности, тленности всей плоти мира, – острота, с которой он был рожден и прожил всю жизнь. Chair a canon, «мясо», обреченное в военное время пушкам, а во все времена и века – смерти!
Так вот опять этот гладкий камешек, что, оказывается, он в «своем» (и «нашем») Толстом любил. Чувствовал через текст кожей, рукой своей всей, чистой, сильной и маленькой, чувствовал. Никак не хотел отпустить.
В одном из своих интервью он даже сказал: «Для меня был богом Л.Н. Толстой».
(Ну, богом не богом, но немного укусил и Толстого. Последняя часть «Карениной» Бунину не нравилась:
…Слаба, даже неприятна немного; и неубедительна. Помнится, и раньше испытывал то же к этой части… Дочитал «Каренину». Самый конец прекрасно написан. Может быть, я ошибаюсь насчет этой части. Может быть, она особенно хороша, только особенно проста?
А однажды даже сказал, что отредактировал бы эту толстовскую вещь. То есть убрал бы из Толстого «слишком Толстого». Сделал бы ее по-бунински. Даже смешно. Отредактированный бог. Хорошее, кстати, название для какой-нибудь части книги. Но в моей книге нет никаких названий для главок – только медленно тикающие, как у заторможенного Белого Кролика в «Алисе в стране чудес», часики: цифры.)
4
Итак, Вера Николаевна и еще несколько человек входят в столовую и садятся вокруг стола. Она позже скажет про эти минуты, что они были «жуткие».
Они садятся вокруг стола, и она попросит: «Дайте мне собраться с силами». Потом минуты три все молчат.
Минута первая.
Наверное, она могла вспомнить, как около десяти вечера они остались вдвоем. Бунин попросил ее почитать ему письма Чехова. «…Мы вторично прочитывали их, и он говорил, что нужно отметить. ‹…› Дочитала до письма к В.Н. Ладыженскому 4 февраля 1899 года».
Нам интересно, что это за письмо. Какой последний текст жил для уже умирающего Бунина.
Вот оно:
В.Н. ЛАДЫЖЕНСКОМУ
4 февраля 1899 г. Ялта.
Милый друг Владимир Николаевич, член губернской земской управы, здравствуй! Vive monsieur le membre d'hôtel de zemstvo gouvernemental!! Vive la Penza! Vive la France!
Большое тебе спасибо, что вспомнил и прислал письмо. Ты не ошибся, здешние почтальоны знают меня и аккуратно доставили письмо твое по адресу: Ялта. И впредь пиши по этому адресу. Вполне достаточно. Я в Ялте, по-видимому, поселюсь здесь и уже строю себе дачу для зимовок, и уже приглашаю к себе приятелей и друзей, и даю при этом клятву, что на своей крымской даче я не буду заниматься виноделием и поить своих друзей красным мускатом, от которого на другой день рвет. Не подумай, что я намекаю на Тихомирова, это я вообще. Зимою я буду жить в Ялте, летом же, начиная с апреля, в Серпуховском уезде, в Мелихове. Итак, приезжай в Мелихово: там, обедая, я приглашу тебя в Крым. Караси мои здравствуют и уже настолько созрели, что хочу дать им конституцию.
Здоровье мое довольно сносно; все еще не женат и все еще не богат, хотя Маркс и купил мои произведения за 75 тыс‹яч›. Возникает вопрос: где деньги? Их не шлют мне, и, по-видимому, мой поверенный Сергеенко пожертвовал их на какое-нибудь доброе дело или, по совету Л.Н. Толстого, бросил их в печь.
Вукол здесь, собирается тебе писать. Он здравствует и держится бодро. Третьего дня он приготовлял собственноручно макароны, варил их в двух бульонах, вышло очень вкусно. Говорит, что уедет не скоро, не раньше поста.
Я рад, что ты организуешь книжный склад и повторительные курсы. Все-таки доходишка. На одно жалованье нынче не проживешь. Пришли и нам с Вуколом чего-нибудь, например битых гусей. Служи беспорочно, помни присягу, не распускай мужика, и если нужно, то посеки. Всякого нарушителя долга прощай как человек, но наказывай как дворянин.
Ну, будь здоров, счастлив и удачлив в делах своих. Не забывай, пиши, пожалуйста, пиши, памятуя, что живу я в чужой стороне не по своей воле и сильно нуждаюсь в общении с людьми, хотя бы письменном. Буду ждать посвященную мне вещь.
Ну-с, жму руку.
Твой А. Чехов.
Адрес Вукола:
Ялта, д. Яхненко.
Зачем это письмо Бунину? Что ему за дело, сейчас уходящему, ему, которого всего «уж тени покрывали», что ему за дело до всех этих макарон в двух бульонах, до битых гусей, до Льва Толстого, до конституции карасей?
Или это письмо так и не было прочитано вслух? «Дочитала до…»
Смерть – она странная, у нее свои игры с забираемыми.
Сразу по упомянутому последнему чтению вспомнилась история смерти самого уже Чехова.
Он ведь умирал в Баденвайлере, в ночь с 14 на 15 июля 1904 года, в гостинице. И к нему тоже вызвали врача. Когда врач прибыл, то поднялся на второй этаж, плохо освещенный, и тут и увидел Чехова. Возможно, не говорящий по-русски врач даже не знал, кто это такой, этот Tschechow.
Врач никогда не узнает о том, что в этом вре́менном пристанище, в своем номере, постоялец до его прихода сильно метался в бреду, разговаривая в ярком тумане с каким-то японским матросом, и вдруг несколько раз явственно повторил слово «устрицы».
Потом, когда резко очнулся, сам и послал за врачом.
Но что это было? Откуда там – в этом тумане – взялись непонятные устрицы? Какие-то дурные рифмы судьбы, о которых Чехову будет уже не узнать.
Доктор приедет и сразу станет его успокаивать, как будто тут можно хоть кого-нибудь, повторим мы в который раз, успокоить; потом попросит принести шампанского.
Чехов сразу все понял. «Я умираю». Он этого не сказал, но, скорее всего, так подумал. Чехов же врач, и он знал эту традицию.
«У постели умирающего коллега-врач непременно предложит шампанского, чтобы сделать уход того более легким и светлым».
Чехов выпьет шампанское, скажет, что давно этого не делал, повернется – и вот Чехов умер.
В этот момент Ольга Леонардовна даже не заметит, что он перестал дышать. (Потом так же произойдет и с Буниным. Точного времени его ухода любящая женщина не почувствует – мы и не должны этого: слишком уж любим.)
И тут в комнату невесть откуда влетит сумасшедшая бабочка: огромная, черная и ночная. Она и станет судорожно метаться тревожной тенью, обжигая крылья о стекло электрической лампочки. Ольга Леонардовна примется ее выгонять. Как будто это смерть, но, может, это просто душа Чехова обернулась бабочкой? И именно ее и выгоняла тогда ничего не подозревающая О.Л.?
Но шампанское, бабочка – тут как раз все понятно. Но эти устрицы, устрицы, привидевшиеся в ярком тумане, весь этот повтор судьбы – вот что было удивительным, как будто специально написанным каким-то небесным прозаиком.
Как мы все помним, Чехова привезли хоронить из Баденвайлера, маленького курортного городка на юге Германии, в Москву в вагоне для устриц. Там, в вагоне, был лед. Чехов же умер летом, 15 июля, а везти было долго, других холодильников двадцатый век еще не придумал. Но все равно это какой-то бунинский «Господин из Сан-Франциско».
И эти устрицы всем долго еще не давали покоя. Например, Горький писал:
Я так подавлен этими похоронами, ‹…› хожу, разговариваю, даже смеюсь, а на душе – гадко, кажется мне, что я весь вымазан какой-то липкой, скверно пахнущей грязью, толстым слоем облепившей и мозг, и сердце. Этот чудный человек, этот прекрасный художник, всю свою жизнь боровшийся с пошлостью, ‹…› Антон Павлович, которого коробило все пошлое и вульгарное, был привезен в вагоне «для перевозки свежих устриц» и похоронен рядом с могилой вдовы казака Ольги Кукареткиной.
Видим, что досталось и Кукареткиной. Ничего никому плохого, возможно, не сделала: жила как умела, выгоняла ночных бабочек, иногда по праздникам выпивала недорогого «шипучего», в обычные дни стряпала у плиты; была, вероятна, верна мужу, родила ему много детей, потом муж умер, потом и она умерла – и стала поводом для устного фельетона. Всего лишь из-за смешной фамилии. «…И похоронен рядом с могилой вдовы казака Ольги Кукареткиной».
Но даже Кукареткиной этих устриц, как тему, не побороть, не переплюнуть. Этих несчастных устриц, точнее, вагон для них.
Мне положительно нечего делать, и я думаю только о том, что бы мне съесть и что выпить, и жалею, что нет такой устрицы, которая меня бы съела в наказание за грехи.
Так написал Чехов в письме врачу Николаю Оболонскому 5 ноября 1892 года (вот это письмо и было бы кстати – для прощального чтения Бунину вслух, но нет, письмо было про Вуколу, карасей и «не распускай мужика»), написал и еще не знал, что эти устрицы придут провожать его в белом предсмертном тумане – за все существующие и несуществующие его, чеховские, грехи. Это, конечно, очень важно – как мы уходим. Последняя точка. Жаль, что именно ее мы не успеем прочитать и поставить. Так и умрем – с незаконченным предложением.
Минута вторая.
Возможно, Вера Николаевна могла вспомнить (хотя, скорее всего, просто сидела и думала в очевидном душевном окостенении: «Нет его, нет, умер, умер»), как «Ян» ей сказал в момент чтения того самого чеховского письма: «Ну довольно: устал».
«Ты хочешь, чтобы я с тобой легла?» – спросила она.
«Да…»
Она пошла раздеваться, накинула легкий халатик.
Он стал звонить (видимо, в колокольчик – или там сделали специальную кнопку?): «Что ты так долго?»
И дальше произойдет то, что меня всегда поражало.
«Но ведь нужно и умыться, и кой-что было сделать в кухне».
Человек умирает, а мы еще делаем наши бессмысленные, автоматические дела. Убираем что-то на кухне, чистим зубы, моем лицо.
Затем, это было 12 часов, я, вытянувшись в струнку, легла на его узкое ложе. Руки его были холодные, я стала их согревать, и мы скоро заснули. Вдруг я почувствовала, что он приподнялся, я спросила, что с ним. «Задыхаюсь», «Нет пульса… Дай солюкамфр». Я встала и накапала двадцать капель… «Ты спал?» – «Мало. Дремал»… «Мне очень нехорошо». И он все отхаркивался. «Дай я спущу ноги». Я помогла ему. Он сел на кровать. И через минуту я увидала, что его голова склоняется на его руку. Глаза закрыты, рот открыт. Я говорю ему – «Возьми меня за шею и приподнимись, и я помогу тебе лечь», но он молчит и недвижим…
Конечно, в этот момент он ушел от меня… Но я этого не поняла и стала умолять, настаивать, чтобы он взял меня за шею. Попробовала его приподнять, он оказался тяжелым. И в этот момент я не поняла, что его уже нет. Думала, обморок. Я ведь в первый раз в жизни присутствовала при смерти[2].
(Она, как и Ольга Леонардовна, не заметила сам момент перехода.)
Но оказалось, что умер не только Бунин, но еще и телефон. Она кинулась в другую комнату, схватила аппарат, перенесла в кабинет, а он мертвый.
Тогда я побежала на седьмой этаж к нашему близкому знакомому… Стучу и громким шепотом умоляю: «Николай Иванович, кажется, Иван Алексеевич умирает…» Он вышел в халате и сказал, что сейчас придет. Я опрометью кинулась к себе. Ян был в той же позе. Взяла телефон, не реагирует… В это время вошел Н.И. Введенский, и мы подняли и положили Ивана Алексеевича на постель. Но и тут мне еще не приходило в голову, что все кончено. Я кинулась к Б.С. Нилус, которая живет напротив нас. Мне было неприятно беспокоить ее, так как она сама нездорова, но я все же позвонила. Она сейчас же проснулась, и я кинулась к телефону, но телефон не работал. ‹…› Телефон вдруг очнулся, и я позвонила: «Владимир Михайлович, вы необходимы!»
И вот телефон жив, а Бунин нет.
Они пытаются с Б.С. Нилус отогреть его холодные руки и ноги, у самой Веры Николаевны уже почти нет надежды, но Нилус все время повторяет: «Он теплый, спина, живот, только руки, руки холодные…»
Кипятят воду, кладут грелки к конечностям. Все бесполезно. Черная бабочка уже улетела.
Дверь входная открыта, в ее проеме появляется с испуганными глазами бледный Зёрнов, проходит прямо в комнату Бунина. Вера Николаевна почему-то остается стоять в столовой.
Через минуту он выходит. «Все кончено». Она идет к постели. «А вы прикладывали зеркало?..» – «Не стоит…» (Вот оно и еще раз тут появилось – зеркало.)
Минута третья.
Это ведь никак не доказать, это всего лишь прием (разделить эти три минуты на вспышки, пятна воспоминаний), но почему-то кажется, что третью минуту Вера Николаевна уже ничего не вспоминала, даже не хотела помнить. Жизнь остановилась, покачнувшись, и вот опять пошла. Третья минута могла быть этим переходом, коридором. Туман, белый яркий туман, только он не предсмертный, а преджизненный – перед новой жизнью, уже «без», но надо из него выходить: еще столько дел.
На рассвете первой ночи мы встретили густой туман, который закрыл горизонты, задымил мачты и медленно возрастал вокруг нас, сливаясь с серым морем и серым небом. ‹…› Туман тесно стоял вокруг, и было жутко глядеть на него. Среди тумана, озаряя круглую прогалину для парохода, вставало нечто подобное светлому мистическому видению: желтый месяц поздней ночи, опускаясь на юг, замер на бледной завесе мглы и, как живой, глядел из огромного, широко раскинутого кольца. И что-то апокалиптическое было в этом круге… что-то неземное, полное молчаливой тайны, стояло в гробовой тишине, – во всей этой ночи, в пароходе, и в месяце, который удивительно близок был на этот раз к земле и прямо смотрел мне в лицо с грустным и бесстрастным выражением[3].
5
Анна Ахматова не любила Бунина. Он тоже ее не любил.
- Любовное свидание с Ахматовой
- Всегда кончается тоской:
- Как эту даму ни обхватывай,
- Доска останется доской.
Это эпиграмма Бунина. Правда, кажется, она известна только в прочтении самой Ахматовой – в собрании сочинений Бунина она не печаталась.
Более того, есть два варианта этой эпиграммы. Михаил Кралин утверждал, что Анна Андреевна также читала эту эпиграмму и Арсению Тарковскому, но запомнил тот ее в несколько ином варианте:
- Увы, но от любви Ахматовой
- Ты все ж откажешься с тоской.
- Как ни люби, как ни обхватывай,
- Доска останется доской.
Первый вариант, конечно, лучше.
Но хотя эпиграмму Ахматова и любила процитировать, но вот самого автора она терпеть не могла. М.Д. Вольпин вспоминал: «Слово „Бунин“ при ней нельзя было говорить. И когда я, забыв однажды, при ней процитировал: „Хорошо бы собаку купить“ – ей богу, это могло кончиться ссорой».
В том же 1916 году было написано и стихотворение «Поэтесса»:
- Большая муфта, бледная щека,
- Прижатая к ней томно и любовно,
- Углом колени, узкая рука…
- Нервна, притворна и бескровна.
- Все принца ждет, которого все нет,
- Глядит с мольбою, горестно и смутно:
- «Пучков, прочтите новый триолет…»
- Скучна, беспола и распутна.
Тут тоже небольшая путаница. Адресат эпиграммы Буниным не указан, но Ахматова опять узнает себя здесь («в ста зеркалах», неслучайно так называются многие статьи про Анну Андреевну).
Лидия Корнеевна Чуковская упомянула в своих «Записках об Анне Ахматовой» про эту злую шутку Бунина:
26 июня 1940
Затем она ‹Ахматова› заговорила об эмигрантах – о том, с каким негодованием встречены были ими стихи «Не с теми я, кто бросил землю». Недавно ей показали строки Бунина, явно написанные про нее, хотя ее имя там не упомянуто. Она прочитала мне эти стихи наизусть. ‹…› Стихи вялые, бледные. Ее внешний образ составлен из альтмановского портрета и из «Почти доходит до бровей / Моя незавитая челка».
Мне было стыдно подтвердить на ее спрос: да, это про вас. Стыдно за Бунина.
С другой стороны, вдруг это и не впрямую про Ахматову? В конце концов, это можно было «посвятить» и любой другой декадентской поэтессе. Например, Зинаиде Гиппиус.
В любом случае слово «беспола» чисто по биографическим метрикам Ахматовой не сильно подходит (она явно педалировала тогда свою женственность, желанность, да и сын у нее уже был, о чем Бунин не мог не знать), а вот к Гиппиус, которая одевалась пажом и мазала щеки кирпичного цвета румянами, – вполне.
Например, Игорь Северянин, тоже писавший эпиграмму на Гиппиус и использующий ее же собственную игру с мужским псевдонимом «Антон Крайний», давит именно на эту «кнопку»:
- И тот, кто был всегда бесполый,
- Стал бабой, да еще Ягой.
В том бунинском стишке есть еще одна сознательная обидная резкость: снижение имени. Бунин в своей эпиграмме опускает Ахматову (Гиппиус?) до уровня малоизвестного поэта третьего ряда, а именно Пучкова.
Ну написал бы: «Кузмин, прочтите новый триолет». Но нет: «Пучков». Тут особая язвительность Бунина: поэт Пучков действительно существовал, Николай Гумилев даже назвал Пучкова в своей рецензии на его книгу «Последняя четверть луны» «отличным образчиком непоэта».
Я поискал его стихи – Анатолий Пучков, конечно, смешной: Ахматовой должно было стать действительно обидно. Но не стало.
- Отошла, потеряв, но с догадкой,
- Что под осень вернется любовь,
- Сердце стукало. Поезд украдкою
- Засочился, как мутная кровь.
- Все мольбы, уверенья и жалобы
- Хохотали в шипенье колес.
- Без оглядки душа убежала бы
- За колесами через откос.
Это и есть Пучков.
Так что Бунин промахнулся: эпиграмму Ахматова помнит – и, как мы видим, гордится ею. Что, впрочем, ей, бывшей женщине-змее (молодая «Ахматова выступала как „женщина-змея“; гибкость у нее была удивительная – она легко закладывала ногу за шею, касалась затылком пяток, сохраняя при всем этом строгое лицо послушницы»[4]), не мешало в личных разговорах уже язвить самого Бунина.
У той же Чуковской читаем:
30/xii 41
Заговорили о Бунине. Она не любит его стихов, чему я рада, так как не люблю их тоже.
«Вялые стихи, обо всем на свете, рассчитанные на академическую благовоспитанную публику. Сокровищ в них не ищите – как у Случевского или у Полонского, или у Анненского. ‹…›
Поэты 90-х годов погибали от безвкусицы эпохи, не в силах были ее побороть, а Бунин был вполне удовлетворен своей эпохой. Когда при нем появился Блок, повеял новый ветер, он надел наушники, напульсники, набрюшники, думая, что так и должен вести себя классик. Очень глупая позиция».
Ахматовская демонстративная нелюбовь к бунинским стихам вызывает некоторые вопросы: у нее и у Бунина слишком много для этого в текстах пересечений.
Вот стихотворение Бунина, которое я помню с отрочества:
- Я – простая девка на баштане,
- Он – рыбак, веселый человек.
- Тонет белый парус на Лимане,
- Много видел он морей и рек.
- Говорят, гречанки на Босфоре
- Хороши… А я черна, худа.
- Утопает белый парус в море —
- Может, не вернется никогда!
- Буду ждать в погоду, в непогоду…
- Не дождусь – с баштана разочтусь,
- Выйду к морю, брошу перстень в воду
- И косою черной удавлюсь.
А вот текст Ахматовой (почему мне тогда сразу не бросились в глаза их схожесть, очевидное родство?):
- Руки голы выше локтя,
- А глаза синей, чем лед.
- Едкий, душный запах дегтя,
- Как загар, тебе идет.
- И всегда, всегда распахнут
- Ворот куртки голубой,
- И рыбачки только ахнут,
- Закрасневшись пред тобой.
- Даже девочка, что ходит
- В город продавать камсу,
- Как потерянная бродит
- Вечерами на мысу.
- Щеки бледны, руки слабы,
- Истомленный взор глубок,
- Ноги ей щекочут крабы,
- Выползая на песок.
- Но она уже не ловит
- Их протянутой рукой.
- Все сильней биенье крови
- В теле, раненном тоской.
Ну какой тут Блок? Самый настоящий Бунин, которого Анна Андреевна отлично прочитала и запомнила. Эхо через пять лет. Там «на воздушных путях двух голосов перекличка», как она сказала бы по другому поводу.
И еще – опять к вопросу обоняния.
У Бунина в рассказе «Птицы небесные» (он написан в 1909 году) есть фраза: «Свежо и остро пахло тем особенным воздухом, что бывает после вьюги с севера». Как только я увидел это в одной из статей про взаимоотношения Бунина и Ахматовой, сразу вспомнил, даже не заглядывая в следующий абзац:
- Свежо и остро пахли морем
- На блюде устрицы во льду.
Потом посмотрел и абзац – так и есть. Не один я такой памятливый.
…И всю ночь тревожно и однообразно стучали в темный дом, заносимый снегом, плохо прикрытые ставни. До костей промерзнув на ветру, студент заснул крепко, но потом стал сквозь сон томиться этим стуком. Он очнулся, зажег свечу, оделся… Ставни уже не стучали. И, выйдя на крыльцо, он услыхал отдаленную сонно-певучую перекличку петухов и замер от восхищения. Свежо и остро пахло тем особенным воздухом, что бывает после вьюги с севера. Тихая, звонкая ночь, вся золотистая от полумесяца, низко стоявшего над горой, за долиной, мешалась с тонким светом зари, чуть алевшей на востоке. Треугольником дрожащего расплавленного золота висела там Венера. Марс и Арктур искрились высоко на западе. И все звезды, мелкие и крупные, так отделялись от бездонного неба, так были ярки и чисты, что золотые и хрустальные нити текли от них чуть не до самых снегов, отражавших их блеск. Горели огни по избам на селе, петухи как бы убаюкивали нежно-усталый, склоняющийся полумесяц. И с звонким скрипом, с визгом въезжала в ворота знакомая тройка вся серо-курчавая от инея, с белыми пушистыми ресницами… Когда студент подбежал к саням, мать и кучер в один голос крикнули ему, что на знаменской дороге лежит в снегу мертвое тело.
Но и потом, справедливости ради: хоть и ругала, но ведь читала, ценила. Именно прозу. Да, стихи Бунина скользили, не задевая. А вот проза не только дарила подарки, как с этими «свежо и остро», но царапала, дразнила, будоражила, ранила.
Воспоминания Георгия Адамовича «Мои встречи с Анной Ахматовой», попытка воспроизвести прямую речь (хотя как это возможно?):
«Нет, эмигрантской литературы я почти совсем не знаю. До нас все это плохо доходит. Бунин? Я не люблю его стихов, никогда их не любила. Но есть у него один рассказ, который я прочла еще до революции, очень давно, и никогда его не забуду. Удивительный рассказ… о старом бродяге, пропойце, шулере, который тайком, сам себя стесняясь, приезжает в Москву на свадьбу дочери.
– „Казимир Станиславович“?
– Да, да, „Казимир Станиславович“… вы тоже помните?»
А еще говорят, очень ценила рассказ Бунина «Худая трава». Вот цитата из этого рассказа:
На дворе сизели сумерки, но еще светло было, бело от снега. А изба уже наполнилась сумерками.
В сумерки, весь в снегу, нагибаясь па пороге низкой двери, вошел в избу священник.
– Где он тут у вас? – бодро крикнул он, и голос его раздался, как голос самой смерти.
В таком страхе встала с лавки старуха. (Дочь, не думая, что конец отца так близок, ушла на сговор.) Упираясь дрожащими руками, приподнялся и сам Аверкий и замер в ожидании, как вставший из гроба. В темноте мертвенно-бледно синело его ужасное лицо.
‹…›
– Батюшка! Ну, как, по-вашему, – вы это дело хорошо знаете, – есть уж она во мне?
И священник ответил ему громко и поспешно, почти грубо:
– Есть, есть. Пора, собирайся!
‹…›
И в тишине, в темноте Аверкию стало легче. Представился ему летний день, летний ветер в зеленых полях, косогор за селом и на нем – его могила… Кто это так звонко и так жутко кричит, причитает над нею?
…И вот теперь умирает уже сам Иван Бунин. Текст наш течет наоборот – от смерти к рождению. Он течет против всех законов природы, против законов самой жизни: жизнь не умеет так течь. Как жизнь ни обхватывай, ни удерживай, она все равно закончится доской. И мы знаем, какой.
Но для того нам и нужен текст, чтобы обмануть жизнь, вынуть из нее иголку смерти, кащеевый обломок – заставить жизнь победить себя, победить смерть, которая в ней чернеет. Прогнать змею. А иначе зачем было все затевать?
…Бунин же еще не умер. Он только еще умирает.
6
Грушу Бунин есть не стал. От груши он отказался. Но еще сидел сам. Вера Николаевна помогла ему лечь. Бессилие обреченного уже на смерть человека. Становишься как младенец. Сам ничего не можешь уже.
Она спросила его: «Ты завтракал?» (В ее отсутствие дежурит Бахрах. Автор книги «Бунин в халате». Был когда-то четыре года его литературным секретарем.)
Оказывается, да, завтракал. Немного не доел телячьей печенки с пюре.
Вера Николаевна сосчитала его пульс – около ста и как ниточка. Дала камфоры, уговаривала пообедать, но обедать он не стал, отказался, как и от груши.
- Дедушка ест грушу на лежанке,
- Деснами кусает спелый плод.
- Поднял плеч костлявые останки
- И втянул в них череп, как урод.
- Глазки – что коринки, со звериной
- Пустотой и грустью. Все забыл.
- Уж запасся гробовой холстиной,
- Но к еде – какой-то лютый пыл.
- Чует: отовсюду обступила,
- Смотрит на лежанку, на кровать
- Ждущая, томительная Сила…
- И спешит, спешит он – дожевать.
Это все началось с воспаления левого легкого. Конечно, давали антибиотик («пенисиллин»), и температура спала, но после этой болезни он уже не мог оправиться, ослабел. Совсем не вставал с кровати.
Доктор Зёрнов сперва ездил через день, а потом и ежедневно.
В конце октября был устроен консилиум: Бунин очень боялся рака. Но онкологии не было. Это был склероз легких и сердечная астма.
После консилиума Бунин в последний раз вышел в гостиную. Смерть лишает тебя всего не сразу: сперва отнимает самое дальнее – кухню, потом соседнюю комнату, потом оставляет тебе полкомнаты, которые ты можешь видеть с кровати.
Впрочем, и смотреть в этой квартире особенно не на что было. Она была маленькой и какой-то сознательно неуютной. («Ты уюта захотела? – как писала Ахматова, спустившаяся в эти скобки из предыдущей главки: никогда не уследишь за этими второстепенными героями его жизни – так будет и с Набоковым, он тоже скоро опять постучится в текст. – Знаешь, где он, твой уют?»)











