Читать онлайн Плач Вавилона
- Автор: Михаил Гинзбург
- Жанр: Ужасы, Историческая фантастика, Историческое фэнтези
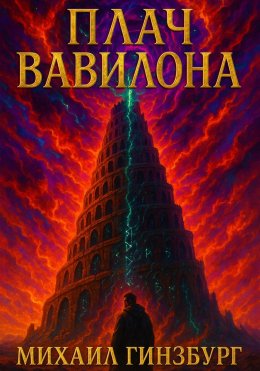
Глава 1: Талмудические тернии и пыль веков
Солнце в это утро словно решило лично присутствовать на занятиях в ешиве рабби Элиэзера, что в самом сердце старого города, и пекло так, будто хотело выпарить последние остатки здравого смысла из голов учеников, и без того отягощенных премудростями Талмуда. Воздух в небольшом, вымощенном неровным камнем дворе, где обычно проходили диспуты, казался густым, как перезрелый инжир, и дрожал от зноя и монотонного гудения голосов. Пыль, вечная спутница этих мест, висела в нем золотистой взвесью, оседая на черных шляпах, длинных лапсердаках и страницах раскрытых книг, словно тоже пыталась приобщиться к древней мудрости.
Моше ерзал на грубо сколоченной скамье, чувствуя, как рубаха неприятно липнет к спине. Очередной спор с реб Хаимом, самым педантичным из наставников, грозил растянуться на вечность, или, по крайней мере, до обеда, что по ощущениям Моше было примерно одно и то же. Тема сегодняшних прений была скользка и монументальна, как сама Вавилонская башня, о которой, собственно, и шла речь в разбираемом отрывке. Касалась она пределов человеческого дерзновения и божественного вмешательства.
«Но, реб Хаим, – Моше подался вперед, и его глаза, обычно полные саркастической искры, сейчас горели азартом интеллектуального поединка, – если Всевышний всемогущ и всеведущ, зачем Ему понадобилось такое… такое театральное представление со смешением языков? Не проще ли было, ну, скажем, внушить Нимроду мысль о том, что строительство небоскребов в пустыне – занятие малоперспективное и крайне затратное? Или просто вызвать небольшое, локальное землетрясение на стадии котлована? Экономия божественных ресурсов, да и людям меньше хлопот».
Реб Хаим, маленький, сухонький старичок с бородой цвета пожелтевшего пергамента, поверх которой гневно топорщились седые волоски, поджал губы так, что они почти исчезли. Его очки в тонкой оправе съехали на кончик носа, и он смотрел на Моше поверх них взглядом, которым обычно смотрят на особо неразумное насекомое, случайно залетевшее в святая святых.
«Моше, Моше… – голос его был скрипуч, как несмазанная дверь в прошлое. – Ты опять пытаешься приложить свою… свою местечковую логику к деяниям Непостижимого? Тебе ли судить о Его методах? Сказано: "И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие". Сошел! Посмотреть! А не для того, чтобы смету расходов проверить!»
Несколько учеников вокруг хихикнули, но тут же смолкли под строгим взглядом наставника.
«Да я не о смете, реб Хаим, – не сдавался Моше, хотя чувствовал, как начинает закипать. – Я об эффективности! О целесообразности! Если цель была остановить стройку, то смешение языков – это, простите, как из пушки по воробьям. Создать такой лингвистический хаос, который аукается человечеству до сих пор… Не слишком ли сложный путь для достижения простой цели? Я бы даже сказал, неэлегантный».
«Неэлегантный?! – реб Хаим даже привстал от возмущения, и пыль веков, потревоженная этим движением, взметнулась вокруг его головы, создавая подобие нимба разгневанного пророка. – Ты смеешь называть пути Господни… неэлегантными?! Да кто ты такой, Моше бен Авраам, чтобы…»
«Кто я такой? – пронеслось в голове Моше, пока реб Хаим подбирал подходящие эпитеты для его нечестивости. – Я тот, кому душно в этой пыли, в этих спорах, в этих стенах, где каждый камень помнит времена, когда мир был моложе и, возможно, чуточку глупее. Я тот, кто подозревает, что если бы Господь действительно хотел бы сэкономить ресурсы, Он бы начал с упрощения некоторых особо заковыристых мест в Писании. Например, с тех, что реб Хаим уже час пытается нам растолковать, путаясь в собственных аргументах, как муха в паутине богословских изысков».
Он опустил глаза, делая вид, что смиренно принимает наставления. Спорить дальше было все равно что пытаться наполнить дырявый кувшин – бесполезно и утомительно. Эта ешива, при всем ее почтенном возрасте и славе, казалась ему ловушкой для ума. Бесконечное пережевывание одних и тех же текстов, поиск скрытых смыслов там, где, возможно, была лишь ошибка древнего переписчика или неудачная метафора. А ему хотелось чего-то… другого. Чего-то настоящего, что можно было бы потрогать, измерить, проанализировать. Его ум, острый и беспокойный, как шило в мешке с праведностью, жаждал иных задач.
Поэтому он все чаще засиживался в самом дальнем, почти заброшенном углу библиотеки ешивы, где под толстым слоем той же вездесущей пыли хранились не канонические трактаты, а то, что реб Залман, хромой библиотекарь с вечно отсутствующим взглядом, называл «кабинетом редкостей и сомнительных манускриптов». Там, среди полуистлевших свитков и книг с выцветшими, едва различимыми письменами на языках, названия которых давно стерлись из памяти людской, Моше чувствовал себя почти счастливым. Там пахло не только пылью, но и тайной, запретным знанием, возможностью прикоснуться к чему-то, что выходило за рамки дозволенного и общепринятого.
«Надеюсь, сегодняшняя порция божественной неэффективности исчерпана, – подумал Моше, когда реб Хаим наконец умолк, сраженный то ли зноем, то ли собственным красноречием. – Потому что у меня на примете один любопытный арамейский текстик о… хм… нетрадиционных методах строительства. Надо бы сравнить с оригинальной сметой Нимрода. Если, конечно, таковая сохранилась где-нибудь, кроме как в воспаленном воображении подобных мне спорщиков».
Солнце поднялось еще выше, заливая двор почти нестерпимым светом. Спор затих, оставив после себя лишь тяжелую духоту и привычное ощущение Моше, что он опять задал слишком много неудобных вопросов. И что ответы на них, если они вообще существуют, лежат далеко за пределами этих выбеленных солнцем и временем стен.
Глава 2: Кабинет редкостей и шепот пергамента
Полуденный зной, казалось, проник даже в сумрачные, гулкие коридоры ешивы, обычно хранившие прохладу и запах старых книг. Моше, однако, искал не столько прохлады, сколько возможности ускользнуть от бдительного ока реб Хаима и прочих блюстителей ортодоксии. Его путь лежал в библиотеку, но не в главный зал, где прилежные ученики корпели над фолиантами, а в ее самое запущенное и пыльное крыло – так называемый «запасник», куда уже много лет не ступала нога здравомыслящего талмудиста.
Предлог был благовидный: Моше заявил о своем намерении написать «исчерпывающий трактат о проявлениях божественной воли в архитектурных метафорах священных текстов». Звучало достаточно заумно и благочестиво, чтобы реб Хаим, после очередной тирады о самонадеянности молодежи, все же махнул рукой, а реб Залман, бессменный страж книжных сокровищ, выдал ему тяжелый железный ключ.
«Только недолго, Моше, – прошамкал реб Залман, не отрывая взгляда от толстенной книги, которую он читал, кажется, уже не первое десятилетие. Его пальцы, похожие на сухие корни, медленно водили по строчкам, словно он впитывал буквы кожей. – Там… там пыль особенная. Пыль забвения. Нехорошо ее тревожить без нужды».
«Нужда у меня самая что ни на есть насущная, реб Залман, – с деланной серьезностью ответил Моше. – Душа жаждет припасть к самым глубоким пластам мудрости, а они, как известно, всегда немного запыленные. Обещаю вести себя тише воды, ниже травы и уважительнее, чем на проповеди самого главного раввина Иерусалима».
«Если бы этот главный раввин существовал, конечно, – добавил он про себя. – А то ведь с этими главными всегда такая путаница. Как и с глубокими пластами мудрости. Обычно чем глубже пласт, тем больше там всякого мусора и меньше, собственно, мудрости. Но кого это волнует, когда звучит так красиво?»
Реб Залман лишь неопределенно хмыкнул, и Моше счел это за разрешение. Ключ неприятно холодил ладонь. Дверь в «запасник» поддалась не сразу, со скрежетом и стоном, будто жаловалась на то, что ее потревожили.
В нос ударил густой, спертый запах – смесь вековой пыли, рассохшегося дерева, мышиного помета и чего-то еще, неуловимо древнего и немного тревожного, как дыхание давно ушедшей эпохи. Солнечный свет сюда почти не проникал, лишь тонкие, косые лучи пробивались сквозь заколоченные досками окна, выхватывая из полумрака шаткие стеллажи, заваленные свитками, кодексами и просто стопками пергамента, перевязанного выцветшими лентами. Время здесь не просто остановилось – оно, казалось, свернулось калачиком и уснуло вечным сном, укрывшись толстым одеялом пыли. На полу виднелись следы недавнего присутствия – вероятно, реб Залман иногда забредал сюда, чтобы убедиться, что его сонное царство не обрушилось окончательно.
Моше пробирался между стеллажами, стараясь не шуметь, хотя под ногами то и дело скрипели рассохшиеся половицы. Он искал не столько «архитектурные метафоры», сколько нечто из ряда вон выходящее. Маргиналии на полях давно забытых комментариев, апокрифические тексты, упоминания о странных культах или еретических учениях – все то, что официальная традиция либо игнорировала, либо осуждала. Его интересовали не ответы, а вопросы, особенно те, которые считались опасными.
«Вот оно, настоящее пиршество для ума, – думал Моше, осторожно стряхивая пыль с очередного свитка. – Не то что эти бесконечные прения о том, сколько ангелов может уместиться на острие иглы, если игла сделана из чистого золота и освящена по всем правилам. Здесь, по крайней
мере, есть шанс наткнуться на что-то действительно… нелогичное. А значит, интересное».
В самом дальнем углу, за покосившимся стеллажом, который, казалось, вот-вот рассыплется в прах, он заметил небольшой ларец из темного, почти черного дерева, без каких-либо украшений или надписей. Ларец не был заперт. Внутри, на подкладке из выцветшего, истертого бархата, лежал всего один свиток.
Он был не похож на остальные. Пергамент – если это вообще был пергамент – имел странный, серовато-зеленый оттенок и был на ощупь необычно гладким и прохладным, почти как змеиная кожа. И символы… Символы, покрывавшие его узкими, извилистыми строчками, не принадлежали ни одному известному Моше алфавиту. Они были одновременно и геометрически точны, и пугающе органичны, словно застывшие отпечатки каких-то неведомых существ или фрагменты давно забытого, чуждого языка звезд. От свитка исходил едва уловимый, слегка металлический запах, напоминающий озон после грозы.
Моше почувствовал, как по спине пробежал холодок, не связанный с прохладой этого заброшенного места. Это была смесь любопытства, азарта и смутной, необъяснимой тревоги. Он осторожно взял свиток в руки. Тот был удивительно тяжелым для своих размеров.
«Ну, здравствуй, красавец, – мысленно поприветствовал он находку. – Посмотрим, какие тайны ты мне поведаешь. И сильно ли расстроится реб Залман, если я "случайно" зачитаю тебя до дыр. В конце концов, для трактата об архитектурных метафорах может понадобиться самый неожиданный материал. Особенно если метафоры эти – из другого мира».
Он быстро огляделся, убедился, что по-прежнему один, и аккуратно спрятал свиток под полой своего длинного кафтана. Ключ от «запасника» он вернет реб Залману с благодарностями и туманными обещаниями великих открытий. А сам, этой же ночью, приступит к изучению своей добычи. Что-то подсказывало ему, что этот пыльный, забытый всеми свиток – именно то «другое», чего так жаждал его беспокойный ум. И что скучать ему в ближайшее время точно не придется.
Глава 3: Лингвистический зуд и запретные символы
Каморка Моше больше походила на чулан для забытых вещей, чем на жилище прилежного ученика ешивы. Узкая, как пенал, с единственным крохотным окном, выходившим в глухой колодец двора, она едва вмещала топчан, шаткий столик и пару полок, прогибавшихся под тяжестью книг – как дозволенных, так и тех, что лучше было не выставлять на всеобщее обозрение. Воздух здесь всегда был спертым, пахнущим пылью, старым пергаментом и чем-то неуловимо кислым – возможно, остатками вчерашнего ужина или просто застарелой скукой. Но в последние несколько дней к этим ароматам примешался еще один – едва уловимый, тревожный металлический запах озона, исходивший от свитка, который теперь занимал все мысли Моше.
Он расстелил его на столе, придавив по углам тяжелыми томами Мишны, чтобы упрямый пергамент не сворачивался обратно в трубку. При свете единственной чадящей масляной лампы таинственные символы, казалось, оживали. Они то извивались, как крошечные змейки, то застывали в строгих, почти математических формах, то вдруг напоминали отпечатки птичьих лапок на влажном песке. Ни один известный Моше язык – а знал он их немало, от классического иврита и арамейского до греческого койне и даже основ вульгарной латыни, подхваченной у заезжих торговцев, – не имел ничего общего с этими письменами.
«Ну и задачку ты мне подкинул, неизвестный автор, – бормотал Моше, склоняясь над свитком так низко, что его нос почти касался прохладной, странной кожи. – Если ты хотел, чтобы твое послание осталось неразгаданным, то поздравляю, ты был близок к успеху. Но если ты хотел заинтриговать до зуда в мозгах какого-нибудь скучающего гения вроде меня – то тут ты попал в самую точку. Это похлеще любого каверзного вопроса реб Хаима».
Дни и ночи слились для Моше в одно сплошное бдение над загадочным манускриптом. Занятия в ешиве он посещал теперь лишь телом; его мысли витали далеко, среди этих извилистых знаков, пытаясь нащупать в них логику, систему, хоть какой-то ключ к пониманию. Он перепробовал все известные ему методы дешифровки: сравнивал частотность символов, искал повторяющиеся группы, пытался сопоставить их с какими-либо астрологическими или нумерологическими системами. Тщетно. Свиток хранил свою тайну с упрямством древнего идола.
Сон стал роскошью, еда – досадной помехой. Его обычно бледное лицо осунулось, под глазами залегли темные тени, но сами глаза горели лихорадочным, почти безумным огнем. Другие ученики начали коситься на него с подозрением, перешептываясь о том, что Моше, похоже, окончательно свихнулся на своих «каббалистических изысканиях» или, чего доброго, связался с нечистой силой. Даже реб Хаим пару раз бросал на него странные, испытующие взгляды, но Моше это мало волновало.
«Пусть себе шепчутся, – думал он, в очередной раз копируя на обрывок пергамента особо замысловатый символ. – Их мир так мал и предсказуем, что любое отклонение от нормы кажется им происками преисподней. Они даже не представляют, что настоящие тайны, настоящие бездны скрываются не в аду, а вот здесь, в этих переплетениях линий, в этом молчаливом крике давно умершего языка. Если бы эти древние так же усердно работали над нормальной канализацией, как над этими закорючками, мир был бы куда более благоуханным местом. И, возможно, менее интересным».
Иногда, когда тусклый свет лампы начинал плясать перед глазами, а символы расплывались, ему казалось, что он слышит тихий шепот, исходящий от свитка. Не слова, а скорее ощущение, вибрация, словно кто-то пытался говорить с ним на языке, который его разум еще не мог воспринять. От этого по коже пробегали мурашки, но страха не было – только всепоглощающее любопытство и азарт первооткрывателя.
Он начал замечать странные закономерности. Некоторые символы всегда стояли рядом. Другие, казалось, изменяли свое значение в зависимости от соседних знаков. Была в этом какая-то чуждая, нечеловеческая логика, которая одновременно и притягивала, и отталкивала.
В одну из таких душных, бессонных ночей, когда за окном уже занимался бледный, неохотный рассвет, а голова Моше гудела от напряжения и недостатка сна, он, почти машинально водя грифелем по бумаге, соединил несколько ключевых, часто повторяющихся символов в определенной последовательности. И вдруг… Внезапно, как вспышка молнии в ясном небе, он почувствовал, что эти знаки сложились не просто в группу, а во что-то, отдаленно напоминающее… слово. Или, по крайней мере, его тень, его эхо.
Сердце Моше подпрыгнуло и заколотилось так сильно, что, казалось, готово было вырваться из груди. Он замер, боясь спугнуть это хрупкое, мимолетное ощущение. Это было еще не понимание, но уже предчувствие понимания. Ключ, который он так долго искал, был где-то рядом. Он это чувствовал каждой клеткой своего измученного, но возбужденного тела.
Предстояло еще много работы, много бессонных ночей и рискованных догадок. Но сейчас Моше знал одно: он на верном пути. И тайна древнего свитка, какой бы опасной она ни была, рано или поздно ему покорится. Потому что сдаваться было не в его правилах. Особенно когда дело касалось вызова, брошенного его интеллекту самой вечностью.
Глава 4: Непреднамеренный эксперимент и дрожь бытия
Неделя превратилась в липкий, горячечный сон, сотканный из пляшущих символов, запаха старого пергамента и тихого, настойчивого гула в ушах, который Моше уже почти перестал замечать, списав на хроническое недосыпание. Он исхудал, осунулся, и даже его всегда едкий сарказм приобрел какой-то отстраненный, лихорадочный оттенок. Тот мимолетный проблеск понимания, который он испытал несколько ночей назад, то появлялся, то снова ускользал, как блик на воде, дразня и подстегивая его одержимость.
В ту ночь за стенами ешивы собиралась гроза. Воздух был тяжелым и влажным, пахнущим пылью и далеким дождем. Изредка доносились глухие раскаты грома, от которых дребезжало единственное стекло в крохотном окне каморки Моше. Сам он, по обыкновению, склонился над свитком, разложенным на шатком столике. Рядом стоял кувшин с остатками кислого вина, которое он пил, чтобы хоть как-то прогнать сон, и миска с размокшими лепешками – его обычный ужин последних дней.
«Ну же, ты, древняя редиска, – бормотал Моше, тыча пальцем в особенно заковыристый символ. – Что ты такое означаешь? "Привет, потомки-недотепы"? Или "Осторожно, окрашено, не влезай – убьет"? Судя по сложности, скорее второе. Хотя, если бы кто-то хотел предупредить об опасности, написал бы проще. Если, конечно, у него в голове не было столько же извилин, сколько у тебя на пергаменте».
Он машинально обмакнул кончик пера в чернильницу, хотя собирался не писать, а лишь еще раз проследить изгибы одного из символов. Рука дрогнула – то ли от усталости, то ли от далекого раската грома, который на этот раз прозвучал совсем близко. Крупная капля чернил сорвалась с пера и шлепнулась прямо на свиток, на тот самый сложный символ, над которым он бился последние несколько часов.
«Тьфу ты, ну что за руки-крюки! – в сердцах воскликнул Моше, пытаясь стереть кляксу рукавом. – Теперь еще и это отмывать. Или так оставить? Может, это и есть недостающий элемент? "И добавил он к символу древнему кляксу обыкновенную, и открылась ему истина великая…" Звучит как начало очередного бредового мидраша».
Он попытался смахнуть чернила, но те лишь размазались, смешиваясь с чем-то на поверхности пергамента. И тут произошло нечто странное. Место, где была клякса, начало едва заметно светиться тусклым, пульсирующим светом, похожим на тлеющие угли. Моше замер, забыв про испорченный манускрипт. Металлический запах озона, всегда едва уловимый, вдруг стал резким, почти едким.
Именно в этот момент, пытаясь разобрать, что же там светится, Моше, почти не осознавая, что делает, произнес вслух ту самую последовательность символов, которая несколько дней назад показалась ему похожей на слово. Он произнес ее не как осмысленную фразу, а скорее как мантру, как набор звуков, которые вертелись у него на языке.
В то же мгновение, как последний гортанный звук сорвался с его губ, комнату пронзила ослепительная вспышка молнии, ударившей где-то совсем рядом. Грохот был такой силы, что заложило уши, а пол под ногами ощутимо вздрогнул. Масляная лампа на столе подпрыгнула, качнулась и с дребезгом погасла, погрузив каморку в почти полную темноту, если не считать неяркого, зловещего свечения, исходившего от свитка.
А затем началось.
Сначала Моше почувствовал резкий приступ тошноты, словно его вывернули наизнанку. Пол ушел из-под ног, стены каморки поплыли, искажаясь, как в кривом зеркале. Воздух вокруг него загустел, стал вязким, как патока, и начал вибрировать с низкой, утробной частотой, от которой волосы на голове вставали дыбом. Свиток на столе пульсировал все ярче, и символы на нем словно ожили, извиваясь и корчась, как живые существа.
«Мама… – промелькнула запоздалая, совершенно неуместная мысль. – Кажется, я доигрался. Реб Хаим был прав. Не нужно было совать нос в то, что пахнет серой и неприятностями… Или это просто вино оказалось слишком кислым?»
Он попытался встать, отшатнуться от стола, но тело его не слушалось, словно налитое свинцом. Мир вокруг превратился в калейдоскоп безумных образов и звуков. Рев, похожий на вой тысячи ураганов, заполнил его сознание, вытесняя все мысли. Цвета вспыхивали и гасли, смешиваясь в невообразимые комбинации. Его тянуло, крутило, сжимало с нечеловеческой силой. Он чувствовал, как его собственное тело искажается, растягивается, словно его пытаются протащить сквозь игольное ушко.
Паника, холодная и липкая, охватила его. Это было не интеллектуальное любопытство, не азарт исследователя. Это был первобытный ужас существа, попавшего в жернова чего-то непостижимого и враждебного. Он закричал, или попытался закричать, но звук утонул в оглушительном реве. Последнее, что он запомнил, прежде чем сознание покинуло его, был ослепительный, нестерпимый свет, хлынувший из самого сердца древнего свитка, и ощущение падения в бездонную, ледяную пустоту.
Дрожь бытия пронзила его насквозь, стирая личность, время и пространство. И мир, каким он его знал, перестал существовать.
Глава 5: Падение сквозь время и первое «Здрасьте»
Если бы у небытия был вкус, он был бы похож на смесь металлической пыли, жженого пергамента и собственного страха, застывшего на языке. Моше не существовал, и одновременно существовал везде – как разорванная на мириады частиц мысль, несущаяся сквозь ледяную, пульсирующую пустоту. Не было ни верха, ни низа, ни времени, лишь калейдоскоп обжигающе-ярких вспышек и провалов в смоляную тьму, сопровождаемый непрекращающимся гулом, который, казалось, вибрировал в самых костях. Ощущение собственного тела то исчезало вовсе, то возвращалось мучительными спазмами, словно невидимые тиски сжимали и растягивали его во всех направлениях одновременно.
Он понятия не имел, сколько это длилось – секунду или вечность. В этом вихре распада само понятие длительности теряло всякий смысл. Была лишь агония распада и отчаянная, почти бессознательная попытка уцепиться за остатки собственного «я», не дать ему окончательно раствориться в этом безумном потоке.
А потом, так же внезапно, как и началось, все прекратилось.
Рев оборвался, сменившись оглушительной тишиной, которая давила на уши сильнее любого шума. Ослепительный свет схлопнулся, и его швырнуло – именно швырнуло, как ненужный мешок, – на что-то твердое и одновременно податливое. Удар был такой силы, что из легких вышибло остатки воздуха, а в глазах взорвались тысячи колючих звезд.
Мир вернулся к нему не сразу, а неохотно, кусками. Сначала – боль. Тупая, ноющая боль во всем теле, особенно в затылке, которым он, похоже, приложился основательно, и в ребрах, которые, казалось, треснули. Затем – запахи. Густые, незнакомые, ошеломляющие. Запах раскаленной на солнце пыли, чего-то пряного и острого, едкого дыма от костров, пота множества немытых тел и еще чего-то сладковато-приторного, вызывающего тошноту – возможно, падали.
Он застонал, пытаясь пошевелиться. Руки и ноги не слушались, были ватными и чужими. С трудом разлепив веки, он увидел перед собой лишь мутное, расплывчатое пятно слепящего, почти белого света. Солнце. Такое безжалостное, яростное солнце, какого он никогда не видел в своей жизни. Оно висело прямо над ним, в выбеленном, словно выцветшем от зноя, небе.
Моше несколько раз моргнул, пытаясь сфокусировать зрение. Муть постепенно рассеивалась. Он лежал ничком, уткнувшись лицом в горячую, сухую землю, усыпанную мелкими камешками и каким-то мусором. Под щекой ощущалась липкая грязь, смешанная с чем-то органическим и дурно пахнущим.
«Прекрасно, – пронеслась первая более-менее связная мысль, пропитанная его обычным сарказмом, хотя сейчас он звучал как-то жалко. – Похоже, я все-таки дочитался до неприятностей. И, судя по всему, приземлился не в самом фешенебельном районе. Интересно, это уже ад, или только его пригород?»
С неимоверным усилием он перевернулся на спину, и мир вокруг него обрел чуть больше четкости. Жара была невыносимой, такой, что, казалось, плавился сам воздух. Сухость во рту была такая, будто он наелся той самой пыли, в которой валялся. И звуки… Отовсюду доносился оглушительный, многоголосый гул: крики людей, ржание каких-то животных, скрип колес, стук молотков, монотонные, тягучие песни. Все это сливалось в единую, хаотичную какофонию, от которой начинала болеть голова.
Он с трудом сел, оглядываясь. И то, что он увидел, заставило его забыть и о боли, и о жаре, и о тошноте.
Он находился у подножия чего-то невероятного, колоссального, уходящего в самое небо так высоко, что вершина терялась в слепящем солнечном мареве. Это было сооружение из необожженного кирпича, песка и каких-то темных балок, широкое в основании и постепенно сужающееся кверху. Оно было еще далеко не закончено – повсюду виднелись строительные леса из грубо отесанных бревен, по которым, словно муравьи, ползали крошечные фигурки людей. Тысячи, десятки тысяч людей сновали вокруг, тащили корзины с землей, обтесывали камни, месили глину.
«Так, – пробормотал Моше, чувствуя, как к горлу подступает ледяной комок, не имеющий ничего общего с жарой. – Кажется, я начинаю понимать, куда меня занесло мое лингвистическое любопытство. И если это то, о чем я думаю… то мой трактат об архитектурных метафорах может получиться куда более наглядным, чем я предполагал. Главное теперь – не нарваться на местного прораба по имени Нимрод. А то он, если верить слухам, не очень-то жалует незваных консультантов по строительству».
Он попытался встать, но ноги подкосились, и он снова рухнул на землю, едва не потеряв сознание. Голова кружилась, а перед глазами плясали черные точки. Древний свиток, причина всех его бед, куда-то исчез. Наверное, остался там, в его каморке, в другом времени, в другой жизни.
«Первое "здрасьте" новому миру, – прохрипел он, обращаясь то ли к себе, то ли к этой гигантской стройке века. – Надеюсь, у вас тут хотя бы вода есть. А то с такими темпами познания неизведанного я рискую умереть от жажды еще до того, как успею сделать какую-нибудь очередную глупость».
Солнце продолжало нещадно палить, а гигантская башня равнодушно взирала на него с высоты своих незаконченных амбиций. И Моше вдруг с кристальной ясностью понял, что его приключение только начинается. И что оно, скорее всего, будет куда менее забавным, чем ему представлялось в его пыльных мечтах в тишине ешивы.
Глава 6: Вавилонская симфония грязи и амбиций
Прошло какое-то время – может быть, несколько минут, а может, и целый час, – прежде чем Моше смог снова собраться с силами и мыслями. Головокружение немного улеглось, оставив после себя тупую головную боль и ощущение вселенской усталости, будто он не просто упал с небольшой высоты, а тащил на себе все грехи этого новоявленного мира. Он снова сел, на этот раз более осторожно, и заставил себя по-настоящему осмотреться, пытаясь унять внутреннюю дрожь, которая была смесью страха, изумления и какого-то почти истерического восторга.
Да, сомнений не оставалось. Это было именно то самое место. То самое, о котором он читал в священных текстах, над которым иронизировал в спорах с реб Хаимом, и которое теперь возвышалось перед ним во всей своей первобытной, недостроенной и устрашающей грандиозности. Вавилонская башня. Или, по крайней мере, ее очень амбициозный прототип.
Она была невероятна. Не столько своей высотой, сколько масштабом, дерзостью замысла. Широченное, почти квадратное основание занимало, казалось, половину видимого пространства, и от него, уступ за уступом, сужаясь, устремлялись в небо ряды кирпичной кладки. Кирпичи были неровные, желтовато-серые, сделанные из необожженной глины, смешанной с соломой, и уже сейчас, под беспощадным солнцем, многие из них покрылись сетью мелких трещин, словно предвещая будущую недолговечность этого титанического сооружения. Кое-где виднелись вкрапления более темного, обожженного кирпича, вероятно, для укрепления особо ответственных участков, но их было немного.
Вокруг башни, насколько хватало глаз, кипела работа, напоминавшая лихорадочную деятельность гигантского, плохо организованного муравейника. Тысячи, а может, и десятки тысяч людей – мужчин, женщин, даже детей – трудились под открытым небом. Они таскали плетеные корзины, доверху набитые землей и глиной, на своих спинах и головах; рубили и обтесывали примитивными каменными и бронзовыми топорами стволы деревьев, превращая их в грубые балки для лесов; месили босыми ногами глину в огромных ямах, смешивая ее с водой и соломой; формовали кирпичи и раскладывали их сушиться на солнце.
Воздух дрожал от многоголосого гула: резких, гортанных криков надсмотрщиков, размахивавших плетками; ответных выкриков рабочих; скрипа деревянных блоков и рычагов, с помощью которых пытались поднимать наверх тяжелые грузы; монотонного, заунывного пения, под которое какая-то группа людей тянула огромный камень. И над всем этим висела плотная, почти осязаемая завеса из желтой пыли, которая поднималась от тысяч ног, от ссыпаемой земли, от обтесываемых камней. Она забивала нос, першила в горле, оседала на коже и одежде, придавая всему какой-то однообразный, унылый оттенок.
Инструменты, которые Моше мог разглядеть, были до смешного примитивны: деревянные лопаты, каменные молотки, бронзовые долота, веревки из растительных волокон. Никаких сложных механизмов, никакой продуманной организации. Все держалось на грубой физической силе, на невероятном упорстве и, вероятно, на страхе перед теми, кто стоял наверху этой трудовой пирамиды.
«И эти люди собираются достучаться до небес? – с мрачной иронией подумал Моше, наблюдая, как несколько полуголых рабочих, напрягаясь до предела, пытаются втащить по шаткому пандусу огромную балку. – С такими-то технологиями? Похоже, у них больше амбиций, чем здравого смысла и хороших инженеров. Хотя, надо признать, размах впечатляет. Это вам не ешиву ремонтировать, тут все по-взрослому. Правда, кондиционеров и профсоюзов тут явно не предвидится еще пару тысячелетий».
Он заметил, что люди вокруг него говорили на одном языке, хотя и с разными акцентами и диалектными особенностями. Это был тот самый гортанный, резкий язык, который он уже начал понемногу понимать благодаря своему лингвистическому чутью. Значит, смешение языков еще не произошло. Он прибыл… вовремя? Или слишком рано?
Запахи здесь были под стать зрелищу. К уже знакомым ароматам пыли, пота и дыма добавился резкий, кислый запах прокисшего пива или браги, которую, видимо, употребляли рабочие для поддержания сил, и тошнотворный смрад отхожих мест, если таковые вообще существовали в организованном виде. Вся эта «симфония грязи и амбиций», как он мысленно окрестил окружающую действительность, одновременно и подавляла, и вызывала странное, извращенное восхищение масштабом человеческого безумия.
Моше поежился, несмотря на жару. Одно дело – читать о Вавилонской башне, спорить о ней, анализировать ее как миф или аллегорию. И совсем другое – оказаться здесь, у ее подножия, среди этой первобытной мощи и первобытного же хаоса.
«Ладно, Моше, – сказал он сам себе, пытаясь взять себя в руки. – Паниковать будешь потом, когда найдешь укромный уголок и убедишься, что тебя не собираются немедленно припахать к тасканию кирпичей в качестве неквалифицированной рабочей силы из будущего. Сейчас главное – выжить и постараться не привлекать к себе излишнего внимания. Хотя в этом моем… наряде, – он критически оглядел свой порядочно измазанный и порванный ешиботский кафтан, – это будет непросто. Выгляжу как пугало, сбежавшее с чужого огорода прямиком в эпицентр стройки века».
Он с трудом поднялся на ноги, стараясь держаться в тени гигантского сооружения. Нужно было найти воду, еду и место, где можно было бы перевести дух и попытаться составить хоть какой-то план действий. Если, конечно, в этом первозданном хаосе вообще можно было что-то планировать.
Глава 7: Языковой барьер и искусство пантомимы (провальное)
Держаться в тени гигантской башни оказалось не такой уж простой задачей. Тень была капризной и подвижной, как настроение избалованного ребенка, а солнце, казалось, специально выискивало Моше, чтобы еще раз напомнить ему о своем безраздельном владычестве над этой выжженной землей. К тому же, просто стоять истуканом посреди кипучей деятельности тысяч людей было верным способом привлечь ненужное внимание. Нужно было двигаться, пытаться слиться с толпой, хотя бы изобразить какую-то осмысленную деятельность, если уж не получалось ее реально выполнять.
Первой насущной проблемой была вода. Горло пересохло так, что каждый глоток слюны ощущался как наждачная бумага. Моше заметил группу женщин, тащивших от какого-то подобия колодца или резервуара тяжелые глиняные кувшины. Вот он, шанс.
Он приблизился к одной из них – крепкой, широкобедрой женщине с обветренным лицом и усталыми глазами, которая с трудом поставила свой кувшин на землю, чтобы перевести дух. Моше откашлялся, пытаясь придать своему голосу как можно более дружелюбное и одновременно жалкое выражение – комбинация, которая, как он надеялся, должна была вызывать сочувствие, а не подозрение.
«Прошу прощения, уважаемая, – начал он на иврите, тут же спохватившись, что это бесполезно, и перешел на универсальный язык жестов, как он его себе представлял. Он приложил ладони ко рту, изображая, что пьет, а затем указал на кувшин. – Воды… немного воды… умираю от жажды… горло… песок… понимаете?»
Женщина уставилась на него так, словно перед ней был не человек, а говорящий верблюд, причем говорящий какую-то откровенную чушь. Ее густые, сросшиеся на переносице брови поползли вверх, а в глазах мелькнуло что-то среднее между недоумением и опаской. Она что-то быстро проговорила на своем гортанном языке, обращаясь не то к Моше, не то к кувшину, потом подозрительно оглядела его странный наряд и, схватив свою ношу, поспешно удалилась, неодобрительно качая головой.
«Так, первый блин комом, – констатировал Моше, провожая ее взглядом. – Либо моя пантомима была слишком авангардной для местной публики, либо она решила, что я пытаюсь наложить сглаз на ее драгоценную воду. Возможно, стоило добавить пару поклонов и жалобный стон. Говорят, это универсально действует на женщин с кувшинами».
Он не отчаялся. Лингвистический гений внутри него уже начал свою работу, жадно впитывая звуки, интонации, ритм этого незнакомого языка. Он слышал повторяющиеся слова, улавливал вопросительные и утвердительные конструкции. Мозг автоматически анализировал, сопоставлял, строил гипотезы. Это было похоже на разгадывание сложнейшей головоломки, только вместо символов на пергаменте были живые люди и их непонятная речь.
Следующая попытка была предпринята с группой рабочих, отдыхавших в тени недостроенной стены. Они жевали какие-то сухие лепешки и пили мутную жидкость из общей глиняной чаши. Моше, собрав все свое мужество, подошел к ним и, снова прибегнув к жестам, попытался изобразить голод, указывая на лепешки и скорбно поглаживая свой пустой живот.
Реакция была иной. Один из рабочих, здоровенный детина с туповатым лицом и спутанной бородой, громко заржал, толкнув соседа локтем. Остальные тоже загоготали, показывая на Моше пальцами и отпуская какие-то, очевидно, нелестные комментарии. Тот, что заржал первым, отломил крошечный кусочек своей лепешки, с издевкой протянул его Моше, а когда тот потянулся, отдернул руку и бросил лепешку в пыль.
«Очаровательно, – подумал Моше, чувствуя, как к горлу подступает уже не жажда, а злая обида. – Чувство юмора у местных просто на высоте. Интересно, они всегда так развлекаются, или это специальная программа для заблудившихся во времени иноземцев? Кажется, я только что поучаствовал в древнем аналоге стендап-комедии, правда, в роли того, над кем смеются. Надеюсь, хоть рейтинг у шоу был неплохой».
Он отошел, стараясь не показывать, как его задело это унижение. Голод и жажда становились все сильнее. Он понимал, что без базового умения объясняться ему здесь не выжить. Его знания Талмуда, его острый ум, его сарказм – все это было абсолютно бесполезно перед лицом простого непонимания.
Он бродил по огромной стройплощадке, как призрак из другого мира, внимательно слушая, наблюдая, запоминая. Вот надсмотрщик что-то гневно кричит на рабочего, и тот съеживается – значит, это были слова приказа или угрозы. Вот двое торговцев о чем-то оживленно спорят, размахивая руками, – вероятно, о цене. Вот мать ласково воркует со своим ребенком – эти интонации были понятны без слов.
Он начал улавливать отдельные слова: «вода» (звучало как «майя» или что-то похожее), «кирпич» («либену»), «дай» («хаб»), «нет» («ла»). Это были крохи, но его мозг цеплялся за них, как утопающий за соломинку.
К вечеру, измученный, голодный и почти отчаявшийся, он присел у стены какого-то сарая, подальше от основной суеты. Рядом возился старик, чинивший сломанное колесо от телеги. Старик выглядел таким же древним, как и инструменты, которыми он пользовался. Моше долго наблюдал за ним, а потом решился.
Он подошел, молча указал на свои пересохшие губы, потом на пустой бурдюк, валявшийся неподалеку, и произнес одно из слов, которое, как ему казалось, он запомнил: «Майя?»
Старик поднял на него выцветшие, слезящиеся глаза. Некоторое время он молча разглядывал Моше, его странную одежду, его измученный вид. Потом медленно кивнул, крякнул и, указав морщинистым пальцем куда-то в сторону реки, которая тускло блестела в лучах заходящего солнца, произнес несколько слов. Моше не понял их, но интонация была скорее сочувственной, чем враждебной. И слово «майя» там точно прозвучало.
Это была маленькая победа, но для Моше она значила очень много. Он не просто получил направление к воде. Он впервые смог установить контакт. Пусть примитивный, пусть на уровне одного слова, но это был диалог.
«Ну что ж, – подумал он, с трудом поднимаясь на ноги, чтобы брести в указанном направлении. – Первый урок языка древнего Вавилона, кажется, усвоен. Тема: "Как не умереть от жажды". Факультативно: "Искусство вызывать сочувствие у очень старых людей". Негусто, конечно, для кандидата в лингвистические мессии, но для первого дня в прошлом – вполне себе достижение. Посмотрим, что день грядущий нам готовит. Надеюсь, не экзамен по местной поэзии. С этим у меня точно будут проблемы».
Солнце садилось, окрашивая гигантскую башню и всю окружающую ее суету в багровые тона. И в этой суете, маленький и чужой, брел Моше, вооруженный одним понятым словом и огромной, отчаянной жаждой – не только воды, но и понимания.
Глава 8: Уроки выживания и горький хлеб прошлого
Река, к которой указал старик, оказалась мутным, медленно текущим потоком с глинистыми берегами, изрядно вытоптанными и загаженными. Вода в ней была теплой и имела отчетливый привкус ила, но для Моше, изнывавшего от жажды, она показалась амброзией. Он пил долго, жадно, черпая ладонями, не обращая внимания ни на плавающий мусор, ни на копошащихся у берега странных водяных насекомых. Только когда желудок свело от непривычного обилия жидкости, он остановился, чувствуя, как по телу разливается слабость и облегчение.
Следующей проблемой была еда. После того, как его «блестящая» пантомима с просьбой о хлебе закончилась унижением, Моше понял, что милостыню здесь не подают, особенно таким странным субъектам, как он. Придется либо воровать, либо… либо как-то зарабатывать. Первое претило его воспитанию, хоть и казалось в данных обстоятельствах наиболее быстрым решением. Второе же было туманно и малоперспективно, учитывая его полное отсутствие полезных в этом мире навыков. Чтение Талмуда и умение находить нестыковки в божественных планах вряд ли ценились на местном рынке труда.
Ночь застала его под открытым небом, неподалеку от догорающих костров какого-то рабочего лагеря. Холод, пришедший на смену дневной жаре, был пронизывающим. Моше съежился, пытаясь согреться, и с завистью смотрел на спящих рабочих, укрытых какими-то рваными шкурами и циновками. У него не было ничего.
«Великолепно, – думал он, стуча зубами. – Ночлег класса "все неудобства включены". Свежий воздух, полное отсутствие соседей по комнате, если не считать пары любопытных скорпионов, которых я заметил неподалеку. И уникальная возможность наблюдать звезды без светового загрязнения от какой-нибудь банальной цивилизации. Правда, сейчас я бы с радостью променял все это великолепие на жесткий топчан в моей каморке и миску вчерашней чечевичной похлебки. Даже на компанию реб Хаима с его бесконечными нотациями. По крайней мере, у него всегда было тепло».
Первые несколько дней были сущим кошмаром. Моше научился распознавать съедобные коренья и травы, которые росли по берегам реки, – спасибо бабушкиным рассказам о голодных годах, которые он всегда слушал вполуха, считая их древними сказками. Он научился высматривать остатки еды, брошенные рабочими, и проглатывать их быстро, пока никто не видел, подавляя брезгливость и унижение. Пару раз ему даже удалось стащить несколько фиников у зазевавшегося торговца на импровизированном рынке, раскинувшемся у подножия башни, – ловкость рук, отточенная на незаметном перелистывании запретных страниц в библиотеке, неожиданно пригодилась.
Он наблюдал. Это стало его главным занятием и способом выживания. Он смотрел, как живут эти люди, как они работают, как общаются, как делят пищу и кров. Он видел жестокость надсмотрщиков, тупое безразличие одних рабочих к страданиям других, но видел и редкие проблески сочувствия, взаимопомощи, даже грубоватого compañerismo.
Он начал понимать иерархию этого мира. На самом верху, недосягаемые и почти невидимые, были жрецы и вельможи Нимрода, обитавшие где-то в шатрах и глинобитных дворцах подальше от основной грязи стройки. Затем шли главные архитекторы и военачальники, отдававшие приказы. Под ними – многочисленные надсмотрщики с плетками, следившие за исполнением. И в самом низу – бесправная, многотысячная масса рабочих, «сынов человеческих», как их высокопарно называли в Писании, а на деле – просто муравьев, строящих этот гигантский термитник во славу чьих-то непомерных амбиций.
Его лингвистические способности тоже не стояли на месте. Он жадно впитывал новые слова, обороты, интонации. Он уже мог понимать простые приказы, просьбы, ругательства. Он даже научился произносить несколько ключевых фраз, которые помогали ему не умереть с голоду или не быть избитым по ошибке. «Я – чужестранец», «Я – не понимаю», «Дай – еда», «Вода – хорошо». Примитивно, но действенно.
Однажды, когда он совсем обессилел от голода, ему повезло. Какой-то сердобольный рабочий, видя его жалкий вид, молча протянул ему половину своей грубой ячменной лепешки. Она была жесткой, пресной и отдавала дымом, но Моше показалось, что ничего вкуснее он в жизни не ел. Этот горький хлеб прошлого, заработанный не умом, а одним лишь видом своего отчаяния, имел странный привкус – привкус смирения и новой, злой решимости.
«Спасибо, любезный, – мысленно поблагодарил он рабочего, жадно вгрызаясь в лепешку. – За то, что напомнил мне: даже в самом грязном болоте иногда расцветают лотосы. Или, по крайней мере, попадаются люди, у которых совесть еще не окончательно атрофировалась под гнетом непосильного труда. Это дает некоторую надежду. Не на то, что я отсюда выберусь в ближайшее время, конечно. А на то, что, может быть, и я смогу здесь как-то приспособиться. И не просто выжить, а… что-то сделать. Что-то, что заставит этот мир если не прогнуться, то хотя бы почесаться от удивления».
Он доел лепешку до последней крошки. Голод немного отступил, но на смену ему пришло отчетливое понимание: чтобы выжить здесь и, тем более, чтобы осуществить свой дерзкий план по «исправлению» истории, ему нужно стать частью этого мира. Перестать быть просто наблюдателем, чужаком, пугалом из другого времени. Ему нужно найти свое место в этой вавилонской симфонии грязи и амбиций. И чем скорее, тем лучше. Иначе этот мир просто сожрет его и не подавится.
Глава 9: Прозрение среди кирпичей и пыли (или солнечный удар)
Дни тянулись один за другим, похожие как две капли мутной речной воды, – однообразные, изнурительные, наполненные тяжелым трудом, которого Моше, к счастью или к несчастью, пока удавалось избегать. Он научился быть почти невидимым, скользя тенью вдоль стен, прячась в нишах недостроенных сооружений, питаясь отбросами и редкими подачками. Его главным занятием по-прежнему было наблюдение, но теперь оно носило более целенаправленный характер. Он не просто впитывал язык – он изучал систему. Систему работы, систему подчинения, систему выживания в этом первобытном муравейнике.
И чем больше он наблюдал, тем больше поражался вопиющей неэффективности всего происходящего. Бригады рабочих, говорившие, казалось бы, на одном языке, постоянно не понимали друг друга. Приказы искажались, передаваясь по цепочке. Простейшие задачи превращались в неразрешимые проблемы из-за путаницы в терминах или неверно истолкованных жестов. Материалы тратились впустую, инструменты ломались, люди получали травмы – и все это зачастую из-за элементарного отсутствия внятной коммуникации.
«Это не стройка, а какой-то лингвистический кошмар наяву, – думал Моше, в очередной раз становясь свидетелем яростной перепалки между двумя надсмотрщиками, которые никак не могли договориться, куда именно следует доставить партию свежесформованных кирпичей. Кирпичи тем временем сиротливо лежали под палящим солнцем, рискуя растрескаться еще до того, как их спор будет разрешен. – Они еще даже не начали говорить на разных языках, а уже такой бедлам. Что же будет, когда Всевышний решит добавить остроты в это шоу? Боюсь, тогда они не то что башню достроить, они и туалет общественный согласовать не смогут».
В один из таких особо жарких и бестолковых дней, когда воздух плавился от зноя, а пыль стояла такая, что не было видно и на десять шагов, Моше сидел в тени огромного камня, предназначенного, видимо, для фундамента какой-то вспомогательной постройки. Он чувствовал себя совершенно разбитым. Голова гудела не то от голода, не то от жары, не то от бесконечного шума стройки. Перед его глазами разыгрывалась очередная сцена производственной драмы: две группы рабочих, одна тащившая тяжелые бревна, другая – корзины с глиной, столкнулись на узком проходе, создав затор и вызвав гневные крики надсмотрщика. Причина была банальна: никто никого не предупредил, никто никому не уступил, потому что команды отдавались одновременно и противоречили друг другу.
Именно в этот момент, глядя на эту нелепую суету, на эти потерянные усилия, на этот абсурдный хаос, Моше вдруг вспомнил. Не просто вспомнил библейскую историю о Вавилонской башне – он знал ее наизусть. Он вдруг почувствовал ее, увидел ее не как древний миф, а как… как описание совершенно неэффективного проекта, который изначально был обречен на провал из-за плохого менеджмента и проблем с коммуникацией.
И тут его словно ударило молнией. Или, возможно, это был просто солнечный удар, как он позже с иронией предположил. Но мысль, которая пришла ему в голову, была такой ослепительной, такой дерзкой и такой… логичной с его точки зрения, что он на мгновение забыл и о жаре, и о голоде, и о своем плачевном положении.
«А что, если?.. – пронеслось в его мозгу, заставляя сердце учащенно биться. – Что, если проблема не в башне как таковой? Не в гордыне человеческой, стремящейся дотянуться до небес? А именно в этом грядущем смешении языков? Ведь если верить Писанию, именно оно стало причиной провала. Но что, если это… это была ошибка? Неудачное решение? Божественное недоразумение?»
Он вскочил на ноги, возбужденно расхаживая взад-вперед по своему укрытию. Идея, поначалу показавшаяся ему бредовой, начала обретать плоть, обрастать деталями, выстраиваться в стройную, пусть и безумную, концепцию.
«Если я правильно понимаю, – продолжал он свой лихорадочный внутренний монолог, – то смешение языков было превентивной мерой. Чтобы люди, объединенные одним языком и одной целью, не натворили чего похуже. Но это же… это же неэффективно! Это как лечить головную боль гильотиной! Вместо того чтобы создавать хаос, который будет мешать всем и всегда, не проще ли было бы… оптимизировать сам процесс? Улучшить коммуникацию до такой степени, чтобы она стала идеальной? Чтобы не было никаких недопониманий, никаких искажений? Чтобы единая воля человечества была направлена не на разрушение, а на созидание? Но на созидание… правильное. Эффективное. Без этого вот первобытного бардака».
Его осенило. Та самая «шутка», которую он хотел провернуть, тот самый «вызов», который он хотел бросить – вот он, обрел конкретную форму! Не просто наблюдать, не просто выживать. А вмешаться! Исправить! Сделать так, как, по его мнению, должно было быть сделано изначально! Предотвратить смешение языков не для того, чтобы потешить свою гордыню (хотя и это, конечно, играло не последнюю роль), а для того, чтобы… чтобы помочь человечеству избежать этой лингвистической катастрофы! Чтобы башня была достроена! Но достроена разумно, эффективно, без лишних жертв и бессмысленной траты ресурсов.
«Это же будет грандиозно! – глаза Моше горели безумным огнем. – Починить то, что еще не сломано, но обязательно сломается по официальной версии! Стать тайным архитектором не просто башни, а нового, единого, разумно устроенного мира! Показать Ему, – он неопределенно махнул рукой в сторону неба, – как надо было. Что не хаосом и разделением нужно управлять, а порядком и пониманием! Да это же… это же просто гениально!»
Он рассмеялся – тихо, почти беззвучно, но смех этот был полон такого азарта и такой самоуверенной дерзости, что любой, кто услышал бы его, наверняка счел бы Моше сумасшедшим. Возможно, так оно и было. Возможно, это действительно был солнечный удар, помноженный на голод и отчаяние.
Но Моше так не думал. Он чувствовал себя так, словно впервые за долгое время обрел настоящую цель. Опасную, почти невыполнимую, граничащую со святотатством. Но от этого – еще более притягательную.
План начал стремительно формироваться в его голове. Ему нужны были знания. Ему нужно было в совершенстве овладеть этим праязыком. Ему нужно было понять его структуру, его логику, его слабые места. А затем… затем он начнет свою игру. Игру, ставкой в которой будет ни много ни мало – судьба человечества. И его собственная, разумеется. Но об этом он предпочитал пока не думать. Впереди его ждало великое дело. Или великая глупость. Время покажет.
Глава 10: Первые шаги лингвистического мессии (или вредителя)
Идея, вспыхнувшая в раскаленном мозгу Моше, не отпускала. Она зудела, требовала выхода, превратилась из абстрактной концепции в почти физическую потребность действовать. Однако он понимал, что бросаться в омут с головой, размахивая знаменем «лингвистической оптимизации», было бы верхом глупости. Здесь, в этом мире грубой силы и мгновенной реакции на все непонятное, любой неосторожный шаг мог стоить ему не просто свободы, но и жизни. Нужен был план, нужна была стратегия, нужна была… подопытная группа.
«Так, начнем с малого, – рассуждал Моше, укрывшись в тени гигантской, наполовину обтесанной каменной глыбы, которая, видимо, дожидалась своей очереди на отправку наверх. – Революции редко начинаются с захвата дворцов. Чаще – с тихих разговоров на кухнях или, в моем случае, с ненавязчивых советов на стройплощадке. Нужно найти бригаду, которая достаточно тупа, чтобы не заподозрить подвоха, но при этом достаточно важна, чтобы эффект от моих… улучшений был заметен».
Его выбор пал на небольшую группу рабочих, занимавшихся подноской глины к месту формовки кирпичей. Работа была монотонной, тяжелой и, судя по постоянным крикам и неразберихе, крайне плохо организованной. Надсмотрщик у них был молодой, неопытный и, кажется, больше озабоченный тем, чтобы его собственная спина не познакомилась слишком близко с плеткой старшего начальника, чем реальной эффективностью труда. Идеальные кандидаты.
Моше начал с малого. Сначала он просто наблюдал за ними несколько дней, запоминая их рутинные действия, выявляя «узкие места» в их работе, вслушиваясь в их короткие, обрывочные команды. Язык их был прост, почти примитивен, но даже в нем царила путаница. Одно и то же слово могло означать разные вещи в зависимости от интонации или контекста, что постоянно приводило к ошибкам.
Затем он начал очень осторожно «внедряться». Сначала он просто оказался «случайно» рядом, когда один из рабочих уронил тяжелую корзину с глиной, потому что не понял команду другого. Моше, используя уже немного освоенный им язык, предложил более короткую и четкую формулировку для команды «передай» и «осторожно». Он сделал это не как учитель, а скорее как случайный прохожий, которому просто нечего делать. Рабочие посмотрели на него с удивлением, но, к его облегчению, без враждебности.
На следующий день он начертил на песке несколько простых знаков, обозначающих «полная корзина», «пустая корзина», «опасность – обвал», «нужна помощь». И показал их тому же молодому надсмотрщику, объяснив, что так, мол, будет понятнее и быстрее, чем орать каждый раз во всю глотку, рискуя сорвать голос или получить солнечный удар от излишнего усердия.
Надсмотрщик, парень по имени Ур-нанше, сначала отнесся к этому с большим подозрением. Он долго разглядывал каракули Моше, потом самого Моше, потом снова каракули.
«Ну давай, милок, – подбадривал его мысленно Моше, стараясь сохранять на лице выражение невинного энтузиазма. – Включи свой древний мозг. Это же не высшая математика, это почти комиксы. "Человечек с полной корзиной – неси сюда. Человечек с пустой корзиной – вали отсюда за новой порцией". Все просто, как угол этого недостроенного чуда света».
К удивлению Моше, Ур-нанше, немного подумав, решил попробовать. Возможно, его привлекла перспектива меньше орать. Или же в его не слишком обремененном интеллектом сознании мелькнула мысль, что этот странный чужеземец, похожий на ходячее недоразумение, может оказаться полезным.
И это сработало. Не сразу, конечно. Рабочие сначала путались в знаках, смеялись, показывали на Моше пальцами. Но постепенно, день за днем, новая система начала приживаться. Работа действительно пошла немного быстрее и слаженнее. Криков стало меньше, путаницы – тоже. Ур-нанше даже пару раз почти одобрительно хмыкнул в сторону Моше.
Это был крошечный, почти незаметный успех на фоне грандиозного хаоса Вавилонской стройки. Но для Моше он был огромен. Это было доказательство того, что его идея работает. Что он может влиять на этот мир. Что его лингвистический гений способен не только находить нестыковки в древних текстах, но и вносить вполне реальные изменения в окружающую действительность.
«Первый шаг сделан, – думал Моше, наблюдая, как рабочие Ур-нанше, используя его знаки, слаженно передают друг другу корзины с глиной. – Маленький шаг для одного заблудившегося во времени еврея, но, возможно, гигантский скачок для всего этого первобытного человечества. Или, по крайней мере, для этой конкретной бригады глиномесов. Главное теперь – не останавливаться. И постараться, чтобы мои "инновации" не привлекли внимания тех, кто повыше и позубастее Ур-нанше. А то ведь вместо лингвистического мессии я очень быстро могу превратиться во вредителя, достойного показательной порки. Или чего похуже».
Его заметили. Не только Ур-нанше. Другие надсмотрщики, видя, что бригада «этого странного с картинками» работает эффективнее, начали с любопытством приглядываться. Рабочие из других бригад подходили, спрашивали, пытались копировать знаки.
Реакция была неоднозначной. Кто-то откровенно смеялся над «детскими рисунками». Кто-то видел в этом колдовство и шарахался. Но были и те, кто проявлял интерес. Измученные непосильным трудом и вечной неразберихой, они инстинктивно тянулись к любому, даже самому примитивному, проявлению порядка и смысла.
Моше чувствовал себя одновременно и воодушевленным, и встревоженным. Его эксперимент начал выходить из-под контроля, распространяясь, как круги по воде. Это было и хорошо, и опасно. Но отступать он не собирался. Азарт исследователя и гордыня «оптимизатора» были слишком сильны.
Он еще не знал, куда приведут его эти первые шаги. Станет ли он тайным благодетелем этого мира, предотвратившим божественную ошибку? Или же его вмешательство приведет к еще более страшной катастрофе, чем та, что была описана в его священных книгах?
Пока он был просто Моше, чужак с картинками, пытающийся навести порядок в маленьком уголке большого вавилонского хаоса. И этот маленький уголок, казалось, начинал ему поддаваться.
Глава 11: Эффект домино и растущая слава (сомнительная)
Слава, как известно, дама капризная и часто приходит без приглашения, да еще и в таком виде, что лучше бы она оставалась дома. Слава Моше была именно такой – пыльной, пропахшей потом и глиной, немного нелепой и определенно сомнительной. Но она была, и это было фактом, от которого уже нельзя было отмахнуться, как от назойливой пустынной мухи.
Эффект домино, запущенный его скромными экспериментами с бригадой Ур-нанше, превзошел все его ожидания. Сначала один надсмотрщик, потом другой, видя, что у соседа дела пошли на лад, а криков стало меньше, начали с опасливым любопытством приглядываться к «этому чудаку с картинками». Ур-нанше, неожиданно для себя оказавшийся в роли передовика производства, раздувался от гордости и не слишком умело, но с важным видом объяснял коллегам преимущества «новой системы».
«Вот, гляди, – тыкал он пальцем в нацарапанный Моше на куске глиняной таблички знак, изображавший человечка, согнувшегося под тяжестью корзины. – Это значит "тащи сюда быстро, ленивая твоя печенка!". А вот этот, где человечек пустой, – "проваливай за новой порцией, да поживее!". Все просто. Даже такой баран, как ты, поймет».
Бараны, как ни странно, понимали. Или, по крайней мере, делали вид, что понимают, потому что начальство, в лице еще более старших надсмотрщиков, заметившее реальное, пусть и небольшое, ускорение работ на отдельных участках, начало ненавязчиво, но настойчиво «рекомендовать» внедрение «передового опыта».
Так Моше, сам того не ожидая, превратился в нечто вроде местного гуру по оптимизации трудовых процессов. К нему подходили, спрашивали, просили «нарисовать что-нибудь такое же понятное» для их специфических нужд. Кто-то смотрел на него с уважением, кто-то – с откровенным подозрением, видя в его знаках колдовство или просто очередную блажь чужеземца. Дети рабочих бегали за ним гурьбой, выпрашивая «смешные картинки».
«Ну вот, – думал Моше, отмахиваясь от очередного просителя, жаждавшего получить универсальный знак для команды "копай глубже, а то хуже будет". – Кажется, я становлюсь популярным. Еще немного, и начну автографы раздавать на свежих кирпичах. "Моше – ваш гид в мире эффективной коммуникации. Быстро, понятно, с гарантией (но это не точно)". Главное, чтобы эта популярность не привлекла внимания тех, у кого плетки длиннее и зубы острее. А то ведь от народной любви до народного же линчевания здесь, похоже, один шаг. И не всегда в нужную сторону».
Его самомнение, надо признать, немного подросло. Видеть, как твои идеи, пусть и такие простые, находят применение и приносят реальную пользу (или, по крайней
мере, ее видимость), было приятно. Это льстило его интеллектуальному тщеславию. Он чувствовал себя почти демиургом, пусть и в масштабах одной большой стройплощадки. Демиургом, который, в отличие от некоторых других, известных ему из священных текстов, старался действовать логично и эффективно.
Однако у этой растущей славы была и оборотная сторона. Чем больше людей знали о нем и его методах, тем выше становился риск. Не все были в восторге от его «инноваций». Некоторые старые, закостенелые надсмотрщики видели в нем выскочку, нарушающего привычный, веками устоявшийся порядок, где главным инструментом управления был зычный голос и тяжелая рука. Жрецы, как ему передавали шепотом, тоже начали косо посматривать на чужака, который осмелился вмешиваться в «богоугодное» дело строительства Башни своими непонятными знаками, больше похожими на каракули демонов, чем на благочестивые письмена.
Моше понимал, что ходит по тонкому льду. Один неверный шаг, одно неосторожное слово – и его «гениальный план» по спасению человечества от лингвистического хаоса мог закончиться весьма прозаично где-нибудь в яме для провинившихся рабов.
Но отступать было поздно. Да и не хотелось. Азарт был слишком велик. Он уже видел, как его система, его «универсальный язык знаков и команд», охватывает всю стройку, делая работу слаженной, быстрой, эффективной. Он представлял себе, как Башня растет не по дням, а по часам, устремляясь к небесам без всяких божественных помех.
«Ладно, Моше, – подбадривал он сам себя, в очередной раз рисуя на глиняной табличке какой-то новый, особо хитроумный символ. – Скромность, конечно, украшает. Но не тогда, когда ты стоишь на пороге изменения мировой истории. Просто будь осторожен. И постарайся, чтобы твой нимб "лингвистического мессии" не слишком ярко светил в темноте. А то ведь на такой свет слетаются не только мотыльки, но и всякие неприятные хищники».
Он еще не знал, что один такой «хищник», пусть и не самый крупный, но достаточно влиятельный, уже обратил на него свое внимание. И внимание это обещало Моше не только новые опасности, но и новые, совершенно неожиданные возможности.
Глава 12: Покровитель из неожиданного квартала
«Хищник», как и следовало ожидать от создания, привыкшего охотиться в мутных водах вавилонской бюрократии, появился не сразу и не с громким рыком. Он действовал тоньше. Сначала до Моше стали доходить слухи. Слухи о том, что некий Бальшум, «великий надсмотрщик южного сектора» – должность, звучавшая для Моше примерно так же осмысленно, как «главный по тарелочкам в небесной канцелярии», – заинтересовался его «картинками». Потом ему стали перепадать чуть лучшие куски еды – не объедки со стола рабочих, а вполне сносная лепешка с финиками или даже кусок вяленого мяса, переданные через Ур-нанше, который при этом делал таинственное и многозначительное лицо.
«Так-так, – размышлял Моше, с подозрением разглядывая неожиданное угощение. – Кто-то решил меня прикормить. Интересно, это прелюдия к чему? К тому, чтобы я нарисовал ему личный гороскоп на ближайшие сто лет, или к тому, чтобы меня по-тихому вывели за ограду и прикопали как потенциального смутьяна? В этом благословенном месте оба варианта кажутся одинаково вероятными».
А затем, в один из дней, когда солнце пекло с особым остервенением, а пыль на стройке стояла такая, что, казалось, ее можно было резать ножом и намазывать на хлеб вместо масла, за Моше пришел посыльный. Не простой рабочий, а человек в относительно чистой тунике и с бронзовой бляхой на груди, обозначавшей какую-то мелкую должность. Он передал Моше, что «великий Бальшум желает его видеть». Без объяснения причин. Просто «желает видеть».
«Ну вот, началось, – подумал Моше, покорно следуя за посыльным и стараясь на ходу привести в относительный порядок свою и без того не слишком презентабельную внешность. – Похоже, пришло время платить за финики. Надеюсь, процентная ставка не слишком высока. И что в качестве валюты не принимают человеческие головы».
Бальшум оказался мужчиной средних лет, плотным, коротко стриженным, с цепкими, умными глазами, которые, казалось, видели Моше насквозь, включая все его потаенные мысли и невысказанные сарказмы. Он не восседал на каком-нибудь импровизированном троне, а сидел на простом табурете в тени большого навеса, раскинутого неподалеку от одного из строящихся хранилищ. Перед ним на грубо сколоченном столе лежали глиняные таблички с какими-то расчетами и несколько «шедевров» Моше – копии его знаков, перерисованные, видимо, Ур-нанше или кем-то из его подручных.
Он не стал тратить время на пустые любезности.
«Ты – тот чужак, который рисует эти… знаки?» – спросил он, указав на таблички. Голос у него был низкий, спокойный, но с металлическими нотками, не предвещавшими ничего хорошего для тех, кто осмелился бы ему перечить.
Моше кивнул, решив, что отрицать очевидное – не лучшая тактика. «Если под "этими знаками" вы подразумеваете попытку внести немного порядка в хаос общения на стройке, то да, это моих рук дело. Или, по крайней
мере, моего ума».
Бальшум хмыкнул, внимательно разглядывая Моше. «Порядок… Хаос… Громкие слова для того, кто еще вчера, как мне доложили, питался отбросами и спал под открытым небом. Но, должен признать, – он снова кивнул на таблички, – в этих твоих каракулях что-то есть. Работа на участках, где их применяют, действительно идет… живее. Меньше пустых криков, больше дела».
«Ага, – отметил про себя Моше. – Значит, он не просто слышал, он проверял. И, похоже, остался доволен результатами. Это уже неплохо. По крайней мере, пока не достали плетку».
«Я всегда считал, – скромно заметил Моше, – что хорошо продуманная система коммуникации – залог успеха в любом начинании. Даже в таком грандиозном, как… это». Он неопределенно махнул рукой в сторону Башни.
«Ты не так прост, как кажешься, чужеземец, – Бальшум чуть прищурился. – Говоришь складно. И, похоже, не боишься. Это хорошо. Или очень плохо. Зависит от обстоятельств». Он помолчал, постукивая пальцами по столу. «Мне нужны люди, которые умеют думать. И которые могут заставить других работать эффективнее. Эта стройка… она пожирает людей и ресурсы с чудовищной скоростью. И любой, кто поможет хоть немного упорядочить этот процесс, будет полезен. Полезен мне».
Он сделал ударение на последнем слове.
«Я могу предоставить тебе… лучшие условия, – продолжил Бальшум. – Еду. Крышу над головой. Защиту от мелких неприятностей. Взамен ты будешь работать на меня. Упорядочивать коммуникацию на моем секторе. Обучать надсмотрщиков. Придумывать новые… знаки, если понадобится. И докладывать мне обо всем, что покажется тебе важным или подозрительным».
Моше молчал, обдумывая предложение. Это был шанс. Шанс не просто выжить, но и получить доступ к ресурсам, к информации, к возможности влиять на процессы в гораздо большем масштабе, чем он мог себе представить. Это приближало его к осуществлению его безумного плана. Но у всего была своя цена. И цена этой «защиты» и «лучших условий» могла оказаться слишком высокой. «Докладывать обо всем подозрительном» звучало не слишком приятно.
«Значит, он хочет не просто консультанта по картинкам, а еще и личного шпиона, – размышлял Моше. – Ну что ж, вполне ожидаемо. Власть всегда любит тех, кто готов доносить. Вопрос в том, смогу ли я играть в эту игру, не испачкавшись сверх меры. И не станет ли мой "покровитель" в один прекрасный день моим же палачом, когда я перестану быть ему полезным или стану слишком опасным».
«Ваше предложение… щедрое, великий Бальшум, – наконец произнес Моше, тщательно подбирая слова. – И я ценю ваше доверие. Упорядочивать хаос – это то, что мне всегда было по душе. Особенно если за это еще и кормят регулярно». Он позволил себе легкую усмешку.
Бальшум тоже чуть улыбнулся, но глаза его оставались холодными и внимательными. «Значит, договорились. С этого дня ты под моим покровительством. И под моим же надзором. Помни об этом, чужеземец. И постарайся не разочаровать меня. Я не люблю разочарований».
Так у Моше появился покровитель. И вместе с ним – миска горячей похлебки каждый вечер, угол в бараке для младших начальников, где не так сильно дуло по ночам, и относительная свобода передвижения по южному сектору стройки. А еще – новая, сложная и опасная игра, в которой ему предстояло лавировать между своими тайными целями и интересами человека, который видел в нем лишь полезный инструмент.
Моше понимал, что это лишь временная передышка. Но он был готов использовать ее по полной. Ведь его собственный «Лингвистический Дивертисмент» только начинался.
Глава 13: «Академия» Моше и первые ученики (не всегда способные)
Бальшум был человеком дела. Не успел Моше толком привыкнуть к своему новому статусу «личного консультанта по оптимизации хаоса» и регулярному питанию, как его покровитель подкинул ему новую задачку.
«Твои знаки, чужеземец, – заявил он однажды утром, когда Моше, наслаждаясь редким моментом покоя, пытался изобразить на глиняной табличке символ, обозначающий «не кантовать, внутри хрупкое и, возможно, проклятое», – действительно работают. Даже те болваны, что раньше могли только орать и размахивать плеткой, кажется, начинают понимать, что существуют и другие способы управления стадом… то есть, я хотел сказать, уважаемыми рабочими». Бальшум слегка кашлянул, поправляя свою бронзовую бляху. «Поэтому я решил, что твой… э-э… талант не должен пропадать даром. Ты обучишь других надсмотрщиков моего сектора. Особенно тех, у кого производительность труда напоминает скорость засыпающей черепахи».











