Читать онлайн Отечество. История о войне, семье и совести в нацистской Германии
- Автор: Буркхард Билгер
- Жанр: Биографии и мемуары, Зарубежная публицистика
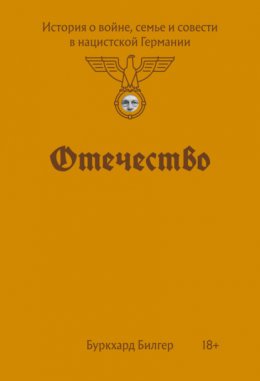
Copyright © Burkhard Bilger, 2023
© М. Шер, перевод с английского, 2025
© ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Individuum ®
Примечания от автора
Книга, которую вы держите в руках, представляет собой документальную повесть, своего рода исторический репортаж. В ее основе – первоисточники и рассказы непосредственных участников событий, записанные в беседах с разными людьми и найденные в архивах Франции и Германии. Места, где мне пришлось «маневрировать» между противоречившими друг другу свидетельствами, я постарался в тексте выделить особым образом. Лакуны, в которых мне недоставало деталей, я заполнил за счет современных источников. В некоторых случаях пришлось полностью довериться памяти людей – насколько ненадежной, настолько и цепкой.
Как и многие мужчины его поколения, мой дед не любил рассказывать о себе. Он не оставил ни дневника с душевными метаниями, ни завещания, ни воспоминаний о войне, отшлифованных и отполированных до состояния амулетов. Он хотел забыть, он не хотел помнить. Тем не менее, следы своего существования он оставил повсюду – в устных рассказах, воспоминаниях, письмах из тюрьмы, в судебных протоколах, школьных отчетах, полицейских рапортах. В книге я попытался проложить тропинку до этих источников: по этой тропинке моя мама бредет за своим отцом, он – за своим, а я – за всеми ними. Я постарался довести эту тропинку до самых истоков.
1
Подозреваемый
Человек, сидевший в комнате для допросов, по всем признакам походил на опасного фанатика: строгая осанка, костлявые плечи, сжатые губы[1]. Он носил очки с латунными дужками и круглой черепаховой оправой, голова была выбрита сзади и по бокам. Только на макушке оставалась копна каштановых волос, похожих на накладной парик. Пока он позировал для фото в профиль и анфас, в глаза бросалась странная асимметрия на его лице. Левый глаз выражал твердость и целеустремленность, но одновременно страх и мýку. Правый был стеклянным и безжизненным.
Перед ним взад-вперед вышагивал следователь – француз Отто Баумгартнер. «В октябре 1940 года вы переехали в Эльзас и задались целью обратить в национал-социализм жителей Бартенайма»[2], – начал он зачитывать с машинописного листа. «Вы получили должность ортсгруппенляйтера[3], рассчитывая стать полновластным хозяином города… Вы выполняли свои обязанности с беспримерным рвением и деспотическим задором! Во всем Мюлузском округе вас воспринимали как самого страшного и одиозного начальника!»
После каждого обвинительного пункта Баумгартнер делал паузу, чтобы дать арестанту ответить, другой следователь вел стенограмму допроса. Прошел уже почти год со дня капитуляции Германии, и эти люди успели наслушаться обличений и доносов. Регион бурлил, особенно в сельской глубинке: работали военные суды и гражданские ополченцы, по деревням бродили толпы линчевателей, чинивших стихийную расправу. Четыре года немецкой оккупации усугубили и без того мучительный внутренний раскол во Франции, натравили друг на друга соседей, столкнули лбами христиан и евреев. Пришло время сводить счеты. За пять послевоенных лет более девяти тысяч человек будут казнены за военные преступления и коллаборационизм, и это если не считать тех, на кого донесли и кого избили, а еще женщин, которых остригли, обрили и прогнали через города при стечении народа за то, что спали с немецкими солдатами. Французы называли те события «беспощадным очищением» – épuration sauvage.
Факты в деле сомнению не подлежали. Получены они были, казалось бы, от безупречного источника – капитана Луи Обрехта, заместителя начальника французской военной администрации и председателя местной фильтрационной комиссии. Обрехт – ветеран французской армии – какое-то время находился в плену. Когда в 1940 году немцы вторглись в Эльзас, он работал директором школы в городке Бартенхайм, где задержанный чуть позже станет ортсгруппенляйтером, то есть руководителем местной партийной организации. Четыре года, утверждал Обрехт, задержанный наводил ужас на Бартенхайм. «Но именно в последний год своего „правления“ он стал запугивать людей и угрожать им».
Обрехт обвинял бывшего функционера в самых разных преступлениях – от саботажа до использования французских детей для шпионажа. Но следователи сфокусировали внимание на одном случае – убийстве местного крестьянина Жоржа Баумана[4]. Утром 4 октября 1944 года – это была среда – начальник немецкой военной полиции Антон Акер приказал Бауману явиться на работу и приступить к сколачиванию деревянных поддонов для вермахта. Бауман отказался. Война к тому моменту уже складывалась не в пользу Германии; союзные армии были на подходе. Крестьянин сказал, что не собирается работать на «этих немецких свиней». Когда Акер попытался его арестовать, завязалась потасовка, и Бауману с родней удалось разоружить офицера.
Победа оказалась недолгой. Через час Акер вернулся с пятью полицейскими. Они арестовали Баумана, а чуть позже в тот же день поймали его жену и дочь; сыну же удалось скрыться в полях. Троих задержанных отвезли в полицейский участок, где всех сильно избили. К вечеру Бауман был полуживой. «Я обнаружил его на полу участка – без сознания; его волосы, щеки, лоб были в крови», – позже рассказал следователям местный врач. «У него был рассечен череп, несомненно от ударов прикладом, было пулевое ранение в живот с разрывом кишок и, вероятно, артерии». Вечером того же дня Бауман умер в больнице. К моменту смерти синяки от побоев начали появляться по всему телу.
2
Объект исследования
Семейная история – опасная штука, подобная тропинке в темном лесу. В этом лесу по ночам кричат, а тебе приходится бегать среди деревьев в тонких тапках и старом фланелевом халате, высвечивая себе путь карманным фонариком. У тебя перехватывает дыхание, ты бежишь назад, потом вдруг замираешь в оцепенении. Кто-то как будто кашлянул или сдавленно всхлипнул за спиной или померещилось? Там, кажется, что-то движется – какая-то сгорбленная фигура, она уходит в тень, но ты не в состоянии заставить себя за ней пойти. А когда утром идешь назад и видишь утоптанную землю, то теряешься в путанице следов, большинство из которых – твои собственные.
Я американец, родился в Оклахоме, меня учили не бояться истории и верить, что Бог на моей стороне или по крайней мере готов простить мне мои прегрешения. Но во мне течет немецкая кровь, так что я знаю, что прощение не всегда дается легко. В каждой стране свое темное прошлое, свой послужной список ошибок и преступлений. Так всегда говорила мне мама. Поскреби сегодняшних спокойных датчан, и ты увидишь, что в их венах по-прежнему течет кровь викингов. Швейцарцы, прежде чем начать считать приходные ордера в банках, слыли самыми опасными наемниками в Европе. А веселые голландцы с лицами, раскрасневшимися от выпитого пива, какими мы видим их на картинах, обязаны своим благосостоянием в основном работорговле. Еще мама говорила так: каждый из нас несет в себе семена жестокости и милосердия. Что именно возьмет верх, зависит в равной степени и от обстоятельств, и от характера человека.
Во многом ее мнение было продиктовано защитной реакцией. Мама родилась в 1935 году в предгорьях Шварцвальда на юго-западе Германии. Благодаря юному возрасту она не то что не служила Третьему рейху, но даже не попала в гитлеровский Союз немецких девушек, хотя ей очень нравились их нарядные белые блузки и черные галстуки. Впрочем, юный возраст не помешал ей увидеть и осознать ужасы войны. Она считала, что преступной при определенных обстоятельствах может стать любая страна и любой народ – не только потому, что внимательно изучала историю, но и потому что видела все эти ужасы своими глазами. Если ее соседи, да и собственный отец, стали нацистами, разве не могли ими стать и другие?
В детстве таких вопросов у меня вообще не возникало. Как и большинство немцев ее поколения, мама редко рассказывала о войне, а если и рассказывала, то так, как рассказывают какую-нибудь страшную сказку – в простых образах, черно-белых, с вкраплениями красного. Например, о чудесном спасении из логова ведьмы или об охотнике, пришедшем за ее сердцем. Когда она с мужем – моим отцом – в 1962 году переехала в Америку, все эти воспоминания будто оказались заброшены высоко на антресоли, как какие-то старопечатные книги в кожаном переплете с мрачным готическим шрифтом. Вроде и на виду, но лезть туда уже не хотелось.
Страна, из которой они уехали, осталась где-то далеко – сломленная, угрюмая, опустошенная, будто готовая принять следующий удар. Железные дороги восстановили, руины расчистили – всего вывезли около пяти миллиардов кубометров обломков. Люди же по-прежнему казались контуженными, полусонными. Там, где раньше сияла зловещая современность – автобаны, фольксвагены, двенадцатицилиндровые моторы, вермахт, – снова явилась миру «историческая родина». Больше половины молодых мужчин полегли на поле боя, города вбомбили в прошлый век. В католических деревнях юга Германии на улицах пахло угольной гарью и кислым молоком.
Моим родителям повезло больше других. Мама была учительницей начальных классов, как и ее родители. Вскоре после того, как в 1958 году она вышла замуж за моего отца, ей предложили работу в городке Инцлинген недалеко от ее родного Вайль-ам-Райна. Расположенный в глухом углу Баден-Вюртемберга, вплотную к швейцарской границе и с трех сторон окруженный нейтральной территорией, Инцлинген пережил войну будто под защитой какого-то силового поля. Местный замок, окруженный рвом с водой, – Wasserschloss – не пострадал. Когда ночью срабатывали сирены воздушной тревоги, люди по обе стороны границы гасили свет и опускали черные шторы. Из-за этого британским бомбардировщикам было сложно точно определить, где начинается нейтральная Швейцария, и они от греха подальше пролетали мимо. И все равно, заслышав гул самолетов, мама начинала нервничать, хотя война закончилась больше десятилетия назад.
К новой должности ей полагалась еще и трехкомнатная квартира в мансарде здания школы – редкая по тем временам роскошь. Другие молодые пары вынуждены были жить с родителями или делить жилье с беженцами со всей Европы. Они прибывали из Восточной Пруссии, Силезии, Восточной Померании и других бывших немецких территорий, из Судет, когда-то аннексированных нацистами, а теперь возвращенных Чехословакии, а также из Венгрии, Румынии, Югославии и других стран, которые просто не хотели больше видеть у себя немцев. Более тринадцати миллионов этнических немцев были депортированы из разных стран и расселены по всей Западной Германии. Беженцы и их новые хозяева говорили на разных диалектах немецкого, ели разную еду и по-разному молились Богу. Теперь они вынуждены были делить друг с другом печь, ванну и диван. В небольших городах, подобных Инцлингену, даже выходцу из соседней долины иногда требовались годы, чтобы стать своим. А еще здесь как будто под досками пола тек темный поток осознания – вытесненного, отрицаемого или внезапно и мучительно принятого – осознания того, что они сами всё это на себя навлекли.
Они видели фотографии из лагерей смерти Бухенвальд и Берген-Бельзен. Они слышали истории о принудительных абортах и экспериментах на людях. Они сознавали, что допустили весь этот ужас – впустили домой, а потом наблюдали, как ужас переходил из одного дома в другой, доносил на одного соседа, арестовывал другого, загонял обреченных на смерть матерей с детьми в вагоны для скота. И тем не менее они старались гнать от себя эти мысли. «Мы в Германии должны сообща разобраться в духовных вопросах», – говорил в 1946 году философ Карл Ясперс своим студентам в Гейдельбергском университете на лекции, которую позже напечатают в его книге «Вопрос о виновности»[5]. Ясперс считал, что эта задача не только для ума, но и для сердца, опасаясь при этом, что немцы настолько сломлены, что не смогут за нее взяться. «Люди не хотят слышать о виновности, о прошлом, их не заботит мировая история. Они хотят просто перестать страдать, хотят выкарабкаться из нищеты, хотят жить, а не размышлять»[6].
Избавиться от привычек войны было нелегко. Сдержанная речь, взаимная подозрительность и всепроникающий страх, что горсть пайковых талонов да сто грамм говяжьего жира – это и есть всё, что поможет твоей семье прожить еще неделю. В небольших магазинах, куда моя мама ходила за покупками каждый день после обеда, продукты по-прежнему взвешивали, заворачивали в бумагу и выдавали из-за прилавка, а мясо отрезали от туши по усмотрению мясника. Все расходы мама записывала в табачного цвета Haushaltsbuch[7]: Eier: 1 pfennig, Speck und Leberwurst: 2.90 mark, Brötchen: 50 pfennig[8]. Всю жизнь тогда измеряли в миллиграммах.
Я часто пытался представить себе все это, но так получалось, что она рассказывала о той жизни, когда мы сидели в комнате с ковровым покрытием и кондиционером. То время казалось гораздо дальше, чем лишь поколение назад: мансардная квартира без ванны и горячей воды, спальни без отопления во время долгой немецкой зимы. Мама вставала в 5:30 утра и на цыпочках спускалась в подвал в темноте, чтобы не разбудить моего старшего брата, спавшего в кроватке. Она наливала воду в большую черную кастрюлю и ставила ее на огонь; топить нужно было яйцевидными кусками угля – их называли Schwarze Eier[9]; когда вода закипала, мама сваливала в кастрюлю кучу пеленок. Выстирав их добела и развесив сушиться, она возвращалась наверх, чтобы покормить брата, а потом передавала его молодой вдове, чей муж погиб на войне; та сидела с мальчиком днем, пока мама вела уроки этажом ниже: в ее классе было пятьдесят первоклассников, из них несколько, кажется, постоянно стояли к ней в очереди, чтобы вырвать очередной шатающийся зуб. По субботам она кипятила еще больше воды, чтобы все члены семьи могли искупаться.
Глядя на нее, сложно было себе представить, что она такая двужильная. Выросшая на сале, картошке, обезжиренном молоке и сыре, она была маленького роста, с бледным, вечно настороженным лицом, круглым, как луна. Она так плохо видела, что носила очки толщиной с бутылочное стекло, а кожа ее местами почти просвечивала. Руки у нее были такие теплые – с венами, проходившими очень близко к поверхности, – что из-за их тепла хлебное тесто иногда начинало подниматься, пока она его еще месила. Деревенские дети говорили про нее – еще девочку, – что ее ярко-рыжие волосы – ведьминские. Но она скорее походила на застенчивое домашнее привидение, которое выходило из себя, только когда его загоняли в угол. Она рано научилась различать ситуации, когда надо драться, а когда – прятаться.
Они с моим отцом учились в одной школе и в одном выпускном классе из двадцати восьми человек. Оба были отличниками – лучшими в своей Oberschule[10], хотя тогда лишь немногие получали аттестат о полном среднем образовании. Ей доверили выступить с речью на выпускном, но в университет после школы поступил только он. Если бы мир был для нее открыт, она хотела бы изучать право. Стремление к справедливости сидело в ней глубже, чем что-то еще, и порой принимало довольно жесткие формы. Увы, высшее образование дочери было ее родителям не по карману. Она видела других девушек в городе, которые сами оплачивали учебу: плохо одетые, измученные, слишком измотанные работой, чтобы найти мужа, слишком бедные, чтобы купить пару приличных туфель.
Ей больше так жить не хотелось, так что, пока отец писал кандидатскую по физике в Швейцарии, она дергала зубы своим первоклашкам и родила за три года троих детей. Первенцем стал мой брат Мартин: он родился в 1959‐м. Потом появились на свет сестры Ева и Моника. Вечером, когда отец поездом из Базеля возвращался домой, пряча под плащом бутылку молока и жестяную банку кофе, в голове его еще крутились формулы из лаборатории. Пока мама готовила ужин, он ходил по кухне взад-вперед, размахивая руками и рассказывая о сигналах и шумах, гауссовых пучках и гравитационных волнах. Она молча слушала у плиты, изредка оборачиваясь, чтобы задать вопрос или указать на логическую ошибку, чем вызывала у отца очередной приступ анализа и махания руками. Ее познания в физике были в основном интуитивные, подкрепленные их ночными разговорами. Но он был рад ее подсказкам, а она жаждала любого разговора.
Это был подарок судьбы, а не жизнь, и она это прекрасно понимала. После воя сирен и оглушающего грохота снарядов даже кипятить пеленки казалось благословением. Но тьма все равно не давала покоя. На свадебных фотографиях родителей, сделанных в яблоневом саду в мамином городе, она прильнула к отцу. Он своими большими ушами и горящими глубоко посаженными глазами похож на молодого Кафку и смотрит в камеру так, будто не до конца ей доверяет. Ее волосы растрепаны ветром, а в глазах можно разглядеть едва уловимое удивление, словно она только сейчас поняла, как ей повезло. При этом платье на ней – из черного бархата, а его костюм – чуть ли не траурный. Чувствуется, что прошлое еще разлито в воздухе, что оно еще слишком близко, чтобы можно было спокойно выдохнуть.
Прошло два года после смерти ее матери от рака желудка и одиннадцать – с момента возвращения ее отца из Франции. Она знала, что он там отсидел больше двух лет, сначала в лагерях для военнопленных на востоке Франции после ареста в Эльзасе, затем в одиночной камере Страсбургской тюрьмы после повторного ареста по подозрению в военных преступлениях. Она помнила, как он надевал свою форму – она тогда была еще ребенком, – коричневую, с орлом на фуражке и черной свастикой на рукаве. Но она никогда не спрашивала его, что он делал во время войны. Поиски ответа на этот вопрос, который она не задавала, пока дед был в соседней комнате, начались много лет спустя, после того как мама с отцом пересекли океан и, казалось, оставили прошлое позади.
Они собирались пожить в Америке год-два. Постдок в США стал напоминать обряд посвящения для физиков из лаборатории моего отца и казался небольшим приключением перед тем, как жизнь перейдет в серьезное русло. Однажды вечером, когда родители еще жили в Германии, они решили выбросить кое-какие старые вещи – свалили их на тележку и потащили на деревенскую свалку. Внезапно отец остановился и показал на небо. Что там такое светится? Для звезды свет слишком яркий, для самолета слишком небольшая скорость. Яркая точка, похожая на болотный блуждающий огонек, двигалась вдоль горизонта. «Думаю, это русский спутник», – сказал он.
За последние годы Советы запустили в космос три спутника, вслед за ними на орбиту вышла и Америка. Американская ракетная программа давно была связана с Германией. Вернер фон Браун и его сотрудники, разработавшие ракету «Фау-2», в 1945‐м сдались союзникам и продолжили научную работу в американских лабораториях. Фон Браун теперь был директором Центра космических полетов имени Джорджа Маршалла, а немецких физиков хотели заполучить себе едва ли не в каждом техническом отделе и федеральной лаборатории в Америке. Все дороги на американский континент были перед ними открыты; вопрос был только в том, куда ехать.
Мой отец вырос в эпоху Эйнштейна и Гейзенберга, Нильса Бора, Поля Дирака и Ханса Бете, и все они уехали за океан, как фон Браун. Отец принадлежал уже к другому поколению, но его работа в моих глазах несла на себе отблеск их выдающихся достижений. Он рассказывал мне о них так же, как другим детям отцы рассказывали о Микки Мэнтле и Джонни Юнайтасе[11] – как о хитрых и дерзких гениях, обманувших законы физики. Теория относительности и квантовая теория, по словам отца, чем-то походили на подвиг Уилли Мейса, поймавшего мяч через плечо во время чемпионата по бейсболу 1954 года. «Представляешь!» – говорил он, поднимая указательный палец и выкатывая глаза. «Но потом Бор – безумец – доказал, что все эти придурки ошибались!»
Однако легенды, которыми его привлекала Америка, были иного рода. В детстве он был одержим Диким Западом и ковбойскими романами немецкого писателя Карла Мая. Списанные у Джеймса Фенимора Купера или придуманные на пустом месте – во время своей единственной поездки в Америку Май не заезжал дальше Ниагарского водопада, – книги Мая заставили несколько поколений немецких мальчишек в своем воображении скакать галопом по пыльным равнинам Америки. Гораздо больше, чем Эйнштейном или Бором, отец представлял себя «стариной Шаттерхендом» – немецким колонистом-первопроходцем, героем самых известных романов Мая. Как и старина Шаттерхенд, отец радовался, когда приходилось применять смекалку и что-то мастерить из подручных материалов. Он был не столько теоретиком, сколько инженером, и даже не столько инженером, сколько экспериментатором – самоучкой, который втайне собирал кольцевые лазеры и другие странные устройства. Ему в принципе хватило бы складного ножа и пакета с черным порохом. Так что, каким бы странным и бестолковым с точки зрения карьерных перспектив нам этот выбор потом ни казался, когда нужно было решить, где в Америке работать, он выбрал университет Оклахомы, хотя мог поехать куда угодно. Это было самое сердце Индейской территории[12], и Карл Май, конечно, упоминал ее в своих книгах.
Мама же лишь надеялась, что нам будет где жить. Если бы в Америке с жильем было так же туго, как в Германии, им пришлось бы вернуться домой. Собственный дворик, ванная с горячей водопроводной водой, продовольственный магазин рядом – мамины мечты были практического свойства. В Германии, казалось, всегда существовал только один правильный способ действий – как правильно перейти улицу, как правильно носить шляпу, как воспитывать ребенка, – и если вы осмеливались поступить иначе, кто-то обязательно вам на это указывал. В окнах мелькали любопытные лица. Ей хотелось не только приключений, но и сбежать куда подальше.
Перелетев через Атлантику, родители со старшими детьми ждали вечерней пересадки в аэропорту Айдлуайлд в Нью-Йорке[13], когда напротив них села женщина с фиолетовыми волосами. Мама бросила на нее косой взгляд – Mensch! [14]Неужели люди здесь все такие странные? Но ее сразу отвлекли мой брат с сестрами. Они растянулись на скамейке рядом с ней, измотанные долгим перелетом на винтовом самолете: Мартину было тогда три года, Еве – два, Монике – меньше года. (Моя младшая сестра Андреа и я родились позже, уже в Америке.) Суетящиеся и ноющие дети внезапно издали громкий вопль: мама подняла глаза и увидела, что перед ней стоит та женщина с фиолетовыми волосами. Она сходила до ближайшего торгового автомата – который сам по себе был чудом – и вернулась к ним с горстью конфет. Мама и трое детей уставились на нее, не понимая, как отнестись к этой таинственной незнакомке, принесшей дары. Дети схватили конфеты, сорвали обертку и, довольные, одну за другой съели. Это было 22 ноября 1962 года – в День благодарения.
Прошло всего семнадцать лет с момента окончания войны. Семнадцать лет с момента, когда американские солдаты освободили Дахау и Бухенвальд и увидели своими глазами последствия зверств в Ордруфе, Гунскирхене и Маутхаузене. На войне погибло почти полмиллиона американцев, домой, чтобы рассказать о ней, вернулось примерно пятнадцать миллионов ветеранов. Еще они видели потоки оборванных беженцев, разрушенные города, несчастные семьи и умирающих от голода детей на обочинах дорог. Они делились пайками и сигаретами с выжившими, танцевали линди-хоп с немецкими девушками и иногда забирали их с собой в Америку. Они знали на собственном опыте, как обманчива и лжива война и как часто переплетаются вина и невиновность.
Имена родителей были до смешного немецкими: Ханс и Эдельтраут Бильгер[15]. Акцент выдавал их с потрохами. Однако американцы показались им необычайно доброжелательными. Речь о войне заходила редко, а когда все же заходила, люди понимали, что родители были в то время еще детьми, поэтому разговор переходил на прадеда из Шлезвиг-Гольштейна или племянницу, учившуюся в Гейдельберге. Просто какое-то чудо.
К моменту, когда через полтора года на свет появился я, родители решили остаться в Америке навсегда. Оклахомский университет был в свое время создан за счет земельного гранта[16] федерального правительства, поэтому учили здесь самым практичным вещам – сельскому хозяйству, экономике, инженерному делу и американскому футболу, причем не всегда именно в этом порядке. Расположен он был в городке Стиллуотер[17] с населением двадцать пять тысяч душ, половина – студенты. Асфальт на улицах переходил в красную глину на приличном расстоянии до городской черты, а главная аллея университета шла через все четыре квартала, которые занимал городок. В зданиях на ней размещались в основном бильярдные залы и ковбойские бары, где наливали разбавленное 3,2-градусное пиво. Даже «Макдоналдса» и «Бургер-Шефа» здесь не было, не говоря уже о китайском ресторане – настолько мал был Стиллуотер. Но родителей это более чем устраивало.
На выцветших «кодахромах» тех лет кирпичи, из которых было сложено наше ранчо, еще сырые после обжига, на дворе нет деревьев и забора, а бермудская трава уже пожелтела от ветра и солнца. Сидя на террасе без тени, в окружении детей в ковбойских костюмах и летних платьях, родители улыбаются ясными улыбками и смотрят на нас беззаботными глазами людей, вырвавшихся из истории и разлетевшихся по континенту на своих переселенческих кибитках. Они вроде бы оказались максимально далеко от всего, что раньше знали, хотя, сказать по правде, было это не совсем так.
В Оклахоме своя история, напрямую связанная с тем, от чего они сбежали. В основе гитлеровских Нюрнбергских расовых законов лежали законы Джима Кроу[18], принятые в Соединенных Штатах после Гражданской войны и еще в целом действовавшие, когда в Америку приехали мои родители. Оклахома вообще стала первым штатом, где даже телефонные будки были разделены по расовому признаку. Четырьмя годами ранее белые погромщики в Талсе сожгли более тысячи двухсот домов, принадлежавших темнокожим, и убили около трехсот темнокожих жителей города. Смешанные браки между темнокожими и представителями других рас были по-прежнему вне закона, а в Стиллуотере граждане с темной кожей ютились к юго-востоку от центра в квартале одноэтажных бунгало, который постоянно затапливало[19]. Когда был принят Закон о гражданских правах[20], владельцы единственного в городе бассейна «Кристалл-Пландж» его продали – по слухам, испугались, что теперь их заставят пускать туда не только белых.
Едва ли мы тогда обращали на это внимание. Когда я вспоминаю Оклахому времен моего детства, то понимаю, что в памяти моей полно слепых зон. Мне никогда и в голову не приходило задаться вопросом, почему все мои соседи были белые. Единственное исключение – коллега отца, приехавший из Индии. При этом у меня в классе темнокожие ученики были. В школе я узнал о Дороге слез, когда шестнадцать тысяч чероки насильственно выселили из юго-восточных штатов в Оклахому, при этом четыре тысячи из них погибли в пути. Школьный рассказ, правда, заканчивался на том, как они прибыли в резервацию. Нам не рассказывали, что некоторые племена лишились большей части своих новых земель в результате принудительного распределения наделов. Никто нам не говорил, что представители народа осейджей после того, как в их резервации нашли нефть, стали богатейшими людьми на планете, но потом их начали систематически убивать и грабить нефтяные спекулянты, банкиры, «правоохранители» и прокуроры. Учителя упоминали только «пять цивилизованных племен», как они их называли, – чероки, чокто, маскогов, семинолов и чикасо, – как если бы остальные не до конца соответствовали этому «званию».
Мы жили на странном стыке между Америкой, какой ее представляли мои родители, и Германией, оставшейся в их памяти. Прошлое не уходило. Что-то в каждом из них не давало ему уйти. Они жили в Штатах по грин-картам, дома с нами говорили по-немецки, точнее на малопонятном для посторонних юго-западном алеманнском диалекте, и общались в основном только с другими немцами. (Лучшей подругой мамы была ее парикмахерша, лучшим другом отца – ее муж, бывший боксер, работавший бригадиром на сборочном предприятии.) Пока я учился в школе, отец два раза брал длинный творческий отпуск, и мы жили в Германии и во Франции, где он отдавал нас в школу, будто мы собирались там остаться надолго. Но мы все равно возвращались в Оклахому, хотя родители сохраняли немецкое гражданство – на всякий случай.
Наш дом в Стиллуотере всегда казался нам отдельным мирком, маленьким замкнутым княжеством со своими законами и невидимыми границами, эдаким Лихтенштейном в прериях. Мы ездили по тем же улицам, что и все остальные, и иногда говорили с ними на одном языке, но только для поддержания «дипломатических» отношений. По утрам в будни перед школой я смотрел выступления гитаристов и скрипачей, игравших блюграсс, на местном кабельном канале. Я не понимал, о чем они пели, но меня не покидало ощущение, что реальный мир принадлежал не нам, а им – мир проселочных дорог к востоку от города, мир арен для родео и кантри-дансингов, площадок для петушиных боев и бензоколонок, перестроенных в пятидесятнические церкви.
Мы же соблюдали свои обычаи. Мы ели Bratkartoffeln и Gurkensalat[21], играли в скат и слушали немецкие поп-хиты Хильдегард Кнеф и Александры. Папа ловил своим коротковолновым «Грюндигом» новости из Германии. Накануне Рождества мы с отцом срубали кедр на ближайшем пастбище и ставили скрюченное, иссохшее из-за безводной осени дерево в гостиной, украшая его свечами, как того требовали немецкие традиции. Ветки его были настолько сухие, что могли загореться от любой искры; иглы сыпались дождем на ковер. Но мы все равно зажигали свечи, и вся семья выстраивалась по комнате на изготовку – на случай, если кедр вдруг полыхнет.
Я больше всех в семье походил на ассимилировавшегося американца, хотя по моему тевтонскому имени вряд ли об этом можно было догадаться: Буркхард значит «твердыня». Имена брата и сестер звучали нейтральнее, они были как бы послевоенными, универсальными, почти скандинавскими: Мартин, Ева, Моника, Андреа. Никаких тебе Траутвиг и Эрминтруде, Дагобертов и Бальдемаров, никаких Эдельтраут, Гернотов, Зигмаров и Винфридов – так звали маму и ее братьев. Эти имена несли в себе слишком много мифологии и истории, семейственности и кровных уз. Слишком многие такие имена были вписаны в «арийские» аусвайсы.
Мне было двадцать восемь, когда мама впервые рассказала мне, что ее отец сидел в тюрьме как военный преступник. Сейчас я бы отдал почти что угодно, лишь бы поговорить с немецкими родственниками, которые тогда еще были живы, услышать от них, что они знали о той истории. Мамин старший брат Гернот отличался язвительным и острым умом и мог говорить о своем отце с горькой преданностью старшего сына. Зигмар – средний – оказался ближе всех к отцу после войны. С годами история моего деда становилась все более интересной и странной – круги от нее расходились, «как рябь на воде, когда камень бросишь», так говорила мама, – но я старался во все это не лезть. Германия была чем-то слишком личным.
Как и родители, свой третий десяток я провел в попытке отстроиться от всего, что раньше знал: учиться поехал на Восточное побережье, потом работал журналистом и редактором, писал репортажи из Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Восточной Европы. Ни о Германии, ни о своей семейной истории я не писал ни разу. Коллективная память не особо умеет прощать. Чем события дальше от нас, тем больше мы их сглаживаем и упрощаем, пока история не станет просто серией поучительных сказок: преступление и наказание, герои и злодеи, кто-то плохо себя вел. Меня всегда трогала добрая воля, с которой моих родителей встретили американцы, когда они переехали. Но я знал, что война на самом деле никогда не уходила из памяти людей. Даже наоборот, их отношение к ней стало жестче. Я чувствовал это по голосам, когда упоминал о своих корнях. «А сколько лет вашим родителям?» – спрашивали меня, а затем молча отсчитывали время до 1939 года.
Стало понятно, что о моем происхождении лучше не распространяться. Во время переписи населения 2020 года около сорока миллионов американцев заявили, что в той или иной степени имеют немецкие корни[22], – их оказалось почти в два раза больше, чем американцев английского происхождения, больше, чем представителей любой другой этнической группы в стране[23]. Однако в культурном плане американцев немецкого происхождения давно не видно и не слышно. Не раз и не два друзья и студенты признавались мне, что далеко не сразу стали полностью мне доверять, учитывая, кто я и откуда. Им с детства внушали, что немцы чем-то отличаются от других, что есть в них что-то неизменно подозрительное.
Летом после окончания колледжа я был в числе сопровождающих группы старшеклассников во время их полуторамесячной поездки по Франции. Мы путешествовали уже почти месяц, когда одна из моих любимых учениц в группе – остроумная и бойкая пятнадцатилетняя девушка с огромной копной вьющихся волос – подошла ко мне после ужина. «Я пришла к выводу, что с вами все окей», – объявила она с вызывающей ухмылкой. А поначалу ей, видимо, так не казалось. Она выросла в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене, в консервативной еврейской общине. По ее словам, ее всю жизнь учили опасаться немцев. Но последние недели она, как выяснилось, внимательно наблюдала за мной и пришла к выводу, что для меня сделает исключение.
Я немного опешил и рассмеялся. Оценив выданный мне вотум доверия, в то же время я внутренне вздрогнул от осознания, что в нем нуждался. Но, конечно, мне было понятно, откуда взялись ее сомнения на мой счет. Ужасы Освенцима и Хрустальной ночи всегда были в поле ее зрения – и в школе, и по телевизору. Мой народ для нее состоял из головорезов-убийц из «Выбора Софи», дневника Анны Франк и чопорных шутов из «Лагеря № 17». Немцы – воинственные, лишенные юмора, до ужаса методичные. Им нельзя доверять. «Трудно поверить, что обычные датчане или итальянцы действовали бы так же, как обычные немцы», – пишет историк Дэниел Голдхаген в своем бестселлере Hitler’s Willing Executioners («Добровольные подручные Гитлера»)[24]. «Немцы не были обычными людьми».
Голдхаген написал свою книгу в 1996 году, когда Германия вновь приковала к себе встревоженные взгляды. После падения Берлинской стены возникла единая страна, которая пугающим образом напоминала себя прежнюю: образованную, эффективную, экономически доминирующую. Что удержит ее от возврата к старым авторитарным привычкам? Со времен Гитлера мало что изменилось – с таким заявлением в 1990 году выступила группа историков, которую собрала Маргарет Тэтчер. Немецкий характер по-прежнему представлял собой смесь, «в алфавитном порядке, агрессивности, бесцеремонности, зацикленности на себе, комплекса неполноценности, напористости, самоуверенности, сентиментальности и тревожности»[25]. Ну, или так чуть позже утверждал личный секретарь Тэтчер, барон Пауэлл-оф-Бейсуотер в секретном меморандуме. Для пущей убедительности он добавил еще про «склонность к перегибам и к переоценке собственных сил и возможностей»[26].
Даже когда новая Германия заработала себе репутацию самой стеснительной и нерешительной из сверхдержав, на ее решения все равно смотрели в том же подозрительном свете. Когда немцы отказались прощать непосильные долги греческого правительства и временно закрыли границы для сирийских беженцев, когда Volkswagen поймали на махинациях с вредными выбросами, все это воспринималось не просто как бессердечность, а как своеобразные окна, в которых видно было душу страны. «Германия не бывает такой, какой кажется, – писал обозреватель The New York Times Роджер Коэн в 2015 году. – В ней чувствуется напряжение из-за несоответствия между установленным порядком и глубинными желаниями. Формальности могут маскировать истерию. Если что-то идет не так, то, как правило, по-серьезному»[27].
Казалось, если ты немец, значит, всегда отчасти фашист. В моем случае этим «отчасти» был мой дед.
Если бы вы спросили меня в детстве, что я о нем думаю, я бы сказал, что он меня немного пугает. Когда мы с семьей ездили в Германию, я всегда чувствовал себя спокойнее с дедом по отцовской линии – краснолицым, мускулистым железнодорожником, который постоянно травил анекдоты и совал мне в руку кислые конфеты. Мамин отец выглядел более сурово: высокий, худой, с копной перечно-серых волос и стеклянным глазом, который вращался и смотрел куда-то мимо, когда дед говорил. Он задавал мне вопросы серьезным, размеренным тоном, как астронавт, встретивший марсианина, и иногда давал пожевать кусочек пчелиного воска с медом – штуку странную, как и он сам, со всякими вкусовыми «тайниками», разложенными по сотам глубокого янтарного цвета, но все-таки сладкую. Я помню, как он возился с ульями за домом, не двигаясь с места, пока пчелы роились вокруг его рук и шеи.
Чем старше я становился, тем больше менялись мамины рассказы о нем. Поначалу она говорила о нем как бы от имени себя-ребенка – как о добром человеке, попавшем в жернова варварской эпохи. Он был на двух мировых войнах, рассказывала она нам, сначала как рядовой пехотинец, потом как политработник, и оба раза едва не погиб. Потом, когда я был уже подростком, мать снова пошла учиться – на исторический факультет. Докторскую свою диссертацию она посвятила Вишистскому режиму и немецкой оккупации Франции во время Второй мировой войны. И хотя она редко упоминала о роли отца на той войне, теперь я смотрел на него глазами ее-ученой. Зачем он вступил в нацистскую партию в 1933‐м? О чем он думал два года спустя, когда Гитлер принял Нюрнбергские расовые законы, лишившие евреев гражданства? За что он сидел в Страсбургской тюрьме после войны? Мама никогда об этом не рассказывала, хотя мы говорили о ее научных изысканиях постоянно, и молчание по этой теме казалось красноречивым. В нашей шумной и любящей поскандалить семье она всегда была голосом разума, совести и справедливости. Представляю, насколько мучительными были для нее попытки соотнести то, что она узнала о войне, с воспоминаниями о собственном отце. Как он мог одновременно быть человеком, которого она любила, и монстром, о котором рассказывала история?
Немецкая родня говорила, что она была папиной дочкой. Они много раз слышали, как ее братья – мои дяди – ворчали по этому поводу. В маминых отношениях с отцом была какая-то напряженность, осторожная нежность, как будто они слишком хорошо знали слабости друг друга; таких отношений у нее не было ни с кем другим. Если сыновья пробуждали в нем строгого командира, то дочь – моя мать – полностью разоружала. Возможно, она напоминала ему о первой жене, которая умерла молодой. Обе отличались меланхоличным характером, обязывающим чувством жалости, гасившим внутренние свирепые принципы. А может быть, он видел в дочери отголоски своего мрачного идеализма, упрямой веры в то, что мир можно довести до совершенства, и еще более глубокое переживание из-за того, что ему это не удалось. «Жизнь не обманешь, – писал после того, как его средний сын Зигмар устроился в 1957 году на первую работу. – Любая самая незначительная ошибка вернется и отомстит»[28].
В воюющей Германии места незначительным ошибкам не осталось. Сделанный тобой выбор ставил тебя либо на одну сторону истории, либо на другую. И все же чем больше я узнавал о деде, тем сложнее было найти ему место на одной из сторон. Его жизнь, казалось, вываливалась из голых фактов его биографии, она извивалась и ветвилась как корень дуба под тротуаром. Чем старше я становился, тем чаще ловил себя на том, что думаю о нем. Поначалу это были лишь досужие домыслы: про него можно было рассказать историю, а можно было увидеть в нем загадку, которую надо было разгадать, или эдакий эпизод мрачных семейных сплетен. Потом я начал чувствовать, что сам втягиваюсь в перипетии его судьбы. Я женился, стал отцом троих детей и начал нутром чувствовать, насколько прошлое продолжает в нас жить, как мои дети переняли некоторые черты моего собственного характера и сколько особенностей моих родителей передались мне.
Неужели прошлое деда по-прежнему могло на нас как-то влиять? Я надеялся, что нет. В лучшем случае, рассуждал я, он был пассивным соучастником злодеяний одного из самых преступных режимов в истории; в худшем – активным участником. Но никто, казалось, точно этого не знал. Мама и ее братья старели, их память утрачивала остроту. Мало того, они принадлежали к поколению, которое научили не задавать лишних вопросов о войне. Ответы все равно будут мрачными, полными самообвинений или, что еще хуже, самооправдания. Даже моя мать со своим историческим сознанием и острой привязанностью к отцу так ни разу и не осмелилась спросить его об Эльзасе.
Возможно ли вообще было распутать его биографию? Кто еще был жив из бесчисленных немецких Kleinbürger – «маленьких людей», – обычных граждан, ставших свидетелями войны, но приложивших максимум усилий, чтобы похоронить память о ней? Казалось, немногие. Потом, в один прекрасный июльский день семнадцать лет назад, мама получила от одной из моих теток посылку, в которой оказалась пачка писем. На штемпеле было написано «Бартенхайм» – это городок в Эльзасе, где дед работал во время войны, и письма эти вновь поставили всю историю с ног на голову.
3
Отец
Городок Бартенхайм лежит на равнине в беспокойном сердце Западной Европы – южном Эльзасе. С колокольни католической церкви видны шпили и дымовые трубы Базеля в южном направлении, текстильные фабрики Мюлуза в северном и уходящие за горизонт холмы Шварцвальда в восточном. Местные называют регион Le pays des trois frontières, Краем трех границ: в радиусе пятнадцати километров здесь сходятся Франция, Германия и Швейцария. С одной стороны от городка течет на север река Рейн – течет через лучшие поля Европы, ослепительно яркие от подсолнухов и рапса. С другой стороны по склонам предгорий Вогезов разбросаны деревушки с черепичными крышами; в каждой есть церковь со шпилем, похожая на гусыню, присматривающую за своими гусятами. Здесь во всем чувствуется самодовольство и достаток, и в воздухе разлит такой невозмутимый покой, что трудно себе представить, как здешняя жизнь могла быть какой-то другой. Впрочем, призраки того, былого Эльзаса тоже витают здесь повсеместно.
Каждое воскресенье во второй половине дня мой дед Карл приезжал на велосипеде из Германии в Бартенхайм и всю неделю жил там в съемной квартире с пансионом. Путь его пролегал через мост из городка Вайль-ам-Райн, где жила моя мать и остальные члены его семьи, мимо небольших участков, засаженных спаржей и табаком, по аллеям из белоствольных платанов, мимо сельских кладбищ, на страже которых стояли покачивающиеся кипарисы. Ехал он из Германии в регион, который раньше принадлежал Франции, а теперь снова отошел Германии. Ландшафт выглядел так, будто не менялся тысячу лет, но все в нем несло следы разделения – контрольно-пропускные пункты и вооруженная охрана, замененные уличные таблички и приглушенные голоса в придорожных кафе. Даже замки, прижавшиеся к высоким горным утесам, носили двойные имена, словно дети дважды женатых родителей: Haut-Königsburg, Saint-Ulrich, Château de Fleckenstein[29]. Бартенхайм располагался прямо на линии Мажино – на спорной границе между двумя злейшими врагами среди европейских стран. После Первой мировой войны французы понастроили крепостей и бункеров вдоль Рейна, чтобы отражать немецкие атаки, – ровно как немцы когда-то строили укрепления, чтобы защищаться от французов. Толку от этого, как оказалось, не было никакого. Эльзас был слишком прекрасен, слишком важен и слишком глубоко укоренен в самосознании обеих стран, чтобы его можно было надолго оставить в покое.
В ночь на 14 июня 1940 года немецкие войска незаметно заняли позиции вдоль лесистого участка Рейна, примерно в шестидесяти пяти километрах к северу от Бартенхайма. Когда утром на реку лег густой туман, а затем пошел дождь, немцы открыли огонь из тяжелой артиллерии по французским бункерам на противоположном берегу, в считанные минуты превратив их в груды щебня. Затем под прикрытием дыма и гаубичного огня реку форсировала флотилия штурмовых катеров с пехотой и саперами. Вторгшаяся армада быстро подавила французскую оборону. За несколько дней немцы навели несколько понтонных мостов и прорвали линию фронта. Через неделю они уже шли маршем по Эльзасу, не встречая сопротивления и распевая походные песни.
Карл вскоре отправился вслед за ними: он будет работать в Бартенхайме с 1940 по 1944 год. Когда он оказался там в первый раз, ему исполнился сорок один год, он был женат, воспитывал четверых детей и на тот момент уже восемнадцать лет трудился школьным учителем. Для фронта он не подходил по возрасту, но чтобы послужить Рейху на другом поприще, оказался вполне годен. Эльзас снова вошел в состав Германии после того, как два десятилетия принадлежал Франции, и Карлу было поручено «помочь» с перевоспитанием эльзасских детей. Школы стали авангардом «Культуркампфа», в них юных эльзасцев выращивали от семечка до ростка, как новые растения в питомнике. Карл должен был превратить французских детей Бартенхайма в стойких, трудолюбивых немцев и убедить их в том, что бедствия войны им только на пользу.
Вопрос был только в том, верил ли он в это сам. Местные вспоминали, что по воскресеньям – вечером, когда он въезжал в город на своем велосипеде – его мундир всегда был накрахмален, а сапоги начищены до блеска. Но что было у него на душе?
Именно эта мысль – более или менее оформившаяся – привела мою мать в Бартенхайм сорок лет назад. До этого она бывала там лишь однажды, в 1943 году, когда ей было восемь. Весной 1983 года отца пригласили выступить с докладом о белом шуме на конференции по физике в Париже. После этого они с мамой и моей сестрой Андреа поехали на машине к родне в Германию. В дороге мама внезапно резко выпрямилась на сиденье. «Ты не мог бы свернуть на следующем съезде?» – попросила она, увидев, как на шоссе промелькнул указатель – будто монтажный переход на старой кинопленке, зернистой и пересвеченной: Bartenheim.
Почему она не ездила туда раньше? Когда я однажды задал ей этот вопрос, она ответила слегка раздраженно: «Далеко было ехать и слишком дорого – везти туда всю семью из Оклахомы, пятерых детей!» Хотя мы много лет провели в Европе – отец несколько раз брал творческий отпуск. Когда мы жили во Франции, мама по утрам в субботу сажала нас в наш желтый микроавтобус Volkswagen и везла смотреть что-нибудь интересное в радиусе полутора сотен километров – разрушенные аббатства и римские акведуки, замки катаров и цыганские праздники в Камарге, а также Каркассон, Безье[30] и папский дворец в Авиньоне. На каникулах мы ездили на Боденское озеро или в Шварцвальд к родственникам, причем гнать могли всю ночь, пока из лежавшего на заднем сиденье кассетника стенали Bee Gees и Род Маккьюэн. Adieu, Emile, it’s hard to die / When all the birds are singing in the sky[31]. В Эльзас можно было бы легко повернуть по пути, но она все никак не решалась.
Когда в тот день родители заехали в Бартенхайм, отец не стал выходить из машины – остался на водительском сиденье, натянув на уши вязаную шапку. На сколько все это здесь затянется? Они были в пути уже целый день, и до дядиного дома оставалось меньше часа. «Посидите в машине», – сказала мама. Она знала, что пусть он лучше подождет здесь, порешает уравнения в уме, а дочь – моя сестра – составит ему компанию на заднем сиденье. Маме нужно было побыть немного одной.
Городок выглядел, каким она его помнила, только все в нем изменилось. На длинной извилистой главной улице теснили друг друга ничем не примечательные магазины, в сквере распускались почки на тюльпановых деревьях. Дома сочетали немецкую аккуратность с французской беспечностью: где-то стены были недавно оштукатурены, где-то оставались живописно обшарпанными. В центре города по-прежнему стояла школа, в которой работал ее отец; в этом же здании размещалась мэрия. В Бартенхайме это было самое солидное здание: его готические окна были отделаны розовым вогезским песчаником, а ступенчатый фронтон напоминал эльзасскую девушку с бантами в волосах. Наверху висел школьный колокол, и когда мама вошла внутрь, в темных, обшитых филенчатыми панелями залах по-прежнему пахло печным топливом, пылью от ластика, слизью и карандашной стружкой. Дети, однако, давно учились в другом здании.
Мама прошла мимо вахты и вышла во двор, где ученики когда-то играли на переменах. Она вспомнила, как была здесь в последний раз, в 1943 году, и как ей было стыдно. Отец привез ее из Германии на один день, чтобы она посидела на его уроках у третьеклашек. Наверное, он думал, что ее острый ум и строгое немецкое школьное воспитание произведут впечатление на учеников. Он всегда считал ее своим самым прилежным ребенком, потому что относилась к учебе она с той же серьезностью и с тем же рвением, что и он сам. Но когда он на математике попросил ее сосчитать какую-то сумму, план потерпел крах. Вместо того чтобы сразу вскочить с места и выпалить ответ, она лишь уставилась на него пустым, стеклянным взглядом.
Присев на дворовом крыльце старой школы четыре десятилетия спустя, она вспомнила, как разочарованно скривился его рот в тот момент, как сухо он велел ей сесть и задал тот же вопрос другому ученику, который ответил на него правильно и без колебаний. «Я здесь совсем чужая», – подумала она. Ее отец умер четыре года назад в доме престарелых в Германии. Если бы он был жив, она бы расспросила его о том дне и о четырех годах, которые он провел в Бартенхайме во время войны. Но теперь было поздно, и с этим городом ее ничего не связывало, кроме смутных и дурных воспоминаний.
Она уже собралась возвращаться к машине, как кто-то привлек ее взгляд. По тротуару за задними воротами шел пожилой мужчина. Он тащил за собой игрушечную повозку, в которой сидели два маленьких мальчика, скорее всего, его внуки. На вид ему было столько же лет, сколько было бы ее отцу, будь он еще жив.
Мама на мгновение замерла в нерешительности, после чего бросилась через двор к нему. «Как будто отец меня подтолкнул», – рассказывала она мне потом. «Он как бы сказал: „Пойди посмотри на школу. Выйди во двор. А теперь ты должна что-нибудь сказать“». Пока она добежала до старика, сильно разволновалась и из-за этого забыла представиться. Поздоровавшись, она сразу перешла к делу – начала по-французски, затем перешла на немецкий, услышав его акцент. «Мой отец Карл Гённер жил здесь во время войны», – сказала она. «Он был директором школы во время немецкой оккупации. Вы его случайно не помните?» Старик, которого звали Жорж Чилль, уставился на нее. «Ha jo! – наконец сказал он. – Ich ha doch si Lebe grettet!»[32] – «Конечно! Я же спас ему жизнь!»
Жорж Чилль был французом, Карл – немцем. Война сделала их врагами, но, сложись история иначе, они вполне могли бы быть близкой родней. Жорж и Карл жили километрах в тридцати друг от друга, соблюдали одни и те же традиции, оба были католиками. Предки их селились в одних и тех же сосновых лесах и долинах рек и передали им по наследству родственные диалекты. Эльзасский диалект, на котором изъяснялся Чилль, звучал по-деревенски грубовато. Это очень старый вариант немецкого, но с французскими заимствованиями, как если бы [немецкий] картофельный суп заправили [французскими] сливками: Vielmols Merci[33]. Répétez noch a mol[34]. Алеманнский диалект – на нем говорил Карл – мягче и музыкальнее, с певучей гармонией Шварцвальда. Однако оба понимали друг друга без труда, просто жили на двух берегах одной реки.
В этом месте ширина Рейна меньше километра, но люди воевали здесь две тысячи лет. Можно сказать, во всем виноват Цезарь. Когда в 58 году до нашей эры он вторгся со своими четырьмя легионами в Восточную Галлию, у последней не было ни четких границ, ни какой-то единой идентичности. Населяли ее разные языческие племена – секваны, треверы, левки, свевы. Одни по культуре и языку были ближе к кельтам, другие – к германцам. Разница не всегда была очевидна. Люди по обе стороны реки занимались охотой и земледелием, ковали железо и бронзу, боготворили природу и будто бы совершали человеческие жертвоприношения. Кельты, по словам Цезаря, верили в переселение душ, и имущество их вслед за душами часто переходило из рук в руки. Если река замерзала и ее форсировали какие-нибудь вояки, их быстро выгоняли обратно.
Римляне положили всему этому конец. Чтобы править успешно, им нужны были колонии с четко очерченными границами. Вместо того чтобы разбираться в различиях между дюжиной кельтских и германских племен, Цезарь рассовал их всех по нескольким «мешкам» с четкой маркировкой. «Галлия по всей своей совокупности разделяется на три части», – писал он потом в «Записках о Галльской войне», в которых подвел итог своим походам в регион с 58 по 50 годы до нашей эры. «Все они отличаются друг от друга особым языком, учреждениями и законами. Галлов отделяет от аквитанов река Гарумна, а от бельгов – Матрона и Секвана. <…> [О]ни живут в ближайшем соседстве с зарейнскими германцами, с которыми ведут непрерывные войны».
Germanis, qui trans Rhenum incolunt: зарейнские германцы[35]. Одной этой брошенной вскользь фразой Цезарь навечно прочертил воображаемую линию по реке и заложил основу устойчивых стереотипов. Галлы были «крупного телосложения с рельефными мускулами» – писал позднее греческий историк Диодор Сицилийский[36]. У них была белая кожа и светлые волосы, которые они отбеливали в известковой воде. Германцы, по свидетельству Тацита[37], были коренасты и грубы, «со свирепыми голубыми глазами, рыжими волосами и огромных размеров туловищами, пригодными только для больших нагрузок»[38]. Галлы – мягковаты, но восприимчивы к цивилизации. Германцы – забияки, грозные в бою. Лучше держать их на расстоянии, на том берегу реки[39].
Германию придумал Цезарь: так говорят некоторые историки[40]. Однако и римляне меняли свое отношение к границам: Цезарь провел ее по Рейну, но на более поздних картах оба берега реки обозначали одним названием – Germania Superior[41]. Через Рейн было несложно переправляться, и в культурном отношении долина реки не изолировала ее обитателей так, как Вогезские горы на западе и горный массив Юрá на юге. И даже если Галлия действительно заканчивалась у Рейна, как утверждал Цезарь, и большинство галлов происходило от кельтского, а не германского племени, кельты сами пришли из-за Рейна за несколько сотен лет до этого. Их прародина находилась на территории современной Австрии и юго-восточной Германии.
Где же тогда заканчивалась Германия и начиналась Франция?
Топонимика здесь никак не помогает. Франки завоевали Галлию в V веке, а Карл Великий был провозглашен императором Франкии в 786 году. Но франки были германским племенем, а Карл Великий, по-видимому, говорил на архаичной форме верхненемецкого языка. (Немцы называют его Karl der Grosse и считают своим.) Когда империю Карла Великого поделили трое его внуков, западная треть стала основой для современной Франции, а восточная – для современной Германии. Самым вожделенным куском бывшей империи оказалось, однако, Средне-Франкское королевство, лежавшее между ними. Оно простиралось от нынешних Нидерландов до Италии и включало Рим и Ахен – резиденции Папы Римского и императора Священной Римской империи. Если Франция и Германия имели собственные языки и естественные границы – Альпы, Пиренеи, Атлантический океан, Балтийское море, – то Средне-Франкское королевство представляло собой лоскутное одеяло из земель и наречий. В самом центре одеяла находился Эльзас. Момент, когда соседи занялись перетягиванием этого одеяла, не заставил себя долго ждать.
И пошло-поехало: франки против германцев, франки против готов, галлы против алеманнов. Важно было понимать, на чьей ты стороне. Эльзас стал великой линией разлома Западной Европы; эта полоса земли шириной всего около пятидесяти километров за двенадцать веков шесть раз меняла государственную принадлежность. Немцы присоединили ее в 870 году, уступили Людовику XIV в 1648‐м, забрали обратно в 1871‐м – после Франко-прусской войны. Французы отбили в 1918‐м, уступили немцам в 1940‐м и вернули 23 ноября 1944 года, когда союзные войска вошли в Страсбург.
На момент встречи с Жоржем Чиллем мама почти все это прекрасно знала. Особо не афишируя, она много лет изучала Эльзас и прошлое своего отца. Как только младший ребенок пошел в первый класс, отправилась за парту и она – решила изучать историю. Начала с малого – прослушала пару курсов в муниципальном колледже. Потом – летом 1978‐го – отнесла в приемную комиссию Оклахомского университета потрепанную копию своего немецкого аттестата зрелости – Abitur – и сертификат учителя. В комиссии не знали, что делать с этими документами, но испытывали смутное уважение к немецкому школьному образованию. В итоге, пожав плечами, ее зачислили в магистратуру.
Ей на тот момент уже было за сорок, то есть она была лет на двадцать старше большинства студентов на ее программе. В ее ведении находился дом и пятеро детей, а теперь прибавились еще и занятия, которые она посещала сама и вела как магистрантка. По-английски она говорила бегло и внятно, но до собственного немецкого красноречия ей было далеко, поэтому тексты давались с трудом. Она постоянно будто сражалась со словами, не могла сказать, что хотела, чувствовала, что отстает, подводит своих детей, упускает последние годы их юности. «Не люблю вспоминать о том времени», – сказала она мне однажды. «Es war a bizli von a Alptraum»[42]. Но тогда ею двигали не просто амбиции.
Мне было четырнадцать, когда она вернулась в школу на полный рабочий день, и я помню, как упало качество наших семейных ужинов. Мама всегда прекрасно готовила, до замужества она училась в швейцарской кулинарной школе в Базеле. Но ее Spätzli и Kohlrouladen[43] вскоре уступили место рецептам из кулинарного конкурса Pillsbury Bake-Off. Их в свою очередь сменили звонки: сидя в своем кабинете на историческом факультете, уставшим голосом она давала нам инструкции. Можно уже ставить жаркое в духовку? Она повесила на холодильник график дежурств по дому и оставила детские комнаты на произвол подростковой энтропии. Времени все равно не хватало, и в будни она засиживалась за полночь над французскими историческими документами или складывала белье, когда мы уже спали.
Когда-то она очень любила литературу и даже свою выпускную речь посвятила длинному и заумному роману Германа Гессе «Игра в бисер». Теперь же ее интересовала только история и две мировых войны. К этой теме она начала подбираться издалека, как следователь, который, расследуя поджог, первым делом решает собрать обугленные балки и битое стекло. Вместо того чтобы писать о битвах в Европе, она изучала влияние войн на жизнь таких, как она, – эмигрантов, уехавших за восемь тысяч километров от дома. Темой ее магистерской работы стало положение немецких переселенческих сообществ в Оклахоме в годы Первой мировой войны. Когда война началась, в штате выходило семь немецкоязычных еженедельных изданий[44]. К 1920 году их осталось только два. Антигерманские настроения настолько накалились, что власти штата запретили публичное использование немецкого языка. Несколько городов сменили названия: Киль превратился в Лойал, Бисмарк – в Райт. Школьники сжигали немецкие книги на кострах, сочувствующих избивали, пороли плетьми, вешали, мазали дегтем и перьями.
К концу Великой войны[45] новая страна потеряла для эмигрантов былой блеск. Мама писала в своей диссертации: «Возврат к уединенным, отрезанным от мира немецким общинам, какими они были до войны, оказался невозможен»[46]. Когда я прочитал этот пассаж, у меня захватило дыхание от скрытой в нем тоски: она совершенно точно имела в виду себя и свою семью. «Дети из нового поколения [немецких эмигрантов] говорили по-английски в школе, во дворе и даже иногда дома, – продолжала она[47]. – Они росли уже как полностью ассимилировавшиеся американцы. Если родители еще сохраняли в себе маленький кусочек Европы, с которым не хотели расставаться, то для детей отъезд с родины стал окончательным и бесповоротным».
Ее настоящей темой был патриотизм, точнее патриотизм и предрассудки: как они усиливают и искажают друг друга. Когда Соединенные Штаты вступили в войну против Германии в 1917 году, писала она, конфликта лояльности не возникло, возник конфликт любви. Независимо от стороны, которую эмигрантам приходилось занимать, они предавали сами себя. Четверть века спустя жители Бартенхайма столкнутся с той же дилеммой. Сохранять верность своей стране – единственное незыблемое правило войны. Но что делать, если территория, на которой вы живете, дважды за время вашей жизни переходила из рук в руки? Что делать, когда, как мой дед, вы должны выполнять приказы преступного режима? Что тогда значат предательство, нелояльность?
Мама не была готова ответить на эти вопросы, а тем более писать об отце, но ее научные изыскания неумолимо приближали ее к этим темам, как бы уменьшая площадь запретной зоны, огороженной полицейской лентой. Передо мной лежит ее докторская диссертация в черном переплете: края страниц от времени пожелтели. Читая ее сейчас, я на каждой странице вижу, как она пыталась разобраться с историческим грузом своей семьи. Однако отца своего в диссертации мама не упоминает, а пишет о человеке, который, возможно, напоминал ей о нем, пусть и отдаленно, – об Анри Филиппе Петене, главе французского Вишистского режима в годы Второй мировой войны. Как и Карл, Петен был католиком, сыном крестьянина и ветераном Первой мировой. Он был идеалистом, который ратовал за правовое государство, и элитистом, отстаивавшим интересы рабочего класса. Он был готов отдать жизнь за свои убеждения, хоть они с самого начала оказались ошибочны.











