Читать онлайн Русский Севастополь
- Автор: Александр Широкорад
- Жанр: Популярно об истории
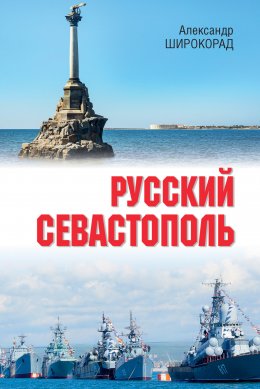
© Широкорад А.Б., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Раздел I. Херсонес и Инкерман
Глава 1. История Ахтиарской бухты
Как ни странно, но история Ахтиарской бухты нужна не только историкам – узким специалистам, но и нашим современникам. Дело в том, что историки Киева и Стамбула, создавая фантастические версии истории Ахтиара, и пытаются с их помощью обосновать свои претензии на Ахтиар и весь Крым.
История Ахтиарской бухты и Западного Крыма в целом начинается с греческой колонизации.
Во второй половине – конце II тысячелетия до н. э. греки освоили западное побережье Малой Азии, превратив берега Эгейского моря в своё «внутреннее озеро» – Эгеиду.
Эллинские колонии (греки называли их апойкиями) были основаны по побережью Средиземного и Чёрного морей. Эллинский философ Платон писал, что эллины «от Фасиса до Геркулесовых столбов расположились вокруг моря, как муравьи или лягушки вокруг болота».
Вслед за Северной Эгеидой (побережьем исторической Фракии) и побережьем Мраморного моря (Пропонтидой) в VII веке до н. э. греки приступили к освоению побережья Чёрного моря.
Так считают официальные историки. Но по моему мнению, это произошло в начале II тысячелетия до н. э. Вспомним миф об аргонавтах. Основное же доказательство более раннего проникновения греков в Чёрное море – Троянская война, официально датированная 1194–1184 гг. до н. э.
Похищение Парисом Елены, наверное, первый в истории случай грандиозной дезинформации.
Троянская война на самом деле шла за контроль над Дарданеллами. Кстати, в XII веке до н. э. море было гораздо ближе к Трое, нежели сейчас.
При раскопках в селе Усатово близ Одессы были обнаружены элементы крито-микенской культуры. На острове Змеином нашли греческую керамику VII века до н. э.
Греки первоначально именовали Чёрное море Понтом Аксинским (морем Негостеприимным), но позже переименовали его в Понт Эвксинский (море Гостеприимное). Затем стали называть его просто Понтом.
На территории Крыма и Таманского полуострова греки построили 26 городов-колоний. Их расположение во многом связано с течениями в Чёрном море. Так, прибрежное круговое течение идёт вдоль берега моря против часовой стрелки – от Босфора вдоль берегов Малой Азии, Кавказа, Крыма, Северо-Западного Причерноморья и Балкан снова к Босфору. Передвигаться на парусно-гребных судах по течению было легче. Поэтому выводить колонии на южный берег моря стали раньше. Крупнейшие из них – Гераклея Понтийская (совр. Эрегли) и Синопа (совр. Синоп). После этого стали осваиваться западное, северное и северо-восточное побережья.
В Чёрном море есть и поперечные течения. Почти по центру – с юга на север и с севера на юг и от Юго-Западного Крыма на запад, к побережью исторической Фракии, где ныне расположена румынская область Добруджа. Скорость этих течений может достигать 2–3 морских узлов (3,5–5,5 км/ч).
Видимо, с этими течениями и было связано основание в 528 г. до н. э. города Херсонес Таврический.
Греческие корабли могли теперь отправляться от пафлагонского мыса Карамбис на побережье Малой Азии до мыса Бараний Лоб (совр. мыс Сарыч в Крыму). Этот путь треугольником связал Херсонес, его метрополию Гераклею и гераклейскую колонию на Балканах Каллатис. Выходя из Гераклеи, корабли двигались на восток до мыса Карамбис, следуя круговому течению. Там они поворачивали на север, повинуясь поперечному течению «западного круга», которое помогало им добраться до мыса Бараний Лоб (Сарыч) в Крыму. Затем поворачивали на запад к Херсонесу, где ходу корабля помогало круговое черноморское течение, идущее здесь в том же направлении. На обратном пути от Бараньего Лба к Карамбису движению корабля помогало попутное течение восточного круга. Это значительно ускоряло плавание.
Итак, в 528 г. на берега нынешней Карантинной бухты Севастополя высадились около двухсот переселенцев из города Гераклеи. А находившаяся рядом огромная бухта, ныне именуемая Севастопольской, оставалась пустой. Лишь иногда там появлялись племена тавров.
Херсонес постоянно рос, он расположился на небольшом полуострове между Карантинной и Песочной бухтами[1].
В Херсонесе был демократический строй. Причём в подлинном смысле этого слова, а не современный. Об этом красноречиво свидетельствуют глиняные черепки – остраконы. Их использовали в качестве бюллетеней для выборов должностных лиц, или, наоборот, на остраконах писали имена людей, подлежащих изгнанию из города (остракизм). Судя по всему, в такой ситуации фальсификация выборов исключалась.
В 1510 г. до н. э. Херсонес начал чеканить серебряную монету: драхмы, дидрахмы и т. д.
Жителям Херсонеса постоянно приходилось отражать нападения варваров – тавров, а потом скифов. На рубеже IV–III веков до н. э. в Северном Причерноморье появился весьма загадочный народ – сарматы. По сообщению Диодора Сицилийского, сарматы «опустошили значительную часть Скифии и, поголовно истребляя побеждённых, превратили большую часть страны в пустыню».
Сарматы начали проникать на Крымский полуостров с конца первой четверти III века до н. э. В ходе быстрых и неожиданных рейдов они доходили до окрестностей Херсонеса.
Видимо, с сарматами связано и оставление значительной части усадеб в хоре Херсонеса.
Сарматы были дикарями в полном смысле этого слова. Кроме записей античных авторов, погребальные памятники – почти единственное доказательство пребывания сарматов в Крыму.
Захоронения сарматов найдены в долинах рек Чёрной, Бельбека, Качи, Альмы и Салгара.
С нарастающей угрозой нападения кочевников связано возведение в юго-восточной части оборонительной линии Херсонеса так называемой цитадели площадью около 0,5 га. О чрезвычайной поспешности строительства свидетельствует массовое использование в кладке стен надгробных стел из городского некрополя, а также квадров из стен разобранных усадеб ближайшей округи.
Особенностью башен усадеб хоры становится дополнительный пояс, который, по мнению большинства исследователей, был противотаранным и должен был сделать возможным увеличение высоты башни.
В I веке до н. э. Гераклея, как и Херсонес, вошла в состав державы Митродата на правах младшего «союзника» и участвовала на его стороне в войнах Понта с Римом.
Рим победил Митродата, а на боспорском престоле был утверждён восставший против Митродата VI его младший сын Фарнак II (63–47 гг. до н. э.), который стал именоваться «другом и союзником римского народа».
Херсонесу пришлось смириться с тем, что он оказался в составе Боспора. Шестнадцатилетнее (63–47 гг. до н. э.) пребывание Херсонеса в составе царства Фарнака II нашло отражение лишь в городской монетной чеканке.
Воспользовавшись нестабильностью в Боспорском царстве, херсонеситы отправили посольство к Юлию Цезарю с просьбой предоставить их полису элевтерию – независимость от Боспора. Произошло это в 46 г. до н. э., сразу после провозглашения Цезаря пожизненным диктатором. Цезаря независимость Херсонеса вполне устраивала.
Во II веке н. э. Херсонес входит в состав Римской империи. В Херсонесе римский гарнизон появился к 116/117 г. н. э. Жители Херсонеса, несмотря на сильное влияние римской культуры, продолжали сохранять родной греческий язык, а до II века н. э. – даже его дорийский диалект.
Отношение властей Рима к Херсонесу хорошо иллюстрирует забавный эпизод. «Налог с публичных домов поступал в римскую казну, но полноправные граждане были от него освобождены. Попытка начальника гарнизона трибуна Антилия Примиана распространить эту подать на граждан вызвала недовольство херсонеситов. К наместнику Мёзии было направлено херсонесское посольство во главе с Титом Алавием Аристоном и Валерием Германом. Претензии херсонеситов были признаны справедливыми, наместник не только постановил не нарушать права граждан, но и велел высечь в мраморе и текст самой жалобы, и его ответ на неё»[2].
К 185 г. Херсонес был главным опорным центром римлян в Северном Причерноморье, откуда осуществлялось руководство другими легионами и флотом.
Во главе Херсонесского легиона был трибун. «Непосредственно трибуну подчинялся триерарх соединений Мёзийского Флавиева флота, который возглавлял эскадру кораблей, базировавшихся в Севастопольской бухте. Триерархи обычно командовали римскими военными кораблями и по рангу были близки центурионам легионов»[3].
Сохранилась надпись на камне, что в бухте стояла либурна[4] «Стрела», командовал ей Валерий Валент.
Штаб-квартирой римских войск была «цитадель» Херсонеса площадью около 0,9 га с постройками военного назначения, ограниченная с четырёх сторон оборонительными стенами. На этом пространстве могли поместиться две центурии пехоты и некоторое количество кавалерии.
С середины II века н. э. номиналы монет Херсонеса стали соответствовать римским – в основу денежного обращения был положен римский денарий. Херсонесская медь играла роль разменной монеты.
Причерноморский регион был одним из направлений Великого шёлкового пути: в Усть-Альминском некрополе обнаружены пять китайских шкатулок. Рим старался контролировать этот путь в обход владений Парфии, что хорошо иллюстрирует латинская надпись, оставленная военнослужащими XII легиона у горы Беют-Даш неподалёку от Каспия.
С римским влиянием связано и появление в Херсонесе римских бань – терм. Исследовано три таких сооружения в Херсонесе, относящихся к периоду поздней Античности. Первое находится в северной части города, второе – возле водохранилища, а третье – собственно римские термы – в «цитадели».
В соответствии с римскими канонами был перестроен и херсонесский театр. В нём, судя по находке мраморного рельефа с изображением гладиаторов, стали проводиться гладиаторские бои. Рядом с театром обнаружены алтари с посвящением богине возмездия Немезиде, которую гладиаторы считали своей покровительницей.
В Херсонесе на протяжении первых веков новой эры в основном сохранялся греческий пантеон, сложившийся ещё в классическую и эллинистическую эпохи. Во главе его по-прежнему стояла богиня Дева-Партенос, считавшаяся защитницей города. С ней было тесно связано божество Херсонас, олицетворявшее гражданскую общину. В официальный пантеон входили Зевс Сотер, Асклепий и Гигиея, Гермес, Афродита, Геракл. Одной из отличительных черт религиозной жизни Херсонеса первых веков новой эры стало уменьшение почитания Диониса, Афины, Аполлона, Диоскуров.
Но Партенос херсонеситы продолжали традиционно почитать в качестве верховного божества. В документах II века н. э. Дева наделялась магистратской титулатурой и именовалась «богиней царицей» или «царствующей Партенос». Печать, «заверенная» Девой, подтверждала официальные декреты.
«В первую очередь влияние римской культуры оценивается по распространению латинского языка как выжившей составляющей процесса романизации. Как показывает анализ эпиграфических памятников, по-латыни в Юго-Западной Таврике писали военные приказы, посвящения римским божествам и надгробные эпитафии римских солдат и членов их семей. Те документы, которые должны были быть доведены до сведения всего городского населения, написаны по-гречески. Это яркое свидетельство того, что латинский язык широко не распространялся, и основная масса горожан в повседневной жизни использовала родной для них греческий язык»[5].
Глава 2. Готы и генуэзцы
В 160–190 гг. н. э. на Боспоре появляются первые отряды германского племени готов. В середине – второй половине III века н. э. в дельте Дона возникает несколько поселений, предположительно основанных вторгшимися в этот регион германскими племенами.
В правление императора Галлиена (253–268) римские гарнизоны были выведены из Херсонеса и его округи.
В 256 г. готы прошли через северо-западный Крым, где они останавливались на территории заброшенного скифами Южно-Донузлавского городища.
Между 252 и 256 гг. готы поселяются на Южном берегу Крыма и на границе хоры (сельской округи) Херсонеса. В 60—70-е гг. III века готы, бораны и герулы продолжают грабительские набеги на южное побережье Чёрного моря и Малую Азию. Исходной точкой походов для германцев служил, скорее всего, Танаис. Для набегов они, видимо, использовали и местный боспорский флот.
В эпоху непрерывных войн часть германцев поселяется в юго-западном Крыму. Здесь археологи обнаружили и изучили могильники с погребениями, совершёнными по характерному для германцев обряду трупосожжения. Подобные некрополи исследованы на Южном берегу Крыма, у подножия горы Чатыр-Дан и на мысе Ай-Тодор, неподалёку от римской крепости Харакс. Погребения по обряду кремации были найдены также в могильнике Чёрная Речка и в некрополе «Совхоз-10» возле Херсонеса. Отдельные кремации были обнаружены в некрополе самого Херсонеса и в некоторых других могильниках.
В конце III века войска Римской империи вернулись в Херсонес, что совпало по времени с первой херсонесско-боспорской войной 291–293 гг.
«В период массовой христианизации Херсонесса в V–VI вв. предание связывало начало проповеди новой веры среди горожан с личностью некоего святого Климента, который в IX в. был отождествлён со святым римским папой Клементом, учеником апостолов Петра и Павла, четвёртым епископом Рима после свв. Петра, Лина и Анаклета»[6].
Согласно преданию, император Траян в 99 г. послал Климента в Херсонес. Там он творил чудеса и обзавёлся тысячами поклонников.
«Как показывает анализ источников, сами жители Херсонеса об этом не знали, как не знали и ссыльные монахи, и миссионеры-путешественники – ни в VI в., ни позже, вплоть до середины IX в. Во всяком случае, никто из них о культе мощей св. Климента в Юго-Западном Крыму не упоминает.
В IX в. византийский монах Епифаний, совершивший около 820 г. путешествие по городам Причерноморья для сбора преданий об апостольских проповедях, приписал начало процесса христианизации Таврики – от Боспора до Херсонеса – проповеди св. апостола Андрея Первозванного, на полвека раньше, чем это мог сделать Климент. О последнем он не упоминает вовсе.
<…>
В течение VI – первой половины VII столетия в Херсонесе было построено множество мемориальных храмов, посвящённых описанным в “Житиях” событиям. Храмы Св. Климента и Св. Андрея Первозванного в Херсонесе в письменных и иных источниках не упоминаются. Там были храмы Св. Петра и Св. Апостолов Петра и Павла, которые к почитанию св. Климента и св. Андрея Первозванного имеют лишь косвенное отношение»[7].
В конце III – начале IV века христианство начинает распространяться и среди готов. В 325 г. под документами Вселенского собора, состоявшегося в городе Никее, свою подпись рядом с подписями епископов Боспора Кадама и Филиппа Херсонесского поставил Феофил, епископ Готии.
В IV–V веках главный город Юго-Западного Крыма именовался в источниках то по-старому – Херсонесом, то по-новому – Херсоном. В VI веке в употреблении осталось только новое название. Далее по тексту он будет называться именно так. К началу VI века Херсон оставался единственным процветающим городским поселением не только в Крыму, но и во всём Северном Причерноморье.
Существенную военную помощь Херсону в 530-х гг. оказал последний латиноязычный император Восточной Римской империи Юстиниан I. С этого момента я буду эту империю называть Византией. Замечу, что термин «Византийская империя» ввёл в 1557 г. немецкий историк Вениамин Вольф. Сами же жители Византии именовали себя ромеями вплоть до 1453 г.
Историки с XVII века, да и я, грешный, используют термин «Византия» в качестве удобной метки. Таких меток в русской истории несколько. Как, например, «Киевская Русь» или «Золотая Орда».
Термин «Киевская Русь» возник в середине XIX века в работах А.М. Максимовича, С.М. Соловьёва и др. В 1930-х гг. термин был использован советскими учёными. Метку «Киевская Русь» я принципиально не использую.
Во-первых, города Новгород и Ладога намного древнее Киева. И что получается? Они то входили в состав «Киевской Руси», то выходили?
Во-вторых, использование термина «Киевская Русь» льёт воду на мельницу фальсификаторов истории, придумавших термин «Украина – Русь».
Современники никогда не использовали это лживое название. По-русски и на церковнославянском наречии был термин «Русская (Роуськая) земля».
Но вернёмся к Византии. Тому же Юстиниану I пришлось опубликовать свой знаменитый Кодекс сразу на двух языках – латинском и греческом. А в 629 г. император Ираклий I окончательно перевёл всё делопроизводство в Византии на греческий язык. Поэтому-то русские и звали ромеев греками.
В VI веке готы в Крыму стали федератами (младшими соююзниками) империи и, как отмечает Прокопий, «отправлялись вместе с ними в поход, когда римляне шли на своих врагов, всякий раз, когда императору было это угодно»[8].
В VII–VIII веках система управления византийской Таврикой под влиянием перемен в Византии несколько раз менялась. Учреждённая Юстинианом II (565–578) административная единица (Херсонский дукат), в которую была включена вся южная часть полуострова от Херсона до Боспора, просуществовала недолго. В VII веке дукат был упразднён, но конкретно в каком году, неизвестно. На смену назначаемому императором дуке, который совмещал функции военного командира и гражданского администратора, пришло самоуправление.
Херсонский протополит Зоил, который был первым «по происхождению и семейному положению», то есть, вероятно, самым знатным и богатым горожанином, был ставленником местной знати. В VIII веке система самоуправления, сложившаяся в предшествующие десятилетия, была оформлена официально.
Осенью 940 г. в Крым ворвались орды хазар. Для борьбы с ними император Роман I нанял русскую дружину под командованием Хлгу (то есть Олега). К этому времени князь Олег (882–912) уже умер, так что это был какой-то другой князь или конунг.
Поначалу поход складывался удачно: русы захватили хазарскую крепость Самкерц на берегу Керченского пролива. Этот город в древности назывался Гермонассой. Русы называли его Тмутараканью, сейчас это – город Тамань.
Против русов хазарский царь Иосиф отправил войска под командованием полководца Песаха, который отбил город.
Русские князья стали задумываться о принятии христианства. В 860 г. (866 г. – по «Повести временных лет») в походе на Константинополь крестились князь Аскольд и часть его дружины. Что же касается князя Дира, он стал следствием невежества и нерадивости русских летописцев, как 940 годами позже пьяный писарь породил подпоручика Киже. В 844 г. на Севилью напали русы под команованием Аскольда аль-Дира – Аскольда по прозвищу «Зверь». В Киеве князя звали Оскольд-Диар.
Союза с христианскими странами – Византией, а позже Германией – искала княгиня Ольга. Явную симпатию к христианам проявлял предшественник Владимира Ярополк. Князь Владимир решил изучить вопрос шире. Согласно «Повести временных лет», он принял послов от западных и восточных христиан, хазар-иудеев и недавно принявших ислам волжских булгар, а затем направил в эти страны своих посланцев. В целом ряде мусульманских источников сохранилось известие о визите послов князя Владимира в 986 г. к правителю Хорезма. Причём эти послы утверждали, что их народ разочаровался в христианстве и принял ислам. Видимо, это было дипломатической хитростью.
В отечественной историографии долгое время господствовала точка зрения, согласно которой византийский император Василий II в 986 г. попросил военной помощи у князя Владимира (против болгар или Варды Склира), пообещав ему в жёны свою сестру – принцессу Анну. Помощь была оказана, но византийцы обманули Владимира и не прислали невесту в оговоренный срок. Поэтому, чтобы заставить ромеев выполнить обещанное, Владимир осадил и взял Херсон.
Чтобы обосновать эту точку зрения, её сторонники были вынуждены корректировать хронологию «Повести временных лет», сдвигая датировку Корсунского похода с 6496 (988) г. на 989–990 гг. и даже позднее. Эта гипотеза, ставшая историографической догмой, но противоречащая данным как древнерусских и византийских, так и иностранных источников, в новейших исследованиях опровергнута.
В конце лета или начале осени 987 г. князь Владимир по Днепру и Чёрному морю добрался до Херсона и осадил его. При этом он нарушал оба действовавших тогда русско-византийских договора – и «большой», заключённый в 944 г. его дедом князем Игорем, и мирное соглашение 971 г., подписанное его отцом князем Святославом. В обоих договорах Русь обязывалась охранять византийскую Таврику («Корсунскую страну»), а не нападать на неё.
Херсон (Херсонес) за полторы тысячи лет его истории ни разу не удавалось взять врагу. Автор «Повести временных лет» написал об осаде Херсона Владимиром весьма лаконично: «…боролись крепко из города». Осада длилась от шести до девяти месяцев.
Русы пытались присыпать к западной стене осадный вал (приспу), но горожане прорыли подземный ход под неё, выносили землю через подкоп и ровным слоем разбрасывали на городской площади. В результате приспа не росла, а Владимир не мог понять, в чём дело. В отчаянии он прокричал горожанам, что будет стоять под стенами хоть три года, но всё равно город возьмёт!
Активные действия под стенами Херсона прекратились. Голодные и замёрзшие русы не смогли даже полностью блокировать город. По сведениям одной из версий «Жития св. Владимира», его по потайному ходу («зеаляному пути») продолжали снабжать продовольствием и питьём извне некие «корабленицы». Видимо, из портов фемы Херсон (Символон, Партенит, Алустон, Сугдея) на кораблях осаждённым тайно доставляли припасы и новости. Получать известия они могли и по световому телеграфу, который тогда активно использовался в Византии, в том числе для связи с осаждёнными крепостями.
По одной из версий, Владимир получил грамоту со стрелой, запущенной варягом по имени Ждеберн (Сигбеорн), ранее знавшим Владимира. Варяг сообщал, где пролегают ведущие в Херсон водопроводные трубы.
По другой версии, это сделал некий «муж корсунянин, именем Анастас». Он пустил стрелу, написав на ней: «Перекопай и перейми воду, идёт она по трубам из колодцев, которые за тобою с востока». Владимир же, услышав об этом, посмотрел на небо и сказал: «Если сбудется это – сам крещусь!» И тотчас же повелел копать наперерез трубам и перенял воду. Люди изнемогли от жажды и сдались.
Во всяком случае, Анастас существовал реально. После удачного штурма Анастас среди так называемых «корсунских попов» попал в столицу Руси. Владимир приблизил Анастаса к себе, помня о его заслугах. Анастас принял активное участие в крещении Руси, в частности, в 990 г. он участвовал с митрополитом Михаилом и дядей Владимира Добрыней в достаточно жёстком крещении Новгорода. В следующем году с такой же миссией он ехал «по Русской земле и до Ростова».
Около 991 г. в Киеве началось строительство Десятинной церкви. Строительство и обустройство её было поручено корсунским священникам во главе с Анастасом.
Херсонес в XII веке процветал. Правда, в Крыму строились и новые города, в том числе и готские. Любопытно, что в 1166 г. византийский император Мануил I Комнин включил в свою титулатуру слово «готский».
В 1155 г. Мануил I заключил договор с Генуей. Согласно ему генуэзские корабли получили пропуск в Чёрное море, в Константинополе генуэзцам был выделен особый квартал. В свою очередь Республика обязалась не вступать в союз против империи ромеев.
Аналогично в 1171 г. право на квартал в Константинополе было закреплено за Венецией. После этого в Константинополе начинаются вооружённые стычки между генуэзцами и венецианцами. В том же году венецианские пираты совершили нападение на генуэзскую факторию у входа в Керченский пролив у современного Темрюка.
8 ноября 1202 г. крестоносцы отплыли из Венеции, направляясь в Четвёртый крестовый поход – 480 кораблей, возглавляемые галерой самого дожа, «окрашенной в алый цвет, с шёлковым тентом того же цвета, под стук кимвал, под пение четырёх серебряных труб».
Перед отплытием Дандоло произнёс патетическую речь: «Синьоры! отныне вы соединились с самыми достойными людьми на свете и ради самого высокого дела, которое кем-либо и когда-нибудь предпринималось!»[9]
12—13 апреля 1204 г. крестоносцы овладели столицей Византии и подвергли её неслыханному разграблению.
Надо ли говорить, что 13 апреля 1204 г. в Константинополе был разгромлен и русский торговый квартал (святого Маманта).
После 1204 г. исчезают всякие сведения о движении русских судов в Чёрном море и присутствии русских купцов в Константинополе. Кстати, Чёрным море назвали турки в 1453 г., а с IX века арабы звали Русским морем. После 1204 г. Русское море стало итальянским. А о том, какое значение придавали ему венецианцы и генуэзцы, говорит то, что они называли Чёрное море «Великим морем».
Князья Рюриковичи не признавали ни Латинской империи, ни «латинских патриархов». Русские считали законным властителем Царьграда императора Никейской империи (основанной в Малой Азии). Русские же митрополиты продолжали подчиняться константинопольскому патриарху, жившему в Никее.
С 1204 г. бывшие византийские владения в Таврике (Херсон и Климаты Готии, а также Боспор и прибрежная часть Таманского полуострова) перешли под протекторат образовавшейся на южном берегу Понта Трапезундской империи (1204–1461). Только Сугдея (современный Судак) с сельской округой, состоявшей из 18 селений, предпочла зависимость от Трапезунда покровительству половцев и Руси. Воспользовавшись этим, весной 1217 г. расположенный в Малой Азии Румский султанат турок-сельджуков завоевал Сугдею.
Во время очередного конфликта с Трапезундом (1223–1235) турки сельджуки предприняли неудачную попытку захватить Херсон, но были вынуждены ограничиться только опустошением окрестностей города.
Сельджукская экспансия 1217–1225 гг. и первое появление моголов в 1223 г. стимулировали возведение в окрестностях Херсона и в Крымской Готии целой системы сторожевых крепостей, контролировавших перевалы и проходы в долины горного Крыма.
На территории Крымской Готии и Херсакеи (видимо, так называлась область Херсона с окрестностями, включавшими бассейн реки Чёрной и побережье до мыса Сарыч) в первой половине XIII века имелось 42 укрепления.
После 1204 г. проход в Чёрное море для генуэзских судов был временно закрыт. Венецианские купцы беспошлинно торговали в Константинополе, а генуэзцев, да и то с большими ограничениями, венецианцы допустили в Чёрное море лишь по договору 1218 г.
Чтобы сломить могущество венецианцев на Чёрном море, генуэзцы в 1261 г. вступили в союз с императором Никейской империи Михаилом Палеологом. В июне 1261 г. войска Михаила Палеолога с помощью генуэзцев овладели Константинополем. Латинской империи крестоносцев пришёл конец. Была формально восстановлена Византийская империя, а Михаил Палеолог стал основателем последней династии Второго Рима.
«Археологические находки, связанные с присутствием в городе генуэзцев, фиксируются со второй четверти XIV в. Более того, из писем Папы Римского Иоанна XXII, а также из других источников следует, что английский доминиканец по имени Рикардус был назначен 15 июля 1333 г. католическим епископом в Херсон, а Франческо да Камерино 1 августа того же года – архиепископом Боспора. Выходит, в Херсоне к этому времени уже существовала католическая епископия и находился католический монастырь братьев миноритов. 18 сентября того же года Папа назначил архиепископом Чембало некоего Николая»[10].
Венеция крайне нуждалась в «Великом море», и уже в 1265 г. её послы прибыли в Константинополь с просьбой допустить военные корабли в Чёрное море. В 1268 г. в Венеции разразился голод. Срочно понадобилось много зерна и рыбы. И тогда император Михаил в качестве противовеса генуэзцам допустил в Черноморье венецианцев.
В 1294–1299 гг. на Чёрном море велась полномасштабная генуэзско-венецианская война. В 1295 г. генуэзцы в виду Константинополя разгромили венецианскую эскадру. Однако в следующем году сорок венецианских галер под командованием адмирала Морозини прорвались через Дарданеллы, взяли штурмом и сожгли Галату (генуэзский квартал Константинополя). Затем Морозини с несколькими сотнями пленных генуэзцев вернулся в родную лагуну.
В том же 1296 г. другая венецианская эскадра под командованием Джованни Соранцо прошла Проливы и напала на главную базу генуэзцев в Крыму – город Каффу (Кафа, ныне Феодосия). Венецианцы сожгли стоявший в гавани генуэзский флот и разрушили многие здания в самом городе. Однако зимовать в Каффе Соранцо не решился и в октябре отправился восвояси.
До нас дошёл текст очередного «Устава» Кафы. Он неопровержимо свидетельствует, что корабли в этом городе строились главным образом с целю пиратства.
Генуэзские суда, построенные в Кафе и Тане (Азове), часто выходили «на работу» в Восточное Средиземноморье, а затем с добычей возвращались обратно.
Наряду с пиратскими судами генуэзцы в Крыму строили… лесовозы, так как одной из статей крымского экспорта был корабельный лес. Срубленные стволы грузили на лесовозы и отправляли на александрийские верфи, где из них строили боевые суда. Деревья в Крыму вырубались так интенсивно, что сегодня на полуострове осталось всего 36 % от площади средневековых лесов.
В 1374 г. любопытную пиратскую экспедицию предпринял генуэзец Лючино Тариго, проживавший в Каффе. Собрав отряд авантюристов, он с одной вооруженной галерой прошёл Керченским проливом в Азовское море, затем поднялся по Дону до волока, соединявшего Дон с Волгой, и стал спускаться по ней к Каспийскому морю, грабя все встречные торговые суда. Обратно отряд Тариго пробирался в основном по суше. Часть богатой добычи у итальянцев отбили грабители, но кое-что Тариго все же довез до Каффы. Описание этой удивительной экспедиции содержится в «Дневнике Антония», хранящейся в Публичной библиотеке Генуи.
Население Херсона существенно уменьшилось после эпидемии чумы 1346 г. Сведения о разрушении Херсона в 1396 г. войсками Тимура (Тамерлана) оспариваются большинством историков.
В 1473 г. в генуэзских документах Херсон именуется необитаемым местом.
А теперь перейдём к княжеству Феодоро, возникшему в конце XIII века. Княжество Феодоро многие историки именуют Готией. Феодоро длительное время вело войну с генуэзцами за обладание портом Чемболо (Балаклава).
В начале XV века князь Феодоро Алексей I взял под контроль побережье нынешней Севастопольской бухты. В устье её Алексей I в 1427 г. построил мощную крепость Каламиту (на древнегреческом это «Камышовая», а на новогреческом – «Красивый мыс»). Ранее на месте Каламиты была византийская крепость.
10 июня 1434 г. генуэзский десант подошёл к Каламите. Однако готы без боя оставили крепость.
Лишь в 1441 г. Генуя и Феодоро заключили мир. Каламита была восстановлена.
Глава 3. Захват Крыма османами
В мае 1475 г. в порту Константинополя был собран огромный флот. Он состоял, по разным источникам, из 300, 370 и даже 500 судов семи типов. Среди них было 208 галер и 4 галеаса.
В 1475 г. на турецких кораблях было около 20 тысяч десанта, в том числе 3 тысячи конницы (с лошадьми). В поход османы взяли с собой 14 больших бомбард и десятки тонн артиллерийского металла, чтобы отливать орудия уже на позициях.
Высадившись у Кафы, османы немедленно начали рыть траншеи и устанавливать осадные орудия.
С захватом Крыма в 1475 г. Османская империя овладела Северным Причерноморьем. Чёрное море стало «Турецким озером».
По договору 1478 г., заключённому султаном Мехмедом II и крымским ханом Менгли Гиреем, территория полуострова была поделена на две части: Османский Крым и Крымское ханство. При этом турки взяли себе наиболее выгодные земли, тянущиеся вдоль побережья Чёрного моря от Керчи до Сарыкермана (Северная сторона современного Севастополя). Османские владения в Крыму принадлежали Каффинскому эйялету (области), поделенному на несколько судебных округов-кадылыков.
Как ни странно, многие мелочи истории Крыма имеют существенное значение и сейчас. Так, договор 1478 г. показывает, что крымские татары никогда не владели всем Крымом, а только его степной частью, да и то лишь с середины XIII века.
Все крупные города, порты, крепости последовательно принадлежали грекам, итальянцам, туркам и русским, и никогда – татарам. Так что утверждение, что татары – коренной народ Крыма, не имеет исторического обоснования.
Другой вопрос, что границы между Османской империей и её вассалом Крымским ханством были весьма прозрачными.
Захваченные территории были разделены на Кефенскую, Судакскую, Керченскую, Мангупскую, Балаклавскую и Инкерманскую волости (нахийе). Территории нахийе были одновременно судебными округами (кадылыками), то есть имели судью (кадия) и судебную палату (мягкеме).
Османы разместили свои гарнизоны в Кефе (бывшей генуэзской Каффе), а также Мангупе (Феодоро), Балыклагу (Чембало), Инкермане (Каламита), Судаке, Керчи (Воспоро), Азаке (Тана) и крепости Тамань (Матрега). Другие многочисленные феодоритские и генуэзские укрепления на завоёванной территории были либо разрушены, либо заброшены. Замки феодоритской Готии, являвшиеся военно-административными центрами земельных владений, перестали быть таковыми.
При археологических исследованиях линии обороны феодоритской крепости Каламита внутри крепостной территории, а также верхнего посада ни следов пожара, ни каких-либо артефактов, связанных с военными действиями, обнаружено не было, Видимо, турки заняли оставленный гарнизоном город без боя.
Османы переименовали Каламиту в Инкерман («пещерная крепость») и разместили там небольшой гарнизон.
В начале XVI века в городе насчитывалось восемь христианских кварталов и один мусульманский[11].
Гарнизон Инкермана в начале XVI века состоял из коменданта (диздара), одного пушкаря (топчу) и ещё 16 человек. К 1575 г. гарнизон насчитывал 17 человек. В конце XVI – первой половине XVII века турки-османы провели реконструкцию оборонительных сооружений Инкермана.
Интересны описания окрестностей Севастополя, данные путешественником Эвлия Челеби:
«Эта крепость Ин-керман находится в каза крепости Балаклава, в её наместничестве и воеводстве… Там есть шесть башен и огромный ров, спускающийся ниже основания стен на три человеческих шага. [Ров] вырублен в обрывистой скале. А со стороны кыблы, с юга, совсем нет крепостных стен… Около ворот – глубокий ров, он вырублен в скале на целых двадцать шагов. Человеку не под силу соорудить такой глубокий ров, вырубив его в скале. В древние времена его соорудили неверные в страхе перед татарами с удивительным старанием»[12].
Крепость защищали пять пушек шахи[13].
«Во-первых, этот большой залив по окружности составляет три мили. Пролив, находящийся между скал, [впадает] в восемь заливов, каждый из которых способен вместить по тысяче кораблей. Каждый залив глубокий, как колодец. Здешняя вода и воздух довольно приятны. Достойны похвалы многие тысячи разнообразных рыб. Эти заливы подобны заливам Александрии в Египте. Но ни в одной стране нет вокруг таких заливов горных [пастбищ], [наполненных] косулями, ланями и дикими баранами. В зимние дни только Творец знает счет таким водяным птицам, как гусь, утка, лебедь, цапля, баклан, красная утка…
А в горах вокруг Инкермана водятся такие птицы, как куропатка, рябчик, турач, дрофа, казарка. Эти заливы – место для охоты и прогулок»[14].
Челеби говорит о развалинах какой-то крепости на Северной стороне Севастополя. Но найти информацию о ней автору не удалось.
Далее Челеби, рассказывая о городе Салунии, так описывает развалины Херсонеса:
«В зимнее время в эти развалины крепости загонят много сот тысяч овец крымских благородных людей, а причитающееся за зимовку отдают эмину Балаклавы. Потому что земля, на которой стоит крепость, принадлежит роду Османов и входит в область Балаклавы»[15].
Ряд других источников говорят о порте Авлита на западном берегу нынешней Артиллерийской бухты Севастополя. Авлита показана на османских картах 1567 и 1780 гг. Правда, Википедия считает, что Авлита основана ещё феодоритами в устье реки Чёрной или на берегу Килен-бухты.
На турецкой карте XVIII века в устье Сухарной балки отмечено селение Ахтиар. К апрелю 1783 г. селение было пусто.
Глава 4. Христианское население при турецком владычестве
В Османском государстве основой юридической классификации населения было деление по религиозной принадлежности. В империи не существовало доминирующего этноса, а критерием идентичности была религия. Вследствие этого в списках налогоплательщиков выделялись две группы – мусульмане и неверные.
По религиозному принципу население объединялось в миллеты (замкнутую конфессиональную общность) с собственным самоуправлением, судами, единым налоговым сбором. Каждый миллет подчинялся своему главному духовному пастырю. Управление церковью османская администрация рассматривала как часть тимарного[16] деления территорий Османской империи.
Согласно переписи 1520 г., в Инкермане христиане составляли 85,7 %. В Балыклагу (Балаклаве) из 85,6 % немусульманских жителей 69,3 % были греками, 8,4 % – армянами и 7,9 % – караимами.
Интересна ситуация с готами. В начале XVI века венгерский путешественник, побывавший в районе Мангупа, писал: «… “отцы семейства” говорили дома по-готски, а с чужестранцами по-гречески и по-татарски. Этот факт свидетельствовал о том, что женщины и дети говорили только по-готски»[17].
Влияние готского языка стало падать. В Крыму этот язык был бесписьменным. В официальных документах готы использовали греческий.
К концу XVIII века подавляющее большинство готов приняли ислам. Возник даже гото-татарский диалект.
Любопытно, что сторонник Мазепы гетман Орлик утверждал, что запорожские казаки – потомки крымских готов. Это, разумеется, вымысел в угоду шведам, считавшим себя тоже потомками готов.
Глава 5. Выселение христиан из Крыма
Русско-турецкая война 1768–1774 гг. закончилась подписанием 10 (21) июля 1774 г. Кючук-Кайнарджийского мира.
Договор включал в себя двадцать восемь открытых и две секретные статьи (артикула). Согласно им Крымское ханство становилось политически полностью независимым.
В артикуле 3 говорилось: «Все татарские народы: крымские, буджатские, кубанские, едисанцы, жамбуйлуки и едичкулы без изъятия от обеих империй имеют быть признаны вольными и совершенно независимыми от всякой посторонней власти, но пребывающими под самодержавной властью собственного их хана чингисского поколения, всем татарским обществом избранного и возведённого, который да управляет ими по древним их законам и обычаям, не отдавая отчёта ни в сём никакой посторонней державе, и для того ни русский двор, ни Оттоманская Порта не имеют вступаться как в избрание и в возведение помянутого хана, так и в домашние, политические, гражданские и внутренние их дела ни под каким видом».
Правда, турецкий султан оставался духовным главой крымских татар.
К России отошли стратегически важные крепость Керчь, Еникале, Кинбурн и Азов. Россия получила всю территорию между Бугом и Днепром, а также Большую и Малую Кабарду. В договор было включено условие, в силу которого Россия приобрела «право заступничества за христиан в Молдавии и Валахии».
Россия получила возможность держать военный флот на Чёрном море. До марта 1774 г. Екатерина требовала права свободного прохода русским военным судам через Проливы, но турки решительно возражали, и в договоре проход через Проливы был разрешён лишь невооружённым торговым суда небольшого тоннажа.
Султан признал императорскую (падишахскую) титулатуру русских царей.
В 1778 г. Екатерина II приняла решение выселить христиан из Крыма: «Рескрипт императрицы Екатерины II ставит задачу выселить всех крымских христиан на территорию России в Азовскую и Новороссийскую губернию. За организацию переселения назначены: генерал-губернатор азовский, новороссийский и астраханский князь Потёмкин; командующий армией, дислоцирующейся в Крыму генерал А. Суворов и греческий митрополит Готский и Кафайский Игнатий».
23 июля 1778 г. хан Шахин Гирей был вынужден подчиниться воле Екатерины и подписал указ, объявляющий о выводе христиан из Крыма. Он даже призвал христиан не сопротивляться мерам по выселению.
Любопытно, что командующий войсками Крыма и Кубани генерал-поручик Александр Прозоровский был против выселения христиан из Крыма. Вместо этого он предлагал присоединить Крым к России, а татар оттуда выселить.
История подтвердила правоту Прозоровского, но тогда реализация такого плана могла привести к серьёзному поражении России.
Не буду гадать, думала ли тогда Екатерина II о присоединении Крыма, но если и думала, что в отдалённом будущем. А пока нужно было Дикую степь преобразовать в Новую Россию.
Тронуть русских помещиков и заставить их с десятками тысяч крепостных отправиться заселять Дикую степь Екатерина II не могла. Это делал Иван Грозный, отправляя князей и бояр с «людишками» осваивать «казанскую землицу», и Пётр I принудительно заселял дворянами и холопами Санкт-Петербург и Приневье. Но у Екатерины II, повторяю, таких возможностей не было. И она отправляла в Новую Россию немцев, сербов и т. д.
Так что главной причиной переселения христиан из Крыма была необходимость заселения Восточного Приазовья.
Позже историки признают, что матушка-царица боялась расправы татар над христианами в Крыму. Есть версия, что, выводя христиан с полуострова, Екатерина пыталась подорвать экономику Крымского ханства. Обе причины верны. Но главная – заселение Приазовья.
Провидца Александра Прозоровского турнули с должности командующего войсками Крыма и Кубани, и 23 марта 1778 г. на его место был назначен генерал-поручик Александр Суворов. Он-то и руководил переселением.
Екатерина II действовала грамотно и заранее привлекла к переселению митрополита Готского Игнатия, армянского митрополита Маргоса и католического священника Якова. Оная троица получила 13 760 рублей из русской казны.
Несколько слов о готском митрополите. Когда татары начали особо притеснять христиан, митрополит Готский Гедеон обратился с жалобой к султану. В 1759 г. султан Мустафа выдал Гедеону особый фирман (указ), в котором были подробно расписаны обязанности и права митрополита по отношению как к его пастве, так и к мусульманской администрации. Любопытно, что на тот момент к Гото-Кафской митрополии принадлежали православные христиане не только крымских городов, но и Азова. Резиденцией митрополита в то время уже был не Мангуп, а расположенный в долине Майрам-Дере, недалеко от Чуфут-Кале и Бахчисарая, город Мариамполь.
Митрополит Игнатий родился в 1715 г. в Греции на острове Фермия (Китнос). Монашество принял на Афоне. В 1769 г. константинопольский патриарх возвёл Игнатия в сан митрополита Готского.
По пути и на местах и греки, и армяне испытывали лишения. Ряд авторов утверждают, что при переселении погибло до 20 тысяч человек. Около трёхсот человек христиан остались в Крыму. Естественно, остались и греки, проживавшие на Керченском полуострове, вошедшем в 1774 г. в состав России.
Митрополит Игнатий сообщает о 60 селениях и 6 городах Крыма, откуда вышли только греки, не считая иных христиан. Были брошены в Крыму 76 церквей и несколько монастырей.
Всего были брошены около 90 населённых пунктов Крыма. Покинутые христианами селения или запустели и разрушались, или были заняты татарами, некоторые попали через несколько лет во владение греческих выходцев, так называемого «Албанского войска», а два – Мангуш и Биа-сала – были заселены переселенцами из России. Лишь в Аутке (сейчас в черте Ялты) остались жить потомки старого христианского населения Крыма.
В один год прекратила свое существование древнейшая Готская епархия (в последующем метрополия) Константинопольского патриархата, которая существовала в Крыму с IV века.
Во второй половине сентября 1778 г. переселение окончилось. Выселено было свыше 31 тысячи душ. Греки большею частью поселены между реками Бердой и Калмиусом, по реке Солёной и по азовскому прибрежью, армяне – близ Ростова и в других местах на Дону. Малороссийский губернатор П.А. Румянцев доносил императрице, что «вывод христиан может почесться завоеванием знатной провинции».
Потёмкин выделил греческим переселенцам 1,2 млн десятин земли, то есть примерно половину площади Крымского полуострова. По указу Екатерины II каждый мужчина получил надел в 33 гектара (около 30 десятин).
Естественно, были и проблемы. Так, в 1781 г. произошёл великий налёт саранчи.
Греки-переселенцы были на 10 лет освобождены от уплаты налогов и от несения воинской службы.
Именно греки в 1780 г. основали город Мариуполь на речке Кальмиус. Другой вопрос, что в 1778 г. азовский губернатор В.А. Чертков распорядился основать на месте будущего Мариуполя город Павловск. Было ли что-то там построено или нет, до сих пор остается неясным.
Ну а у «самостийников», естественно, своя версия основания города. Якобы его основали запорожцы и назвали Казацкая Домаха. Естественно, документальных подтверждений никаких. Ну, предположим, десятка два казаков поставили где-то зимовник. Так это только в Киеве может считаться основанием города.
Согласно документам, до учреждения Азовской губернии в 1776 г. на территории Павловского уезда вообще не было населённых пунктов, а во всём уезде проживало 382 человека, из них 374 мужчины и 8 женщин.
Есть версия, что Мариуполь – это древний город Кальмиус, упомянутый ещё в 1593 г. Ну а далее три версии, что город основали древние греки, евреи и тюрки.
Замечу, что вся эта болтовня имеет политическую подоплёку. Так, в книге «Архив Коша Запорожской Сечи», изданной в 1998 г. в Киеве, утверждается, что Кальмиусская паланка «занимала почти всю территорию современной Донецкой области».
Ну а если серьёзно, то план города Мариуполя лично начертала императрица Екатерина II 20 октября 1779 г. 26 июля 1780 г. в город прибыла большая группа переселенцев во главе с митрополитом Игнатием. Селеньям вокруг города греки дали названия покинутых ими мест Крыма – Бахчисарай, Урзуф, Кафа, Козлов, Бельбек и т. п. Одно из сёл получило название Игнатьевка в честь митрополита.
В 1782 г. в Мариуполе насчитывалось 2948 жителей, из них 1586 мужчин и 1362 женщины. В городе проживали 243 купца, 409 мещан и 106 духовных лиц. Разговорный язык – греческий (греко-татарский диалект).
Игнатий умер в Мариуполе в 1786 г. Епископ Дорофей, возглавивший после смерти Игнатия епархию, бросил свою паству в Мариуполе и уехал в Крым. Со смертью митрополита Игнатия история Готской епархии в Крыму была окончена, все оставшиеся церкви были переданы во владение Святейшего Синода в Петербурге, а оттуда – Екатеринославской епархии православной церкви.
Раздел II. Севастополь в 1783–1916 гг.
Глава 1. Основание Севастополя
Осенью 1773 г. в Балаклавскую бухту вошли для ремонта суда Азовской флотилии «Морея», «Модон» и «Новопавловск». Командир отряда капитан 1-го ранга Кинсберген, занимавшийся описью крымских берегов, промером глубин и составлением карт, направил в соседнюю бухту «описную партию» с судна «Модон». Командовавший им штурман – прапорщик Иван Батурин произвёл съёмку берегов обширной «Ахтьярской гавани», названной так по татарской деревушке, состоявшей из девяти мазанок и находившейся на северной стороне бухты, ближе к её устью.
В августе 1777 г. в Ахтиарскую бухту для промера глубин вошёл посыльный бот «Курьер» под командованием мичмана капитана Сорокина. 4 сентября сильный шквал сорвал бот с якоря и разбил его о камни. Погибло 23 человека.
В декабре 1777 г. в Ахтиарскую бухту вошли 7 крупных турецких судов и несколько мелких гребных под командованием адмирала Гаджи-Мегмета.
7 июля 1778 г. в стычке с турками был убит один из двух донских казаков, сменившихся с поста, находившегося у руин Херсона (Херсонеса). Суворов, командовавший войсками в Крыму, получил повод выжать турок из Ахтиарской бухты.
В рапорте П.А. Румянцеву Суворов докладывал: «Сего месяца на 15-е число по три батальона дружественно расположить с обеих сторон Инкерманской (Ахтиарской) гавани с приличною артиллериею и конницей и при резервах вступили в работу набережных её укреплений». Турецкий адмирал, убедившись, что через короткое время его флот будет заперт в бухте, как в мышеловке, приказал своим судам покинуть Ахтиарскую гавань.
После ухода турецкой эскадры Суворов продолжил возведение фортификационных сооружений. Были созданы пятиугольные батареи на мысах у входа в Ахтиарский залив с северной и южной стороны, четырёхугольный редут позади первой и шанец в тылу второй. На северном берегу была возведена другая батарея, расположенная несколько восточнее первой. Неподалёку от устья реки Бельбек поставили четырёхугольный редут. В ахтиарских укреплениях разместились два батальона мушкетёров.
18 июня 1778 г. Екатерина II направила новороссийскому, азовскому и астраханскому генерал-губернатору князю Потёмкину указ, которым предписывала приступить к строительству на Днепре гавани и верфи, в «месте к сему удобном, по соображению выгод морских и сухопутных… Место сие повелеваем именовать Херсон».
Во исполнение повеления императрицы 19 октября 1778 г. на правом берегу Днепра, вблизи впадения реки в Днепровский лиман Чёрного моря, были заложены город, крепость и верфь.
В июне 1782 г. крымский хан Шагин Гирей в беседе с русским посланником П.П. Веселицким предложил Екатерине II продать Ахтиарскую бухту за 300 тысяч рублей. Императрица отнеслась к этому предложению как к «недоразумению», заявив в письме к Потёмкину от 8 октября 1782 г.: «…надо будет – займём и без них».
17 ноября 1782 г. в Ахтиарскую бухту вошли фрегаты 8-й и 11-й (в мае 1783 г. переименованные в «Осторожный» и «Храбрый»). Это были первые российские военные суда, оставшиеся на зимовку в Ахтиарском заливе. Капитан-лейтенант И.М. Одинцов поставил фрегаты у деревушки Ахтиар, а их команды разместил в её опустевших татарских мазанках.
14 декабря 1782 г. Екатерина II подписала «секретнейший» рескрипт на имя князя Г.А. Потёмкина, в котором объявила свою волю на присоединение Крыма в случае неблагоприятного для России развития событий как на самом полуострове, так и вокруг него. До принятия окончательного решения в качестве первоочередной задачи предписывалось «удержание во владении нашем Ахт-Ярской гавани».
Что же произошло с весны 1778 г., когда за такое предложение турнули с поста «провидца» Прозоровского? 29 ноября 1780 г. умерла австрийская императрица Мария-Терезия, и новый император Иосиф II начал искать пути сближения с Россией. В итоге в мае – июне 1781 г. был заключён русско-австрийский союз, следствием которого стала Австрийско-турецкая война 1788–1791 гг. и Русско-турецкая война 1787–1792 гг.
Россия обзавелась сильным союзником для борьбы с османами. А в тылу русских войск была не Дикая степь с Запорожской Сечью, которая мнила себя незалежным государством, а Новая Россия.
8 апреля 1783 г. Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу», который должен был временно храниться в тайне. В этот день Г.А. Потёмкин, который совместно с императрицей работал над документом, отправился в Новороссию. По дороге он узнал о том, что Шагин Гирей отрёкся от ханства. Ситуация требовала быстрых и решительных мер для поддержания порядка в Крыму и на Кубани в условиях вакуума власти. По приказу Потёмкина русские войска заняли стратегически важные пункты на Кубани и в Крыму.
В апреле 1783 г. к Ахтиарской гавани подошли Копорский и Днепровский полки, а также части полевой артиллерии. 2 мая в Ахтиарскую гавань прибыл из Керчи отряд из пяти фрегатов и восьми других судов Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Ф.А. Клокачёва.
Строительством порта Ахтиара заведовал контр-адмирал Ф.Ф. Мекензи. В 1783 г. должность флаг-офицера и адъютанта при нём занимал лейтенант Дмитрий Сенявин, будущий знаменитый флотоводец и государственный деятель. В своих «Записках» Сенявин описал, как происходило основание порта: «Перед обедом, когда командиры все собрались, адмирал при объявлении им приказания главнокомандующего говорил: “Господа, здесь мы будем зимовать. Старайтесь каждый для себя что-нибудь выстроить, я буду помогать вам лесом, сколько можно уделить, прочее сами знаете, так и делайте; более ничего; идёмте кушать”»[18].
Первые каменные здания нового порта были заложены 3 июня 1783 г. Сенявин пишет, что «в Балаклаве отыскали несколько греков, знающих хорошо строить порядочные здания из тамошнего камня и плитняка. Назначив места под строения, доставив туда надобное количество всякого рода вещей и материалов, адмирал 3-го июня заложил четыре здания. Первое, часовню во имя Николая чудотворца, на том самом месте, где и ныне церковь морская существует»[19].
10 февраля 1784 г. последовал рескрипт Екатерины II: «Нашему Генерал-фельдмаршалу, военной коллегии президенту, Екатеринославскому и Таврическому генерал-губернатору князю Потёмкину… с распространением границ Империи Всероссийской необходимо… и обеспечение оных, назнача по удобностям новые крепости… Крепость большую Севастополь, где ныне Ахтиар и где должны быть Адмиралтейство, верфь для первого ранга кораблей, порт и военное селение…»
Севастополь быстро строился. В Артиллерийской бухте построили пристань и склады. Вокруг южной оконечности Южной бухты возник поселок купцов и ремесленников. В Крым и в Севастополь Потёмкин привлекал все категории переселенцев – иностранцев, беглых крестьян, старообрядцев и т. д. Вспомним, что в те времена крестьяне не имели права покидать своих помещиков, а дворяне вовсе не жаждали ехать в Крым, даже если Потёмкин бесплатно раздавал там пустующие земли.
Матушка-императрица прекрасно знала и о беглых, и о раскольниках, но лишь в нескольких письмах к Потёмкину, соглашаясь с его политикой, просила его не афишировать наличие таких переселенцев в Крыму.
Любопытна топонимика названий Севастопольской бухты. Так, в 1785 г. капитан 1-го ранга Ф.Ф. Ушаков выбрал для своего корабля «Святой Павел» стоянку у безымянного мыса на восточном берегу Южной бухты. С тех пор мыс стал именоваться Павловским.
Знаменитая Графская пристань обязана своим названием графу Марку Ивановичу Войновичу. Капитан 1-го ранга Войнович командовал эскадрой, базировавшейся на Севастополь, и каждый день в одно и то же время садился на причале в шлюпку и отправлялся на корабли. В честь приезда императрицы было решено назвать главную пристань города Екатерининской, но это название не прижилось, и пристань осталась Графской.
В известном фильме «Адмирал Ушаков» Потёмкин упрекает Ушакова за отсутствие титула, а граф Войнович представлен аристократом. На самом же деле Ушаков происходит из старинного русского дворянского рода, а Марк (Марко) Войнович… пират и сын пирата. Далматинцы Марк и Иван Войновичи в 1770 г. поступили на русскую службу и каперствовали в Средиземном море на своих кораблях с греческими экипажами. А нанимаясь на русскую службу, лихие флибустьеры объявили, что они графы. Граф Алексей Орлов спорить не стал – графы, так графы. Благо, сам он получил титул за организацию «геморроидальных колик» императору Петру Федоровичу. И вот юный граф, он же мичман российского флота Марко Войнович с сотней головорезов – греков, албанцев и славян – на полаке[20] «Ауза» отправляются «добывать зипуны».
22 мая 1787 г., завершая свое знаменитое путешествие, Екатерина II прибывает в Севастополь. Специально для неё в Инкермане на возвышенности, откуда хорошо просматривается Севастопольская бухта, Потёмкин приказал возвести дворец. Екатерина вместе со свитой, куда входили знаменитые европейские аристократы и несколько послов, прибыла в Инкерман ночью, и до обеда никто не видел Севастопольской бухты.
Во время торжественного обеда по знаку Потёмкина упал большой занавес, и императрица, и все присутствующие увидели эскадру в составе трёх кораблей, двенадцати фрегатов, трёх бомбардирских и двадцати малых судов. Громыхнул салют из сотен орудий. Восхищённая Екатерина провозгласила тост за здравие Черноморского флота.
За два года до этого, 10 августа 1785 г., Потёмкин направил императрице донесение, в основу которого лёг документ, подготовленный инженером Корсаковым, – «Краткая идея об укреплении Севастопольского пристанища». В документе определялись три главные задачи: первая – «чтобы устье Севастопольского пристанища защитить сильным огнём и в то же время закрыть от огня противника прилегающие к нему заливы; вторая – стенами сего укрепления оградить морские магазины, доки для строения и починки кораблей; третья – сие место должно быть столь сильно укреплено, что хоть неприятель и высадит на берег превосходящие силы, облечь крепость с земли и с моря, чтобы она была в состоянии его нападением противиться, доколе из других пределов России не прибудет помощь».
По проекту планировалось строительство каменной плотины на южном и северном мысах длиной до 150 саженей (320 м) и на конце каждой «замок о двух рядах пушек, чтобы нижними очищать морскую поверхность, а верхними вредить неприятелю на дальнем расстоянии…» После окончания работ расстояние между двумя мысами для прохода в бухту будет всего 300 саженей (640 м). На плотине предполагалась установка «светильника» (маяка).
Екатерина II проект утвердила, особо отметив роль Севастополя и необходимость превращения его в «крепость чрезвычайной силы».
В 1786 г. императрица одобрила добавление к проекту, предусматривающее укрепление береговой обороны не только главной севастопольской бухты, но и большинства смежных с ней бухт. Проект включал в периметр крепости почти весь Херсонесский полуостров. Планировалось построить: «первую северную батарею» на 28 орудий на Константиновском мысу и «вторую северную батарею» на 10 орудий на втором мысу от Константиновского мыса, а также «первую южную батарею» на 24 орудия на мысу между Карантинной и Песочной бухтами и ещё три батареи, вооружённые 28 орудиями, на побережье между Артиллерийской и Южной бухтами.
Все эти батареи должны быть сомкнутыми, неправильной формы, временными, с одеждами из плетней и туров. На северных батареях и «первой южной» проектировалась двухъярусная оборона. По предварительным подсчетам, сумма проекта превышала 6 млн рублей.
В 1792 г. была учреждена Экспедиция строения южных крепостей, в ведомстве которой находились крепости Кинбурн, Очаков, Симферополь, Феодосия, Севастополь и др. Указом Екатерины II от 10 ноября 1792 г. экспедицию возглавил граф А.В. Суворов, который был назначен командующим войсками, расквартированными в Екатеринославской губернии, Таврической области, в том числе и в Крыму.
В начале 1793 г. генерал прибыл в свою штаб-квартиру в Херсоне и начал знакомиться с составленными до его приезда проектами. В феврале 1793 г. Суворов посетил Севастополь, осмотрел крепость и проверил состояние инженерных работ.
По указанию Суворова его заместитель инженер-подполковник Ф.П. Де Волан разрабатывает новый план строительства севастопольских укреплений. Причём стоимость их резко снижена с 6 миллионов до 231 752 рублей.
Согласно этому проекту намечалось строительство пяти береговых фортов с ярусами и казематами, имевшими в горже сухой ров. Их планировалось построить на мысах, выступающих в Севастопольскую бухту. Это были «северный форт» – Константиновский – в форме неправильного шестиугольника с каменными одеждами и напротив, на южной стороне, «южный форт» – Александровский – в виде круглой каменной башни. Дальше, на северной стороне, на мысу за Константиновской батареей, ещё одна похожая на последнюю, батарея с земляной горжей. Напротив, на западном мысу, у входа в Артиллерийскую бухту – открытая двухъярусная батарея с бастионным фронтом в горже.
Между Артиллерийской и Южной бухтами на мысу предполагалось построить форт «Николай», на котором планировалось сосредоточить морские запасные и пороховые магазины, морской и крепостной арсеналы.
Кроме этих береговых укреплений, авторы проекта доказывали необходимость строительства усиленных сухопутных фортов на возвышенных местах южной и северной сторон Севастопольской бухты. Это были южный форт «Екатерина» в тылу батареи «Николай» и северный форт «Елизавета» в тылу форта «Константин» на Северной стороне.
На вооружение всех перечисленных укреплений предполагалось поставить 270 орудий, в том числе на береговые батареи – 152 орудия, а на сухопутные – 118.
По приказу Суворова предварительные работы в крепости были начаты в апреле 1793 г., ещё до Высочайшего утверждения.
Ко времени смерти Екатерины (1796 г.) в Севастополе было построено 8 береговых батарей: Константиновская, Александровская, Николаевская, Павловская, а также батареи № 1, 2, 4 и 5, расположенные на мысах тех же названий. Это были земляные временные укрепления, большей частью открытые, состоящие из двух или трёх фасов, изломанных по направлению берега. Батареи № 2 и № 3 на северном берегу и Николаевская батарея на южном берегу были в виде редутов.
На возвышении за Константиновской батареей находилось довольно обширное земляное укрепление неправильной формы для охраны батарей «Константин» и № 1.
К строительству сухопутных фортов на северной и южной сторонах бухты не приступали.
По данным последнего отчёта Экспедиции строения южных крепостей, на все постройки и работы, начиная с 1792 г., было израсходовано 1 534 046 руб. 27 коп.
10 января 1797 г., согласно указу императора Павла I, Экспедиция строения южных крепостей России была упразднена. Вскоре строительные работы в Севастопольской крепости были приостановлены, а затем прекращены вовсе, инженера же Де Волана уволили со службы.
Стоит отметить, что Де Волан прозорливо предусматривал построить береговые батареи во всех крупных бухтах рядом с Севастополем, до Балаклавы включительно, дабы исключить использование этих бухт неприятелем. Увы, мнение фортификатора было проигнорировано, за что Россия жестоко поплатилась в ходе Крымской войны.
Павла бесило всё, что было создано его матерью. Как-то Павел патетически спросил Попова, бывшего секретаря Потёмкина: как «исправить всё зло, свершенное одноглазым»? «Отдать Крым туркам!» – быстро нашёлся Попов.
По зрелому размышлению Павел отдавать Крым не стал, но специальным указом переименовал Севастополь в Ахтиар. Увы, в ночь на 12 марта 1801 г. Павла Петровича «хватил апоплексический удар». По этому случаю уже к полудню следующего дня в петербургских лавках исчезло шампанское, а вечером горожане устроили иллюминацию. В Ахтиаре же был двойной праздник – по случаю «удара» и в связи с возвращением славного имени Севастополь.
Глава 2. Становление города и порта
29 февраля 1820 г. последовал долгожданный указ императора Александра I, данный Сенату: «Об открытии Севастопольского порта для купеческих судов и лодок, приходящих с товарами из портов Чёрного и Азовского морей; об очищении тех товаров в карантинах и об учреждении таможенного надзора».
24 мая того же года старший флотский начальник контр-адмирал Ф.Т. Быченский доложил рапортом главному командиру Черноморского флота А.С. Грейгу о том, что «порт Севастопольский для принятия купеческих судов и лодок… в 9-й день сего мая месяца открыт… контора Севастпольского порта назначила для принятия приходящих купеческих судов и стояния оных Артиллерийскую бухту»[21].
В 1822 г. население Севастополя составляло до 25 тыс. человек, из которых «число граждан купечества и мещанства включительно и отставных дворян, и разночинцев не более 500 человек». Город занимал вдоль западного берега Южной бухты пространство в длину на 700 саженей (1493,52 м), а в ширину на 400 саженей (853,44 м).
В Севастополе строились всё новые и новые храмы. Продолжали действовать две церкви, возведённые в XVIII веке. Это русская соборная Св. Чудотворца Николая и греческая Св. Апостолов Петра и Павла.
В конце 1810-х гг. расширяется адмиралтейство – главное предприятие Севастополя. Численность рабочих в нём возросла до 760 человек. Кроме двух эллингов, действовали специализированные мастерские.
28 февраля 1831 г. Николай I утвердил план строительства сухих доков в Севастополе.
Увы, строительство Севастополя обернулось страшной бедой для древнего Херсонеса. Дабы избежать обвинений в предвзятости, процитирую статью севастопольского археолога А.Ф. Степанова:
«Поражает воображение тот факт, что ещё совсем недавно по историческим масштабам Херсонеса – каких-то 200–250 лет назад, можно было увидеть Херсонес почти в целости – и даже восстановить его в том виде, в котором он пребывал в конечном периоде своей живой истории: до конца XIV – середины XV века. Триста пятьдесят лет Херсонес простоял покинутый и никому не нужный, пока на этих берегах, в 1783 г. не был заложен Севастополь.
За 205 лет до этого посол польский к хану крымскому, Мартин Броневский, побывав в Херсонесе, писал:
“Достойные удивления развалины очень явно свидетельствуют, что это был некогда великолепный, богатый и славный город греков, многолюдный и славный своею гаванью. Во всю ширину полуострова, от берега до другого, ещё и теперь возвышается высокая стена и башни многочисленные и большие из тёсаных огромных камней… Царский дворец, с огромными стенами, башнями и великолепными воротами… Этот город стоит пуст и необитаем и представляет одни развалины и опустошение. Дома лежат во прахе и сравнены с землёй. Большой греческий монастырь остался в городе, стены храма ещё стоят, но без кровли…”. Так же Броневский отмечает, что турки вывозят мраморные колонны.
Херсонесский мрамор потребовался не для украшательства ханского дворца в Бахчисарае, как можно было бы подумать. Он пошёл на татарские надгробия на кладбищах. Их и сейчас можно встретить на древних могилах.
Само собой, как раз “огромные тёсанные камни”, которые турки не повезли в Бахчисарай (далековато всё-таки, да ещё и по горам!), и служили главным строительным материалом для Севастополя: их не надо откалывать от скальной породы, не надо тесать – готовые блоки для фундаментов и стен.
Не исключено, что на руинах Херсонеса к моменту его разборки на нужды нового города сохранялись и многие части деревянных конструкций зданий. Так, например, сегодня в Балаклаве на остатках башен крепости Чембало можно увидеть деревянные балки, заложенные внутри и даже торчащие из стен. Похожее наблюдается и в Каламите – древней крепости в Инкермане.
Возраст стен и этих оставшихся в довольно приличном состоянии “деревяшек” – не меньше 300 лет, но не исключено, что они на пару столетий древнее. И при этом сохранились даже на открытом воздухе»[22].
«Каков объём камня, обработанного древними греками и римлянами, и вывезенного из Херсонеса за 50 лет его планомерного разрушения? Оценки исследователей разнятся, но в любом случае этот объём сопоставим со знаменитой пирамидой Хеопса и, скорее всего, её превышает.
Практически весь исторический центр Севастополя был построен из херсонесских камней. Это – целый город, и не такой уж маленький, который был разрушен во время Первой Крымской войны, а потом восстановлен. С использованием того камня, что оставался на развалинах и того, что подвезли дополнительно – в том числе, опять из Херсонеса»[23].
«Нельзя сказать, что власти не пытались предотвратить разрушение древностей Тавриды. Ещё в 1805 г. Александр I повелел оградить от расхищения памятники древностей на полуострове. В 1822 г. последовало новое повеление, относящееся конкретно к сохранению и сбережению “развалин Херсонеса, находившихся в ведении Севастопольского военного карантина”. Надзор за исполнением был возложен на таврического губернатора. Адмирал Грейг, посещая по обязанностям службы Севастополь, часто навещал руины Херсонеса. Он с прискорбием видел, что оставаясь без надлежащего надзора, они могли со временем совсем исчезнуть.
В 1825 г., во время посещения Александром I Севастополя, А.С. Грейг подал ему записку о сооружении памятника на месте крещения князя Владимира»[24].
Как видим, со времён Александра I у царей и президентов пошла добрая традиция издавать указы о строжайшем сохранении археологических ценностей Херсонеса и одновременно возводить на гробницах Херсонеса и окружающей его хоре храмы и всевозможные другие капитальные строения.
В 1833 г. адмирал М.П. Лазарев был назначен главным командиром Черноморского флота и портов, военным губернатором Николаева и Севастополя. С его именем связана целая эпоха развития Севастополя.
В городе бурно развивалось судостроение. В 1832 г. в Севастополе построили корвет «Месемврия», в 1833 г. со стапелей сошли катера «Скорый» и «Быстрый», в 1836 г. – фрегат «Браилов», в 1838 г. – транспорт «Дон» и бриг «Аргонавт». А затем последовали ещё два десятка кораблей и судов.
К 1850 г., после завершения строительства сухих доков, первое пробное докование прошли корабль «Варшава» и фрегат «Браилов», через год состоялся ремонт фрегата «Месемврия». На мортоновом эллинге, запущенном в строй в 1845 г., впервые был отремонтирован один из военных транспортов.
Глава 3. Строительство Севастопольской крепости 1-го класса
В 1826 г. Севастопольской крепости присвоили 1-й класс.
План строительства сухопутных укреплений крепости 1831 г. был выполнен в лучшем случае на треть. Согласно записке генерал-адъютанта А.П. Хрущёва «История обороны Севастополя» (1889): «Для сухопутной обороны были следующие укрепления. На северной стороне слабое Северное укрепление с 37 орудиями, и, сверх того, с Волоховой башни десять орудий могли обстреливать с тыла в Константиновскую батарею. На южной стороне: бастион № 7—14 орудий, бастион № 6, насыпанный в течение лета, – 18 орудий, оборонительная казарма, где впоследствии возведен бастион № 5, – 11 орудий. Эти три укрепления соединены были каменною стенкою, где в разных местах находились 14 орудий. Далее слабый редут, известный впоследствии под названием редута Шварца, – 8 орудий, потом ничтожная земляная насыпь, послужившая основанием 4-му бастиону, – 30 орудий; бруствер на пересыпи – 14 орудий; батарея, где впоследствии построен 3-й бастион, – 18 орудий; Малахова башня – 5 орудий, и влево от нее, в разных местах – 18 орудий».
В 1807–1811 гг. на Северной стороне построили Северное укрепление, предназначенное для обороны с суши береговых батарей № 1 ÷ 3 (позже названных Константиновской, Нахимовской и Михайловской). Укрепления имели форму восьмиугольника со сторонами от 170 до 210 метров. На четырёх исходящих углах располагались небольшие бастионы для организации фланговой обороны с подземными каменными казематами для противоштурмовых орудий. Казематы предназначались обстрела рва.
Укрепление имело трое ворот – Симферопольские, Севастопольские и Инкерманские, и было окружено рвом. Через ров были перекинуты подъёмные мосты.
В 1834 г. ров укрепления был углублён, облицован известняком, сложенным насухо. Ширина сохранившейся части рва – 5,4 м, глубина – 3,6 м. В укреплении находились казармы для личного состава, пороховые погреба и цейхгаузы. Гарнизон состоял из 3919 человек.
На вооружении укрепления состояло 47 орудий, из них 23 – малого калибра. Укрепление имело ещё три отдельных люнета, но до настоящего времени они не сохранились. После Крымской войны укрепление использовалось под склады, в 1900 г. на его территории построили казармы крепостной саперной роты. В XXI веке на его территории располагается российская войсковая часть.
В 1834 г. Николай I утвердил план строительства новых и реконструкции старых береговых батарей Севастополя. Работы были начаты уже 1 августа того же года.
Для возведения укреплений было решено использовать не инкерманский камень, как это часто делалось ранее, а известняк со складов Килен-балки. Ежегодно в Килен-балке добывали тысячи кубометров камня. Для транспортировки его была построена «самокатная железная дорога» от карьера до причала в Киленбалочной бухте. На местности через 3 м установили опорные стойки, а поверху, в гнёздах стоек, закрепили чугунные вращающиеся на осях колёса. По этим колёсам двигались деревянные грузовые платформы длиной 8 м и шириной 2,5 м, а так как пути имели небольшой уклон к причалу, то платформы с камнем придерживали при помощи канатов. Загрузка барж производилась сбрасыванием известняка непосредственно в трюм, после чего суда отводили буксиром к небольшому причалу на приморской батарее, где камень выгружали и перемещали вручную к рабочим местам.
Для береговых батарей толщина оборонительных стен была установлена в 1,8 м, минимальная для тыльных и продольных – 1,2 м. На верхний свод толщиной 0,9 м насыпался грунт слоем до 1,8 м. Размеры казематов позволяли размещать в них все виды орудий, принятых на вооружение в русской армии: высота устанавливалась 4,2 м, ширина 5 м, расстояния между центрами амбразур 6 м, сектор обстрела 26°. Открытый ярус защищался парапетом высотой и шириной 1,8 м. Удаление дыма и пороховых газов при стрельбе предполагалось ускорить при помощи специальных продухов, закладываемых в стенах над амбразурами. Однако при частой стрельбе система продухов оказалась неэффективной, что резко снижало скорострельность орудий. Устроить же принудительную вентиляцию деятели из Инженерного департамента не удосужились то ли из экономии, то ли от скудоумия.
Александровская батарея располагалась на Южной стороне на узком длинном мысу в ухода в Севастопольскую бухту. Очертания длинного узкого мыса, на котором стояла батарея, обусловили форму всех её сооружений. На самой оконечности мыса высилась круглая двухэтажная башня диаметром более 20 м. Её своды защищала насыпь из грунта, покрытая кровлей из черепицы. 12 орудий из амбразур держали под прицелом акваторию перед рейдом и сам проход в бухту. К башне примыкали одноярусные казематы с открытой платформой для стрельбы через банк. Их выстрелы защищали подходы к рейду. Основания башни и казематов возвышались над уровнем моря на 6 м, а на отметке 14 м возводилась земляная батарея с двумя фасами для размещения 18 орудий.
По проекту Александровская батарея должны была быть вооружена 34 – 24-фунтовыми пушками, 34 – 1-пудовыми длинными единорогами, 4 – ½-пудовыми длинными единорогами, 6 – 5-пудовыми мортирами, 2—6-дюймовыми кугорновыми мортирами и одной 12-фунтовой карронадой.
В 1836 г. началось строительство Константиновской батареи на Северной стороне на мысу, напротив Александровской батареи. В плане укрепление повторяло очертания берега мыса и имело форму подковы. Правый фас укрепления обстреливал акваторию перед рейдом, центральная закругленная часть – вход в бухту, левая назначалась для поражения прорвавшихся на рейд кораблей противника. В двух ярусах размещалось 54 каземата, а над ними платформа для открытой обороны.
На этой батарее было обеспечено постоянное присутствие артиллерийской прислуги в казематах. Каземат длиной 12 м разделялся сквозным проходом на орудийную и жилую части. В последней устанавливали нары и печи в круглых железных футлярах (печи в любое время года обеспечивали положительную температуру для проживавших в казематах солдат).
Горжевую часть защищали ров и две оборонительные казармы. Они соединялись при помощи двух стен с казематами, образуя замкнутую, удобную для обороны территорию. Казармы предполагалось построить по типовому проекту на 250 солдат каждая, с кухнями, пекарнями и складами.
На флангах казематов находились трёхэтажные хорошо защищенные пороховые погреба, а во внутреннем дворе – большая металлическая ёмкость для запаса воды.
В 1837 г. было начато строительство Николаевской батареи. Это фортификационное сооружение не имело себе равных во всех приморских крепостях России. Оно располагалось на Николаевском мысе, между Южной и Артиллерийской бухтами, протянувшись на 460 м. Левый двухъярусный фас батареи обстреливал вход на рейд, а правый, трёхъярусный, держал под прицелом фарватер рейда и вход в Южную бухту. Там же находились 24 бойницы для ружейной обороны со стороны города. Батарея имела 194 орудийных каземата и 7 бойниц для запуска ракет из полуподвальных помещений на левом фланге.
В 1842 г. началось строительство Михайловской батареи. В Севастопольской крепости она была второй после Николаевской как по размерам, так и по огневой мощи. Главный фас Михайловской батареи длиной более 100 м контролировал вход на рейд, короткий южный фланг действовал по фарватеру рейда, а аналогичный ему северный фланг предназначался для отражения атак с суши. Этим же целям служила оборонительная стена с бойницами для ружей, замыкавшая с горжи двор батареи. Укрепление опоясывал ров, примыкавший к берегам бухты. Он находился под фланговым огнём восьми пушек, установленных в казематах, и большого количества ружей, для которых в стенах боковых крыльев батареи были прорезаны бойницы. Всего на батарее было до 115 орудий разного калибра. Они укрывались в 58 казематах на первом и втором ярусах, а также устанавливались на открытой платформе.
Внутри Михайловской батареи мог быть размещен большой гарнизон. Здесь, как и на других укреплениях Севастополя, в каждом каземате были установлены печи и сделаны деревянные нары. По проекту предусматривалось оборудовать помещения для 750 нижних чинов Артиллерийского ведомства и 23 каземата для проживания офицеров. При необходимости можно было дополнительно разместить батальон пехоты. На первом этаже имелись две кухни с пекарнями и цейхгаузы. В северном крыле, более защищенном от прямых попаданий снарядов, находились склады боезапасов. Для стрельбы калеными ядрами соорудили две ядрокалильные печи.
К 1846 г. завершилась реконструкция батареи № 10, находившейся между мартыновой и Карантинной бухтами. При общей длине 540 м она имела три форта, обращённых к морю, и 60 орудий.
Назначение батареи № 10 – обстрел Карантинной бухты и дальняя стрельба по входу на рейд.
Всего за 10 лет строительства севастопольских береговых батарей было израсходовано 2 млн 484 тыс. рублей. В том числе на Александровскую батарею – около 135 тыс. руб., на Константиновскую батарею – 425 тыс. руб., на Николаевскую батарею – 985 тыс. руб., на батарею № 2 – 264 тыс. руб., на батарею № 10 – 341 тыс. руб.
За то же время на строительство сухопутных укреплений было истрачено всего 17 тыс. рублей. Хотя военная история свидетельствует, что большая часть береговых крепостей берётся с суши, а не с моря. Вспомним тот же Тулон в 1793 г.
Глава 4. Начало Крымской войны
Причины возникновения и общий ход Крымской войны 1853–1855 гг. выходят за рамки монографии. Здесь же кратко скажу о причинах сдачи Севастополя (точнее, его Южной стороны).
Классический ответ на это дан в книге Л. Горева «Война 1853–1856 гг. и оборона Севастополя»: «Отсталость экономическая и политическая обусловила отсталость военную… Крепостная Россия, конечно, не могла победить в войне с двумя развитыми капиталистическими странами, исход войны был предрешен до её начала. Причина неизбежного поражения крепостной России крылась в её общей отсталости»[25].
Примерно такое же объяснение причин поражения можно найти в любом издании, хотя бы вскользь касающемся Крымской войны, от школьных учебников по истории до академических изданий.
Оспорить подобные утверждения невозможно. Тут всё верно. Русские парусные корабли не могли сражаться с пароходами противника. Пароход даже с более слабой артиллерией мог зайти с кормы парусника и почти безнаказанно расстрелять его бортовым огнём.
Денег не было на строительство пароходов? Однако расходы России на подавление венгерского восстания в 1848–1849 гг. превысили стоимость строительства сильнейшего русского парохода-фрегата «Владимир» в 100 (!) раз. Если бы не экспансия Николая I, Черноморский флот имел бы сто «Владимиров» и как минимум два, а то и больше небольших государств вместо враждебной России Австро-Венгерской империи.
На суше русская пехота была вооружена гладкоствольными ружьями, а вражеская – нарезными. Союзники стреляли из винтовок почти в три раза дальше и гораздо метче. Основным снарядом русской полевой артиллерии была картечь. Но с введением винтовок вражеские стрелки выбивали прислугу и лошадей русских батарей прежде, чем они приближались на картечный выстрел.
Оружие, боеприпасы, продовольствие и личный состав доставлялись в английские и французские порты по железным дорогам, а оттуда – морем до крымских баз союзников – Балаклавы, Камышовой бухты и Евпатории. Русские же на телегах, запряжённых лошадьми или волами, везли всё необходимое в Севастополь через всю Россию.
Казалось бы, теорема доказана: отсталость политическая, экономическая и военная были основной причиной поражения России в 1854–1855 гг.
К сожалению, главной причиной была разруха в головах адмиралов и генералов. На самом же деле Крымская и Японская войны были проиграны царской Россией 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. И дело не в том, что были повешены и сосланы в Сибирь лучшие офицеры Российской армии и флота. Стране требовались кардинальные реформы, а вместо них Николай I решил законсервировать существующие порядки. Царь боялся мыслящих самостоятельно генералов и офицеров. Романовым не были нужны думающие офицеры и профессионалы своего дела – Бонапарты, Пестели, Орловы и Потёмкины. Их наши два Николая и три Александра боялись как огня. Они предпочитали вымуштрованных болванов, которые слепо и бездумно выполняли любой царский приказ.
Итак, в 1854 г. в русской армии и флоте не оказалось ни Суворовых, ни Орловых, ни Потёмкиных. Перевозка союзных войск в Турцию (в зону Проливов) началась 18 (30) марта 1854 г. В июне того же года союзные войска перебазировались в порт Варна на Чёрном море, принадлежавший тогда Турции. Союзный же флот вошел в Чёрное море ещё 22 декабря 1853 г. (3 января 1854 г. по новому стилю). Как видим, времени на подготовку к союзному вторжению у русского командования было более чем достаточно.
В мае 1854 г. союзники имели на Чёрном море 15 парусных кораблей, 2 парусных фрегата, 8 винтовых кораблей, 6 винтовых фрегатов и 6 пароходо-фрегатов (то есть фрегатов с колёсным движителем), а также несколько малых пароходов и парусных транспортов.
К этому времени в составе Черноморского флота состояли 15 парусных кораблей, 7 парусных фрегатов, 7 пароходо-фрегатов и 21 вооруженный малый колёсный пароход.
Винтовое судно на Черноморском флоте имелось лишь одно – шхуна «Аргонавт». Кроме того, было большое число парусных судов различных типов: корветов – 5 (90 орудий), бригов – 12 (166 орудий), шхун – 6 (80 орудий), тендеров – 7 (42 орудия), яхт – 2 (20 орудий), транспортов – 28 (156 орудий).
Формально по числу вымпелов и пушек Черноморский флот превосходил силы союзников, но с учётом мощи английских и французских орудий, а главное, из-за числа их паровых кораблей и фрегатов, шансы русских на победу в генеральном сражении «а-ля Трафальгар» были равны нулю.
Наши храбрые адмиралы провели несложные расчёты и решили: драться нельзя, надо самим топиться с горя. Ну а что если отступить от шаблона и от заученных наставлений? Сразу оговорюсь, что не следовало изобретать что-то новое, надо было действовать тем, что имелось под рукой.
Всего через 7 лет после описываемых событий, в 1861 г., начнётся Гражданская война в США. Там обе стороны станут применять самые разнообразные способы войны на море. В ход пойдут и брандеры, и таран, и шестовые мины, и подводные минные заграждения. Никаких особых изобретений, необходимых для создания и использования этих примитивных типов вооружений, делать в 1855–1861 гг. не надо было. Так, например, брандеры новгородцы использовали против шведских судов ещё в 1300 г. на Неве, а в 1770 г. граф Орлов с помощью брандеров сжёг при Чесме превосходящие силы турецкого флота. Но вот Орловых-то в 1854 г. в России и не оказалось.
Неужели нельзя было из 21 малых пароходов, находившихся в составе Черноморского флота, сформировать несколько штурмовых флотилий? Можно было мобилизовать ещё как минимум два десятка малых пароходов, принадлежавших различным гражданским ведомствам и частным лицам. Эти пароходы плавали ранее в Азовском море, по Днепру и Дону.
Спору нет, малые пароходы были не способны нести регулярную службу на Чёрном море. Но от них требовалось совершить один или два рейса, чтобы быть использованными в качестве брандеров.
Русские колёсные пароходы если и уступали в скорости хода, то совсем немного, союзным винтовым кораблям и фрегатам, не говоря уж о больших колёсных пароходах. Зато они были манёвреннее больших пароходов.
В 1854 г. не было мелкокалиберных скорострельных орудий (они появятся только через 15–20 лет), а пушки больших и средних калибров имели малую скорострельность. Эти орудия были рассчитаны на линейный бой с неподвижным или малоподвижным кораблем противника и в подавляющем большинстве своем не имели поворотных устройств. Таким образом, в ночном бою малые пароходы, используемые в качестве брандеров и носителей шестовых мин, были малоуязвимы от огня артиллерии противника. Вспомним, что в 1877–1878 гг. ни одна русская миноноска не была потоплена артиллерийским огнём турецкого корабля, причем не только в ночных, но и в дневных атаках.
Защиту команд малых пароходов от ружейного огня организовать было проще простого. Для этого годилось все – от мешков с песком до железных щитов.
Внезапность операции штурмовых флотилий можно было бы обеспечить элементарной дезинформацией. Так, сбор большого числа малых, в том числе и речных пароходов можно было объяснить необходимостью буксировки парусных кораблей, фрегатов и корветов Черноморского флота к месту боя и в самом бою. Такой приём использовали союзники при бомбардировке Севастополя, да и до войны во всех флотах Европы практиковалась буксировка малыми пароходами больших военных парусных судов.
Любопытный момент: 18 марта 1854 г. вице-адмирал Корнилов издал подробную инструкцию командирам судов Черноморского флота на случай появления союзного флота у Севастополя. Из восьми страниц инструкции три посвящены действиям брандеров! «Ах! Какой прозорливый адмирал! – воскликнет квасной патриот. – А Широкорад ещё говорит, что у нас не было Орловых!»
Увы, Корнилов подробно расписывал возможные действия союзных (!) брандеров против Черноморского флота. В инструкции Корнилов вспоминал успешные действия брандеров при Чесме, на Баскском рейде в 1809 г., но ему даже не пришло в голову самому атаковать врага брандерами, тараном и шестовыми минами. Уж лучше всем героически затопиться на Севастопольском рейде! Глядишь, и вице-адмиралу, и затопленным кораблям памятник красивый поставят.
Чтобы не быть обвинённым в пристрастности в описании действий союзного флота, я предоставлю слово известному морскому теоретику германскому адмиралу Альфреду Штенцелю: «…самое удивительное – это план, выработанный союзниками для перевозки войск. Вместо того, чтобы заблокировать русский флот в Севастополе и тем обезопасить переход транспортов с войсками, они решили только прикрыть их конвоем из военных судов. Конечно, эта роль выпала лишь на долю английских кораблей, т. к. французские были битком набиты войсками.
Не было даже организовано наблюдение за стоявшим в гавани неприятельским флотом. Странным кажется то, что старшие флагманы остались на парусных линейных кораблях, между тем как младшие находились на винтовых судах. Столь же фантастичен, как переход морем, был и план десантирования: предполагалось высадить сразу 30 000 человек, без палаток, всего с несколькими батареями артиллерии и небольшим количеством припасов, несмотря на то, что у западного берега Крыма часто бывал довольно сильный прибой.
В Варне были посажены на суда 28 000 французов с 3000 лошадей, 24 000 англичан и 8000 турок. Для перевозки войск французы предоставили 15 линейных кораблей (из них 4 винтовых), 5 парусных фрегатов, 35 военных пароходов, 80 парусных транспортов и 40 судов для перевозки провианта, англичане – 150 больших коммерческих судов, в том числе много паровых, турки – 9 линейных кораблей и 4 парохода. Прикрытие осуществляли 12 английских линейных кораблей и столько же фрегатов. Вся эскадра состояла их 350 судов…
…Посадка на суда французских экспедиционных войск продолжалась с 31 августа по 2 сентября. Некоторые линейные корабли приняли сверх 1000 человек собственной команды ещё около 2000 десантных войск и были ввиду этого почти совсем не способны к бою. Англичане, задержанные плохой погодой, закончили посадку лишь 7-го числа. Несмотря на это, первый эшелон французских транспортов из 14 парусных судов покинул рейд уже 5 сентября без всякого конвоя, и находился трое суток в море совершенно беззащитным. Из английских линейных кораблей, назначенных для охраны транспортного флота, только на одном имелась паровая машина…
…8 сентября англичане догнали французов и турок у Змеиного острова. Здесь произошел инцидент, как нельзя лучше осветивший все недостатки совместных операций союзников, не имеющих общего начальника. Среди французских генералов вдруг возникли сомнения: они почему-то нашли более удобным высадиться не у Качи, а в другом месте, лучше всего у Феодосии, к западу от Керчи. Движение же на Севастополь они считали слишком опасным. Прямо во время перехода все генералы и адмиралы собрались на совет и пришли опять к согласию лишь благодаря дипломатическому искусству лорда Раглана. Решили произвести новую рекогносцировку западного берега Крыма, что и было сделано 10-го числа целой комиссией. Флот в это время стоял на якоре в открытом море. Образ действий совершенно непонятный, если принять во внимание предшествовавшие всему этому основательные дискуссии, тянувшиеся целыми месяцами!
…По позднейшим данным, русский флот не мог выполнить своего намерения атаковать транспорты во время перехода и высадки из-за того, что в течение этих дней у западных берегов Крыма был штиль или господствовали слабые противные ветры. Вернее же, причиной было отсутствие дальновидности и энергии у его начальников. Таким образом, весь переход и высадка десанта сопровождались редкостно удачным стечение обстоятельств»[26].
Итак, союзникам крупно повезло из-за «отсутствия дальновидности и энергии» у Корнилова, Нахимова и Истомина. Что же касается штиля, то он не только мешал русским парусникам, но и парализовывал парусники союзников, которых было большинство в союзной армаде. Можно легко представить, что было бы, если бы сорок русских малых пароходов атаковали ночью это огромное скопище слабо охраняемых судов. Что же касается семи русских пароходо-фрегатов, то они могли связать боем наиболее активные суда охранения противника.
Под стать морскому действовало в Крыму и сухопутное начальство. На суше причиной поражения стала косность мышления русских генералов, которые забыли собственную военную историю. Почему Карл XII в 1708 г. не дошёл до Смоленска 14 верст и повернул на юг? Убоялся петровских войск? Да нет, он жаждал сражения, а русские, наоборот, бежали перед шведами. Карл испугался генерала Голода, который через сто лет погубит Великую армию Наполеона.
Дело в том, что по приказу Петра русские разоряли собственную страну так же, как и Польшу. Чтобы не быть голословным, приведу цитату из указа Петра: «Ежели же неприятель пойдет на Украйну, тогда идти у оного передом и везде провиант и фураж, також хлеб стоячий на поле и в гумнах или в житницах по деревням (кроме только городов)… польский и свой жечь, не жалея, и строенья перед оным и по бокам, также мосты портить, леса зарубить и на больших переправах держать по возможности». Нарушителей ждала суровая кара: «…сказать везде, ежели кто повезет к неприятелю что ни есть, хотя за деньги, тот будет повешен, також равно и тот, который ведает, а не скажет».
В другом указе царь велел не вывезенный в Смоленск хлеб «прятать в ямы», а «мельницы, и жернова, и снасти вывезть все и закопать в землю, или затопить где в глубокой воде, или разбить», чтобы «не досталось неприятелю для молонья хлеба». Генерал-поручик Боур получил аналогичный приказ Петра: «…главное войско обжиганием и разорением утомлять».
Поэтому-то Карл и не пошёл на Москву, а повернул на Украину, где надеялся найти большие запасы продовольствия и союзные войска гетмана Мазепы.
Высадка союзников в Крыму вовсе не была неожиданностью для русского командования. Ещё 5 марта 1854 г. военный министр писал командующему русским флотом в Крыму князю А.С. Меншикову: «По полученным здесь сведениям подтверждается, что соединенный англо-французский флот намеревается сделать высадку на Крымских берегах, чтобы атаковать Севастополь с сухопутной стороны… Государь император поручил мне сообщить о сём вашей светлости с нарочным фельдъегерем и покорнейше просить вас принять все зависящие от вас меры, дабы быть готовым встретить и отразить угрожающие Крыму и в особенности Севастополю неприятельские покушения».
Неужели за 6 месяцев светлейший князь не мог подготовиться к защите Крыма? Неужели русские генералы и адмиралы не понимали, где могли высадиться союзники? Может, князь Меншиков думал, что они полезут по горным дорогам и тропинкам в Балаклаве, Алупке, Ялте или Судаке? Было только два удобных места высадки столь крупного десанта – район Евпатории и район Феодосии. Но Феодосия слишком удалена от Севастополя. Поэтому был лишь один десантоопасный район, и именно там нужно было строить укрепления и там попытаться задержать врага. Ну а если бы союзники прорвали оборону наших войск? Вопрос первый – куда бы они пошли? К Северной стороне Севастополя, чтобы взять город с ходу? Это надо быть сумасшедшим. Северная сторона ещё до войны была относительно хорошо укреплена, взять её с ходу было нереально.
Нужна длительная осада, а как прикажете в этом случае снабжать огромную армию? Из Евпатории? Так она слишком далека от Севастополя, а главное, там нет защищённой от бурь стоянки кораблей, тем более, для огромного флота. У союзников был единственный путь – пройти вдоль побережья к Инкерману, а затем расположиться южнее Севастополя, получив таким образом вполне приемлемые места базирования для флота – Балаклаву и Камышовую бухту.
И тут-то у Меншикова оказалось меньше ума, чем у неграмотных татарских беев во времена Миниха. Вспомним, почему тогда русская армия без сражений была вынуждена покинуть Крым с большими потерями? Правильно! Потому что татары оставляли русским выжженную землю. Неужто Меншиков за 6 месяцев не мог подготовить к взрыву мосты и крупные каменные здания? Все жители в районе Балаклавы подлежали выселению, домашний скот следовало забить и бросить в водоемы. Особых сложностей это не представляло, так как южный берег Крыма был очень мало заселён. К примеру, в Ялте насчитывалось всего 86 душ обоего пола! На «выжженной земле» союзников неминуемо ждала бы судьба наполеоновской армии в 1812 г.
Но, увы, светлейший князь Меншиков был слишком галантным кавалером. Он дал возможность союзникам захватить в Евпатории 12 тысяч кубометров зерна, которые ещё до войны были собраны для вывоза за рубеж. Этого зерна хватило союзникам на 6 месяцев.
В XIX веке не существовало специальных десантных судов, и союзники высадили сравнительно большую армию, но практически без обоза. То есть они могли провести успешное сражение у места высадки, что, кстати, и сделали 8 сентября 1854 г. на реке Альме, но наступать они не могли, не имея достаточного количества лошадей и телег.
И тут на помощь союзникам пришли крымские татары. Сразу после высадки первого небольшого отряда в Евпатории английские офицеры увидели с пристани 350 татарских телег и несколько сотен лошадей. Видимо, кто-то заранее организовал сбор транспортных средств. Затем татары стали ежедневно пригонять в район Евпатории десятки, а то и сотни лошадей и телег.
После неудачного сражения на реке Альме князь Меншиков растерялся: то он хотел прикрыть своей армией Севастополь, то Бахчисарай. Предотвратить же единственно возможный, я бы сказал, спасительный марш союзников к Балаклаве русские даже не пытались.
Итак, союзная армия с помощью татар сумела обогнуть с юга Севастополь и получила отличные места стоянки для боевых кораблей и транспортов почти рядом с Севастополем.
В ходе всей Крымской войны вооружённые татарские отряды, точнее банды, не представляли непосредственной угрозы для наших регулярных войск. Однако татары вместе с десантными отрядами союзников сильно нервировали русское командование, которое чувствовало себя в Крыму как в осаждённой со всех сторон крепости.
Глава 5. Отражение атаки союзного флота
Ко времени сражения на Альме в Севастополе находился четырёхтысячный гарнизон и около 20 тысяч моряков. Севастополь имел первоклассные береговые батареи. С суши же Севастополь почти не был защищён. Если Северная сторона города имела хоть какие-то укрепления, то Южная вообще не защищена. В связи с этим начинается буквально лихорадочное строительство укреплений на сухопутном фронте. К началу сентября на сухопутных батареях Северной стороны стояла 51 пушка, из них 19 – 24-фунтовых. На Южной стороне находилось 145 орудий: 2 – 30-фунтовые пушки, 4 – 24-фунтовые пушки, 25 – 24-фунтовых карронад, 23 – 18-фунтовые пушки, 8 – 18-фунтовых карронад, 24 – 12-фунтовые пушки, 14 – 12-фунтовых карронад, 4 – 6-фунтовые пушки, 2 – 3-фунтовые пушки, 20 полупудовых единорогов, 9 четвертьпудовых единорогов.
10 сентября по приказу Меншикова у входа в Севастопольскую бухту были затоплены наиболее старые суда Черноморского флота: корабли «Три Святителя», «Уриил», «Селафаил», «Варна» и «Силистрия»; фрегаты «Флора» и «Сизополь». Вместе с боном корпуса затопленных кораблей составили надежное заграждение бухты.
14 сентября английские части заняли городок Балаклаву. В этот же день в Балаклавскую бухту вошла английская эскадра. Вскоре англичане начали там строительство военно-морской базы.
15 сентября французы заняли Камышовую и Казачью бухты. В Камышовой бухте французы устроили свою военно-морскую базу.
В ночь с 27 на 18 сентября союзники начали постройку осадных батарей вокруг Южной стороны Севастополя.
К концу сентября гарнизон Севастополя был усилен. В его составе имелось 30 пехотных дивизий, 13 морских экипажей и один саперный батальон. Всего 30 тысяч человек при 28 полевых орудиях.
К 5 октября на укреплениях Южной стороны находилось орудий: бомбических пушек 3-пудовых – 5, 68-фунтовых – 5; пушек корабельных и осадных 36-фунтовых – 26, 24-фунтовых – 32, 18-фунтовых – 24, 12-фунтовых – 22, 3-фунтовых – 2; единорогов 1-пудовых – 15, полупудовых – 34, четвертьпудовых – 16; пушко-карронад 36-фунтовых – 3, 24-фунтовых – 82, 18-фунтовых – 18; карронад 18-фунтовых – 7, 12-фунтовых —14; мортир 5-пудовых – 2, 2-пудовых – 3, полупудовых – 7, 6-фунтовых кегорновых – 24. Итого 341 орудие.
Несмотря на внушительное число орудий, артиллерийское вооружение Южной стороны было очень слабо. Наиболее эффективно при осаде Севастополя действовали мортиры, а у нас 5-пудовые и 2-пудовые мортиры составляли лишь 1,5 % от общего числа орудий. От орудий калибра 3—18 фунтов при контрбатарейной стрельбе мало толка, а карронады могли использоваться лишь как противоштурмовое орудие для стрельбы картечью. Ставили то, что было под рукой и что было легче дотащить до батареи.
К началу октября союзники установили на осадных батареях 120 тяжёлых орудий, в том числе 18 мортир.
Боевое крещение севастопольских береговых батарей состоялось 5 (17) октября 1854 г., когда англо-французский флот атаковал Севастополь с моря. У нас принято считать, что русские моряки, затопив свои корабли у входа в Севастопольскую бухту, сделали невозможным проход вражеских кораблей внутрь её. На самом же деле затопленные корабли лишь затруднили вход в бухту, и, подавив береговые батареи русских, союзники без особых проблем провели бы свои корабли между затопленных кораблей, а при желании даже могли их подорвать.
К великому сожалению, до сих пор ни один историк не сумел объяснить, почему вместо затопления кораблей в столь узком месте нельзя было поставить минное заграждение, управляемое с берега? Ведь мины имелись и использовались против союзников на Балтике и в Днепро-Бугском лимане. Ну а, в крайнем случае, почему нельзя было за несколько месяцев между началом войны с Англией и Францией и приходом союзного флота к Севастополю построить из брёвен и цепей надежное боновое заграждение? Ведь даже в гимназиях знали, что византийцы и турки неоднократно перегораживали цепями Золотой Рог и Босфор.
5 октября союзники решили одновременно атаковать Севастополь с моря и с суши. В 7 часов утра сухопутные батареи союзников открыли огонь по сухопутным укреплениям города. Однако флот не смог своевременно занять позиции у русских береговых батарей. Дело в том, что с утра был штиль, а большинство кораблей союзников были парусными, и потребовалось больше времени для буксировки их малыми пароходами.
Поскольку союзники считали выход русских кораблей из бухты маловероятным, они сняли значительную часть такелажа со своих кораблей. Это существенно увеличивало живучесть кораблей в бою, но парусные корабли при этом потеряли способность двигаться под парусами и стали фактически плавбатареями, которые могли передвигаться лишь с помощью буксирных пароходов. Любопытно, что пароходы буксировали британские парусные корабли[27] не на канатах сзади, а боком (буксиры крепились канатами к левому борту кораблей).
Согласно заранее разработанному плану, французские суда должны были обстреливать укрепления Южной стороны, а английские – Северной. Между французскими находились и немногочисленные турецкие корабли.
Итого вооружение одного борта союзных кораблей состояло из 1244 орудий. 5 октября союзный флот атаковал Севастополь с моря. Ему могли отвечать только пять батарей – Александровская, Константиновская, № 10 и № 13 и № 12 (Картошевского). Огонь остальных батарей был малоэффективен. Батареи Николаевская, Михайловская, Павловская и № 4 поначалу открыли огонь, но вскоре прекратили.
На Александровской батарее было 56 орудия, из них: две 3-пудовые бомбовые пушки, 11 – 36-фунтовых пушек, 16 – 24-фунтовых пушек, 4 – 18-фунтовых пушки, 19 – 1-пудовых единорогов и 4 – 5-пудовые мортиры.
На Константиновской батарее было 91 орудие, из них: 50 – 24-фунтовых пушек, 34 – 1-пудовых единорога, 4 – полупудовых единорога, 1 – 12-фунтовая карронада, 2 – 5-пудовые мортиры.
На батарее № 10 было 58 орудий, из них: 2 – 3-пудовых бомбовых пушки, 29 – 36-фунтовых пушки, 12 – 1-пудовых единорогов, 9 – полупудовых единорогов, 6 – 5-пудовых мортир.
На батарее № 12 было 5 орудий, из них: 1 – 36-фунтовая пушка, 3 – 1-пудовых единорога и один полупудовый единорог.
На батарее № 13, расположенной в каменной башне Волохова, было 10 пушек, из них: 8 – 36-фунтовых и 2 – 18-фунтовых.
Корабли союзников бомбардировали береговые батареи Севастополя в течение всего светового дня (около 12 часов). Огонь 11 французских и 2 турецких кораблей, имеющих 746 орудий одного борта, был направлен по преимуществу на батарею № 10 и Александровскую с дистанций 800 сажень (1707 м). Корабли подвергались действию 73 орудий батарей № 10, Александровской и Константиновской.
На следующий день корреспондент британской газеты «Таймс» писал: «Огонь был ужасен. На расстоянии шесть миль шум был похож на грохот локомотива, несущегося на полной скорости, только много сильнее. День был абсолютно безветренным, корабли и батареи окутывал пороховой дым, и зачастую противники не видели друг друга. Огонь время от времени прерывался, чтобы дать рассеяться густому дыму».
5 английских кораблей, стоявших против правого фланга Константиновской батареи, действовали из 259 орудий одного борта с дистанции 650 сажень (1387 м). Они же подверглись действию 54 орудий батарей Константиновской, Александровской и № 10. Из них 18 орудий Константиновской батареи действовали с 650 саженей (1387 м), другие две батареи с 900–950 саженей (1921–2027 м), 4 английских корабля к северо-западу от Константиновской батареи в необороняемом секторе действовали из 169 орудий одного борта с дистанции 450 саженей (960 м). По ним действовали только 2 орудия Константиновской батареи, 13 орудий батареи № 10 и Александровской, которые стреляли в них с 900–950 саженей (1921–2027 м).
Корабль «Аретуза» с 25-ю орудиями одного борта действовал по Константиновской батарее с 300 саженей (640 м), и корабль «Альбион» с 45-ю орудиями действовал по башне Волохова с 450 саженей (960 м).
В бою британская эскадра потеряла 44 человека убитыми и 266 человек ранеными. Согласно рапорту вице-адмирала Дандаса, командовавшему британской эскадрой, «корабли, мачты, такелаж повреждены в большей или меньшей степени, в основном бомбами и раскаленными ядрами. “Альбион” получил повреждения как корпуса, так и рангоута. “Родней” сел на мель и был снят при помощи “Спайтфула”… Все корабли за исключением “Аретузы” и “Альбиона”, которые отправлены в Константинополь на ремонт, будут отремонтированы за 24 часа».
Замечу, что «Аретузу» и «Альбион» в Константинополе отремонтировать не удалось, и их отправили на Мальту – главную британскую военно-морскую базу на Средиземном море.
Французская эскадра потеряла всего убитыми и ранеными 212 человек. Французские корабли потерпели сильные повреждения: «Виль де Пари» получил 50 пробоин, «Наполеон» получил опасную подводную пробоину, «Шарлемань» получил повреждение машины.
На турецкие корабли севастопольские артиллеристы не обращали особого внимания, и они отделались всего парой раненых.
Повреждения же русских батарей оказались невелики. На батарее № 10 было подбито 3 орудия, и у 7 повреждены лафеты. На Александровской батарее подбито 3 орудия и столько же лафетов. На башне Волохова поврежден один лафет. Сильно пострадала батарея Константиновская из-за неудачного расположения. Хотя она находилась на выдающемся мысе, у нее только половина орудий могла стрелять по кораблям. А 27 орудий на верхнем ярусе не были прикрыты от тыльных и продольных выстрелов, поэтому там остались неповрежденными только 5 орудий.
Из 152-х береговых орудий было сделано 16 тысяч выстрелов. Союзники из 1244 орудий выпустили 50 тысяч снарядов.
На береговых батареях убыло: 16 убитых и 122 раненых.
После неудачной попытки 5 октября союзный флот ни разу не предпринимал решительных действий против береговых батарей Севастополя и ограничивался только редкими действиями отдельных судов против русских укреплений на больших дистанциях.
Так два сильнейших в мире флота оказались бессильны против береговых батарей Севастополя.
Глава 6. Оборона бастионов Севастополя
Первый бастион был построен на Корабельной стороне на левом берегу Килен-бухты, в районе современной улицы Макарова, над нынешней железной дорогой. По проекту 1834 г. первый бастион предполагалось построить позади Ушаковой балки, но позже вынесли его вперед, за возвышенность между Ушаковой балкой и Килен-бухтой.
В 1851 г. из киленбальского известняка построили оборонительную казарму с подвалом на 250 человек. Длина фасада казармы – 80 м, ширина – 12 м, высота – 4,2 м. На её вооружении находилось 9 полупудовых крепостных единорогов. На месте будущего бастиона инженерная команда под руководством капитана Ф.А. Старченко построила батарею, вооружённую четырьмя орудиями, позже добавили ещё пять пушек. У батареи в скале выдолбили ров. Но очертания бастиона укрепление приобрело только в начале июня 1855 г., когда моряки с корабля «Париж» соорудили в его тыловой части батарею, получившую номер 107.
Поскольку расстояние между 1-м бастионом и Малаховым курганом было слишком велико, в начале сентября 1854 г. на месте будущего 2-го бастиона построили батарею на 6 орудий. Позже число пушек довели до 20. Вокруг укрепления в скальном грунте выдолбили ров. В связи с тем, что ров не удалось вырубить в скале на нужную глубину (не хватало шанцевого инструмента), на контрэскарпе вала возвели каменную стенку для прикрытия от штуцерных пуль противника.
Второй бастион и стоящий рядом Малахов курган были соединены Камчатским люнетом, Волынским и Селенгинским редутами. Укрепления были названы в честь полков, которые их строили и обороняли. Во время второй обороны на Камчатском люнете находилась зенитная батарея № 54, перенесенная из района хутора Лукомского.
В начале 1854 г. на Малаховом кургане началось строительство каменной двухэтажной башни с бойницами, зубчатыми стенами и потайным выходом в поле. Средства на сооружение – 12 500 рублей – собрали жители города и моряки Черноморского флота. Башню построили из инкерманского камня. Её высота достигла 8,5 м, толщина стен нижнего яруса – 152 см, верхнего – 88 см. Два закрытых яруса башни имели 52 бойницы для ружейного обстрела местности. В башне предусматривались: часовня, пороховой погреб, помещение для снарядов и провизии. На верхней площадке установили пять крепостных 18-фунтовых пушек. 10 июня 1854 г. строительство башни было завершено.
Осенью 1854 г. был построен 3-й бастион, прикрывавший подступы к Южной бухте и центру города. Он входил в третью дистанцию оборонительной линии. Ныне большая часть бастиона застроена частными домами. Укрепления в частной застройке почти не заметны. Между третьим и четвертым бастионом находятся верховья Южной бухты. Местность в этом районе была заболочена, и для строительства дороги сюда свозили грунт, извлеченный при строительстве Лазаревских казарм. Местность в верховьях бухты называлась Пересыпь. Во время первой обороны Севастополя через Южную бухту был построен наплавной мост, по которому производилось снабжение Корабельной стороны.
Верховья Южной бухты прикрывала батарея «Грибок», располагавшаяся ниже Исторического бульвара. Во время второй обороны Севастополя на месте батареи был оборудован подземный командный пункт ПВО. После войны здесь находилась парашютная вышка. Сейчас на этом месте собачья площадка. Выше находится Исторический бульвар, разбитый на месте 4-го бастиона.
Четвёртый бастион, защищавший центр города, входил во вторую дистанцию оборонительной линии. К началу обороны на бастионе стояло восемь 12-фунтовых карронад, а в августе 1855 г. 4-й бастион вместе с Язоновским редутом (по названию брига «Язон») насчитывал 219 орудий.
Впереди левого фаса, за рвом бастиона располагалась четырёхорудийная батарея № 38. Левее и ниже батареи Костомарова находились «бульварные» батареи: 31, 32, 33 и 34-я, построенные осенью 1854 г. на Бульварной высоте. Орудия для них сняли с корветов «Пилад» и «Андромаха».
Пятый бастион входил в первую дистанцию оборонительной линии. Она включала в себя: 5, 6, 7-й бастион и 10-ю батарею. Территория бывшего 5-го бастиона находится недалеко от площади Восставших. К моменту высадки союзников в Крыму на бастионе была построена только казарма, аналогичная казарме 1-го бастиона, и оборонительная стена к 6-му бастиону. Казарму спешно вооружили, установив 5 орудий внутри и 6 пушек на верхней платформе. В казарме устроили пороховой погреб. Левее 5-го бастиона был построен редут № 1, получивший название по имени командира лейтенанта М.П. Шварца.
Редут Шварца, вооруженный 8 крепостными 12-фунтовыми пушками, имел важное значение, прикрывая пространство между 4-м и 5-м бастионами. Впереди редута Шварца и 5-го бастиона вырыли ров глубиной до 6 футов (1,8 м). Поскольку ров был неглубок, перед ним и по бокам укреплений насыпали земляные валы до 7 футов (2,1 м) высоты и 6 футов (1,8 м) ширины. Правый фас 5-го бастиона укрепили, построив люнет № 7.
Шестой бастион располагался в районе современной частной застройки в районе гостиницы «Крым». Современная улица Частника проходит по тому месту, где в первую оборону города находилась оборонительная стена между пятым и шестым бастионами. На том месте, где сейчас находится детский стадион, 1 декабря 1854 г. моряки с корабля «Ростислав» построили редут, названный Ростиславским. Он имел прямоугольную форму. Один из фасов редута образовали из строений военно-сухопутного госпиталя. Бастион был почти полностью построен к началу осады, но из-за казнокрадства укрепление оказалось слабым. Ров перед бастионом был глубиной всего 6 футов (1,8 м).
Стены казармы и оборонительной стены были тонкими. Но это в чем-то компенсировалось мощным вооружением 6-го бастиона. Его 15 крепостных 24 фунтовых пушек, установленных на поворотных платформах, обстреливали Рудольфову гору, развалины Херсонеса и прилегающую местность. Для усиления огневой мощи бастиона по распоряжению адмирала Корнилова с Михайловской батареи доставили шесть корабельных бомбических орудий.
Седьмой бастион также был завершен к началу обороны. Бастион был каменным, но качество укреплений, опять же из-за казнокрадства, оставляло желать лучшего. Справа к бастиону примыкала батарея № 8 (на мысу Хрустальный). На 7-м бастионе и на 8-й батарее стояли 62 орудия, в том числе десять пятипудовых мортир.
Рядом находился Александровский форт, прикрывавший вход в гавань Севастополя. Форт представлял собой каменную батарею, вооруженную 56-ю орудиями. «Каменная часть её состояла из прямой одноярусной батареи, длиною 36 сажень, с 13-ю оборонительными казематами и открытою обороной. С правого фланга к ней примыкала круглая двухъярусная башня. Она имела 11 сажень в диаметре, а в каждом ярусе по 7-ми казематов. С левого же фланга к каменной батарее примыкала земляная, длиною 70 сажень…» Форт был построен по проекту инженер-полковника К.И. Бюрно в 1845 г.
Левее находилась береговая батарея № 10, имевшая свою систему сухопутной обороны. Она предназначалась для ведения огня по Карантинной бухте и рейду. На батарее находилось 58 орудий.
На вооружении каждого из бастионов (№ 4, 5 и 6) и на Малаховом кургане состоял запасный артиллерийский парк в количестве восьми 36-фн орудия с прислугой.
Как видно из таблицы, по своему составу артиллерия обороны увеличилась в количественном отношении почти вдвое (со 172 до 341). В качественном отношении изменение произошло главным образом за счёт увеличения числа орудий крупного калибра с большой дальностью стрельбы – с 34 до 173.
Слабой стороной артиллерии обороны была необеспеченность её мортирами крупного калибра. (К артиллерии крупного калибра отнесены: пушки бомбические и пушки-карронады калибра от 24 фунтов и выше; единороги 1-пудовые и выше; мортиры калибром от 2 пудов и выше). Имевшиеся пять 5-пудовых и 2-пудовых орудий этого типа составляли всего 1,5 % от общего количества артиллерии обороны (5 от 341) и около 3,5 % от общего количества артиллерии крупного калибра (5 от 173).
По характеру выполняемых огневых задач вся артиллерия обороны разделялась на противоштурмовую и противобатарейную.
В составе противоштурмовой артиллерии насчитывалось 223 орудия, из которых огонь 160 орудий предназначался для противодействия атакующей пехоте с фронта, а огонь остальных 60 орудий был направлен для прикрытия подступов с фланга и тыла.
В составе противобатарейной артиллерии насчитывалось 118 тяжёлых систем. Огонь основной массы этих орудий предназначался для борьбы с осадными батареями, развернутыми на огневых позициях в трёх основных пунктах – на высотах Рудольфовой, Зеленой и Воронцовской.
Для артиллерийской поддержки обороны Южной стороны привлекались с суда Черноморского флота. Так, пароходо-фрегат «Херсонес» назначался для обстрела Инкерманской долины, пароходо-фрегаты «Владимир» и «Крым» – для обстрела Килен-балки, пакетботный пароход «Эльбрус» – для обстрела Ушаковой балки и фланкирования правого фланга линии обороны; корабль «Ягудиил», стоявший на рейде в Южной бухте, предназначался для обстрела подступов к Пересыпи.
Первая бомбардировка Севастополя с суши началась в 6 ч. 30 мин. 5 октября. За день русские сухопутные батареи сделали около 20 тысяч выстрелов, а союзники – около 9 тысяч выстрелов.
Русские потеряли убитыми и ранеными свыше тысячи человек и 45 орудий, англо-французы – 348 человек и 22 орудия. Большая разница в потерях объясняется тем, что, боясь штурма, наши начальники подтянули пехотные части почти к самым батареям. При этом никто не догадался укрыть их за складками местности, вырыть окопы, устроить блиндажи и т. п.
При последующих бомбардировках такая картина повторялась из раза в раз. Пехота же союзников находилась вне зоны действия русской артиллерии. Кроме того, как уже говорилось, наиболее эффективно по укреплениям и живой силе действовали мортиры, в которых союзная артиллерия имела абсолютное превосходство, а у нас, как отмечалось выше, было только пять больших мортир. И это при том, что на береговых батареях Севастополя на 5 октября стояло 26 – 5-пудовых и 3 – 3-пудовые мортиры.
Вероятность попадания из мортиры в корабль ничтожно мала по сравнению с пушкой, соответственно, и проку от мортир на береговых батареях было мало. Но взять оттуда хотя бы половину мортир и перевезти их на Южную сторону было за пределами бюрократического мышления «отцов-командиров».
Большой потерей для гарнизона Севастополя стала гибель 5 октября вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнилова, который был смертельно ранен в ногу ядром на Малаховом кургане.
В ходе бомбардировки 5 октября ряд русских судов вел огонь по осадным батареям союзников. Так, корабль «Ягудиил» стал у входа в Южную бухту и обстреливал английские позиции. Пароходы «Владимир» и «Крым» вошли в Килен-бухту и обстреливали французские батареи.
Всю ночь с 5 на 6 октября защитники Севастополя, особенно на 3-м бастионе, провели в напряженной работе: отрывали орудия и станки, разбирали поврежденные платформы и настилали новые, насыпали разрушенные брустверы, очищали засыпанные рвы, строили пороховые погребки, подвозили и устанавливали орудия, взамен подбитых ставили орудия большего калибра. К утру 6 октября укрепления оборонительной линии, включая 3-й бастион, к изумлению неприятеля, были восстановлены так, как будто бомбардировки и не было.
Командование союзников было разочаровано в результатах бомбардировки. Канробер писал 6 октября своему военному министру: «Огонь русских батарей сверх ожидания был весьма действителен; крепостная ограда на всем своем протяжении сильно вооружена морской артиллерией огромного калибра; это обстоятельство может замедлить осаду». А Реглан доносил Ньюкестлу: «Войска измучены… Русские располагают огромными средствами для исправления своих батарей и вооружения их, что против ожидания весьма замедляет ход осады, и я положительно не могу сказать, когда дела наши примут более решительный оборот».
Союзники были вынуждены начать длительную осаду Севастополя. Как к осажденным, так и к осаждающим непрерывно шли подкрепления. Но условия доставки подкреплений были слишком разные.
Ехавший налегке в Севастополь знаменитый русский хирург Н.И. Пирогов очень точно характеризовал единственный путь, который связывал этот театр войны с центром страны: «Дорога от Курска, где шоссе прекратилось, невыразимо мерзкая. Грязь по колени, мы ехали не более трёх и даже две версты в час шагом; в темноте не было возможности ехать, не подвергаясь опасности сломать шею… Я дремлю после реброкрушительной прогулки по Бахчисарайскому шоссе… Если станции и дороги между Курском и Харьковом были плохи, то теперь, чем более мы удалились, они сделались чисто непреодолимым препятствием к достижению нашей цели».
Шестьдесят вёрст от Севастополя до Симферополя Пирогов ехал два дня! Пути сообщения были «непреодолимым препятствием» в доставке грузов на театр военных действий. Г.Д. Щербачёв (разработчик пусковых установок для ракет) писал: «…мне предписано было немедленно отправиться с транспортом из 600 боевых ракет в Севастополь… Выехав из Петербурга 3 июля, я прибыл в Симферополь только в конце августа».
Англичане и французы доставляли все грузы по железной дороге в порты, где они перегружались на пароходы и через несколько дней прибывали в Балаклаву и Камышовую бухту. От Камышовой бухты до французских позиций было около 5 км, а от Балаклавской бухты до английских позиций – 10 км. (Автор затратил на путь от центра Севастополя до Балаклавы на общественном транспорте около 1 часа.) Первоначально грузы союзники возили на лошадях и волах, любезно предоставленных татарами, и на турках, которых союзники использовали в основном в качестве тягловой силы и чернорабочих. Позже англичане построили от Балаклавы до своих осадных батарей конную железную дорогу.
Одно состояние коммуникаций, не говоря уж о неравенстве промышленных потенциалов стран союзников и России, предопределили наше неминуемое поражение под Севастополем.
К середине марта 1855 г. на позициях союзников находилось уже 482 осадных орудия, из которых 130 были тяжёлыми мортирами. Им противостояли 998 русских орудий на бастионах Южной стороны Севастополя. Однако из этих орудий лишь 409 были пушками среднего и крупного калибра, 57 – 2- и 5-пудовыми мортирами, а остальные орудия могли использоваться только лишь в качестве противоштурмовых. Залп всей осадной артиллерии союзников составлял 12 тонн. Залп русской контрбатарейной артиллерии был около 9 тонн, то есть на 25 % меньше, чем у противника. При этом также следует учесть, что боекомплект на орудие был неодинаковым: у противника он составлял от 400 до 6000 выстрелов, у русских от 25 до 150.
28 марта союзники начали вторую большую бомбардировку Севастополя, которая шла непрерывно и днём, и ночью в течение 10 суток. За время бомбардировки союзники израсходовали 168 700 снарядов, русские – 88 700. Таким образом, на каждый выстрел русских враг отвечал двумя выстрелами. Особенно сильные разрушения производили мортирные бомбы противника. За день бомбардировки у русских выбывало из строя 500–700 человек. Зато, в отличие от первой бомбардировки, союзный флот уже не решался подходить на пушечный выстрел к севастопольским береговым батареям.
6 апреля обстрел Севастополя уменьшился. Проанализировав результаты бомбардировки, англо-французское командование решило отказаться от штурма и продолжить осаду.
В конце апреля – начале мая союзники получили подкрепление: в Крым прибыло 18 тысяч итальянцев под командованием генерала Альфонсо Ла Мрамора. В войну ввязалось Сардинское королевство. Повода к конфликту с Россией у короля Виктора Эммануила II не было. Правившему от имени короля графу Кавуру уж очень захотелось поучаствовать в мирной конференции и включиться в большую европейскую политику. Кроме того, английское правительство пустило «дезу», что оно готово передать Крым… Сардинскому королевству, и кое-кто в Турине клюнул на эту приманку. Пользы союзникам и вреда русским от опереточного сардинского воинства было мало. Об этом можно судить даже по потерям. До конца войны сардинцы потеряли в бою убитыми и умершими от ран аж целых 28 человек, зато свыше 2 тысяч сардинцев умерло в Крыму от холеры, дизентерии и других заболеваний.
25 мая 1855 г. союзники начали третью бомбардировку Севастополя, продолжавшуюся в течение пяти суток. Затем последовал шестидневный перерыв, и 5 июня началась четвёртая бомбардировка, продолжавшаяся двое суток.
В ходе 4-й бомбардировки огнём артиллерии Камчатский люнет был разрушен до основания, а Волынскому и Селенгинскому редутам были нанесены серьёзные повреждения.
Огнём осадной артиллерии все укрепления передовой позиции были разрушены до основания. Воспользовавшись этим, противник двинул в атаку огромные силы (четыре французские дивизии в первом эшелоне и одна турецкая дивизия в резерве), которым противостояло всего несколько батальонов нашей пехоты.
В жестокой схватке, в ходе которой одни и те же укрепления по несколько раз переходили из рук в руки, союзникам удалось захватить все разрушенные укрепления передовой позиции и выбить оттуда незначительные силы их защитников. Но попытки противника подойти вплотную к Малахову кургану и 2-му бастиону успеха не имели.
Победа досталась союзникам дорогой ценой. Они потеряли 6200 человек. Потери русских войск составили 5500 человек.
В ходе боя за передовые укрепления большую помощь сухопутной артиллерии оказала артиллерия флота. Корабли флота «Владимир», «Крым», «Херсонес», выдвинувшись в Килен-бухту, огнём своей артиллерии нанесли большие потери резервам противника, которые находились в Килен-балке.
На рассвете 5 июня 1855 г. началась новая бомбардировка Севастополя. Наиболее сильный огонь обрушился на укрепления Корабельной стороны и левый фас 4-го бастиона. Также интенсивно с новых французских батарей обстреливались русские корабли на рейде и батареи Северной стороны Севастополя. Скоро передние фасы Малахова кургана и 2-го бастиона получили серьёзные повреждения. Также пострадали куртина и 3-й бастион, половина амбразур была завалена, к вечеру неприятели подбили 16 наших орудий, 17 станков, 71 платформу. За день бомбардировки у нас было 1600 раненых. Всю ночь не прекращался неприятельский мортирный огонь, на Малахов курган и 2-й бастион сыпались бомбы.
На следующий день союзники начали общий штурм Южной стороны. В атаку пошли французские дивизии генералов д′Отмара и Брюне, а на 3-й бастион и Пересыть двинулись английские войска. Впереди штурмующих цепей бежали команды со штурмовыми лестницами, позади двигались сильные колонны. Но неожиданно войска д′Отмара были встречены со 2-го бастиона, куртины и Малахова кургана столь сильным ружейным и картечным огнём, что строй их сразу же расстроился, и солдаты спешно укрылись в каменоломнях. Но вскоре командирам удалось навести порядок в своих частях, и французские батальоны вновь устремились на правый фас 2-го бастиона и на куртину. Несмотря на сильный огонь обороняющихся, неприятелю удалось спуститься в ров, и часть вражеских солдат уже стала подниматься на бруствер куртины, но здесь они нарвались на штыки батальона Суздальского полка. Побросав лестницы, французы в панике побежали и снова укрылись в каменоломнях. Колонна, атаковавшая 2-й бастион, также, не выдержав огня обороняющихся, отступила в Килен-балку. Французы предприняли ещё две попытки штурма 2-го бастиона и куртины, но оба раза были отбиты ружейным и артиллерийским огнём обороны. На случай же рукопашной Хрулев уже подвел резервы ко 2-му бастиону и за куртину.
Две колонны дивизии Брюне бросились на Малахов курган и батарею Жерве. Но сильным ружейным и картечным огнём колонна, атаковавшая Малахов курган, была отброшена и обращена в бегство. Вскоре эта колонна предприняла вторую попытку штурма, но снова была отброшена. Две тысячи солдат бригады Ниоля, несмотря на сильный огонь обороны, ворвались на почти не имевшую рва батарею Жерве, подавили сопротивление батальона (300 человек) Полтавского полка, но были остановлены огнём правого фаса Малахова кургана и шести полевых орудий, установленных за ретраншементом. Но около двух батальонов неприятельских солдат на плечах отступавших полтавцев ворвались в поселок на скате Малахова кургана и засели в домиках. Хрулев приказал 5-й роте Севского полка под командой штабс-капитана Островского выбить оттуда неприятеля. Наши солдаты бросились к домикам, из которых французы открыли сильный огонь. Собравшиеся остатки Полтавского батальона устремились за севцами. Начался жестокий рукопашный бой, в котором русские солдаты показали не только свое мужество, но и способность действовать самостоятельно в рассыпном строю. Французы отчаянно сопротивлялись. Каждый домик приходилось брать приступом. Русские солдаты влезали на крыши, разбирали их и бросали камни на головы засевших в домиках французов, врывались в двери и окна и штыками выбивали оттуда неприятеля. Из 138 солдат 5-й роты Севского полка в живых осталось только 33 человека, но русские солдаты выполнили приказ и очистили от французов весь поселок, захватили в плен 9 офицеров и около сотни солдат. Тем временем подоспело подкрепление – шесть рот Якутского полка, которые и довершили разгром неприятельских отрядов. Брюне, также получив подкрепление, ещё три раза пытался занять батарею Жерве, но все три раза французы были отбиты картечным и ружейным огнём.











