Читать онлайн Сталинград: дорога в никуда
- Автор: Анатолий Матвеев
- Жанр: Книги о войне
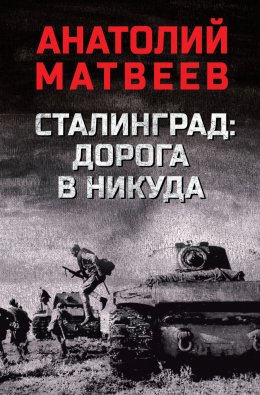
Анатолий Матвеев
(1957)
© Матвеев А.А., 2024
© ООО «Издательство «Вече», оформление, 2024
Часть I
Беженцы
Беженцы, всполошенные и подхваченные войной, ехали на подводах, нагруженных перинами, подушками, шубами, зеркалами, железными корытами и давно не чищеными самоварами, другие тащили за собой тележки с мешками, перетянутыми крест-накрест верёвками, шли с корзинами, фанерными чемоданами, обвязанными толстым шпагатом, и с узлами за спиной.
С края людского потока, подгоняемые хворостинами и уговорами хозяев, шли коровы. За ними плелись, высунув языки, исхудавшие собаки.
Навстречу одна за одной, поблескивая примкнутыми штыками, двигались колонны туда, откуда к небу тянулись лохматые, изогнутые дымы горящих деревень.
Там что-то непрерывно грохотало.
А ночью к приглушённому грохоту добавлялись вспышки и отблески пожаров.
Обгоняя беженцев, торопливо проносились повозки с ранеными. Колонна сползала в сторону, уступая им дорогу.
Проводив раненых взглядом, все поднимали головы к небу и не останавливаясь крестились, произнося вслух:
– Господи, помилуй.
Пыль, пыль висела над дорогой. Пыль проникала всюду. Пыль скрипела на зубах. Хотелось пить. Но колодцы, вычерпанные до земли, не могли напоить всех жаждущих.
– Волга всех напоит, – повторялось всякий раз у пустых колодцев.
– Волга, Волга, Волга, – передавалось из уст в уста.
Все спешили. Там, за Волгой, войны не будет, туда немца не пустят. Иначе пропадёт Россия, сгинет, растворится, рассыплется.
Вдали показались дымящие трубы заводов.
– Сталинград, Сталинград! – пронеслось по колонне. Эта новость оживила всех, вдохнула новые силы и ускорила движение. В душе каждого теплившаяся надежда ожила.
Вид труб успокоил беженцев. Они, истосковавшиеся по мирным спокойным картинкам, как завороженные смотрели на приближающийся с каждым шагом Сталинград.
А город жил, казалось, своей привычной жизнью. Трамваи, позвякивая на стрелках, сновали туда и сюда. Пешком ли, на велосипеде – все спешили: кто на работу, кто в магазин, кто на рынок, куда с раннего утра тянулись подводы с полосатыми зелёными арбузами, желтоватыми дынями, яблоками всех сортов и полными с верхом корзинами с огурцами.
И над всем витал запах воблы, свежей рогожи и волжской воды. Запах этот особый, он щекотал ноздри, пьянил, разливаясь повсюду, и манил к себе.
Но все мирные картинки не могли спрятать напряжённости, нависшей над городом.
Окна в домах заклеены крест-накрест бумажными лентами; знакомые при встрече не останавливались посудачить, а, едва кивнув, торопились по своим делам.
Висевшие на столбах, как чёрные цветки, репродукторы сообщали нерадостные вести. Наши войска отступали.
И вдруг в город хлынули потоки беженцев. Народа на улицах вдруг стало, что на первомайской демонстрации.
Шли молча друг за другом, с пыльными лицами, измученные страхом и переживаниями, повторяя как молитву: «За Волгу, за Волгу…»
Измождённые люди заполнили широкие улицы, маленькие переулки, останавливались, недолго отдыхали после длинного пути в тени деревьев и спешили на берег.
Никогда Сталинград не видел столько пришлых людей, которым уже все совершенно безразлично, всё было потеряно и разбито, в глазах – застывшие слёзы, а в душе – скорбь и боль.
Всё перепуталось в голове. Что ждало впереди – никто не знал. Скорее на переправы, к Волге. Там, на другом берегу, можно отдышаться и успокоиться.
Город встретил их настороженно.
Сталинградцы пристально вглядывались в проходящих, словно искали родных или знакомых.
А истосковавшиеся по вольному питью беженцы толпились у работавших без остановки колонок; лошади вытягивали шеи и шевелили ушами, слыша приятный звук льющейся воды.
Все растекалось по ведрам, бидонам, кружкам, стаканам. Ни одна драгоценная капля не падала на землю.
Торопливо, судорожно, большими глотками утоляли жажду и шли дальше, не видя и не слыша ничего.
Трамваи вздрагивали, трезвоня и замирая перед неожиданно возникшей подводой.
Водитель, высунувшись в окно, на чём свет стоит ругал зазевавшегося возницу. Но ругал скорее по довоенной привычке и не было в его словах озлобленности.
Пассажиры, качнувшись в неожиданно остановившемся трамвае, с полным безразличием ждали возобновления движения.
А люди всё шли и шли. Весь день, весь вечер и всю ночь. И, казалось, не будет им конца.
У кого уже не было сил идти, просились на ночлег. Все дворы и сараи были заняты тревожно спящими людьми.
У кого еще оставались силы, шли ночью. Ночью самолеты не летают.
Это днём, скуки ради, немецкий летчик со злобной радостью проходит по гражданской колонне пулеметной очередью.
Вчера, да, вчера, такое случилось. Самолёт появился неожиданно.
– Воздух, – прокричал первый увидевший.
Все бросились врассыпную. Уставшую мать очумевшие от испуга люди оттолкнули от ее чада.
И пока она поднималась и искала глазами своё, единственное, ребенок, одиноко стоящий среди дороги и не знающий, что возникшие ниоткуда фонтанчики пыли несут смерть, как завороженный смотрит на них.
Мать закрывает глаза ладонями, чтоб не видеть этого.
Он не вскрикнув падает. Черная тень самолета пробегает по дороге, по нему. Белая заношенная рубашонка алеет красным пятном.
Крик матери разносится над дорогой, над людьми. Она бросается к нему, поднимает, держит на руках, гладит и нежно зовёт:
– Петечка, Петунчик, птенчик мой.
Она не может верить, что его нет.
Какие-то люди забирают Петечку. Она тянет к нему руки. Её удерживают. Она не сопротивляется.
Свежий холмик вырастает близ дороги. А рядом сидит обезумевшая от горя мать и с безразличием смотрит на проходящих. Ей уже некуда спешить. Всё самое дорогое лежит рядом, под глинистой землёй.
Люди, опустив глаза, проходят мимо. Уже нет сил внимать бесконечному горю. Но это было вчера, а сегодня об этом никто и не помнил.
Через город текла и текла бесконечная людская река. И горожане, глядя на колышущийся поток, со страхом думали о своей судьбе. Неужели и им придется, сорвавшись с насиженного места, брести неведомо куда.
А беженцы всё шли и шли.
По длинным деревянным мосткам спускались к переправе люди, по пологим улицам пробирались к реке подводы и скрипучие тележки.
Паромы давно работали без расписания. Моряки изо дня в день смотрели на людской поток, и от усталости не было сил не то что улыбаться, а и посочувствовать.
Переполненные суда, оглушив пассажиров ревуном, отчаливали.
И пока паром, шлепая по легким волнам, катился от одного берега к другому, беженцы с тоской смотрели на удаляющийся Сталинград, на набережную.
Оказавшись на другой стороне Волги, с облегчением вздыхали, крестились и шли дальше в поисках пристанища. Все страхи и тревоги остались позади, за Волгой.
И вот теперь они вдруг осознали, что им некуда идти. И, кроме родного дома, у них нет уголка, где бы могло успокоиться сердце. Но ещё по инерции продолжали идти, не зная куда и не зная зачем.
Война шла уже второй год. Город был глубоко в тылу. И разговоры о войне были какими-то второстепенными.
Но беженцы, не только нарушили эту успокоенность, не только всколыхнули всех, а вдруг заставили осознать, что война рядом и вот-вот придёт к ним.
Не хотелось этому верить. Но потоки беженцев текли и текли через город. Казалось, вся страна поднялась и пошла на восток.
Город стал другим. Город ждал прихода войны. То, что было в разговорах, в радиосводках, в газетных статьях, послезавтра или завтра станет горькой реальностью. Все это понимали, но никто не хотел верить.
Газеты писали о другом, и не было в них слов ни «Волга», ни «Сталинград».
Война только катилась к городу. Война была далеко. Но выбрав однажды направление, она не может остановиться, а будет, всё пожирая на своём пути, то ускоряясь, то замедляясь, двигаться к намеченной цели. И только достигнув её, успокоится в ожидании другого направления.
Митяй
Отец вернулся с работы поздно. В этом не было ничего удивительного. Последнее время он часто задерживался. И на то были причины. Их Сталинградскому тракторному заводу вручено переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны за перевыполнение программы выпуска танков для фронта.
А отец там не последний человек. Он мастер. Он и делает танки. И Митьку распирала гордость всякий раз, когда они шли вместе по улице. Ему хотелось сказать каждому встречному:
– Это мой отец делает танки для Красной армии. Это мой отец…
Теперь такие прогулки случалось редко. Война требовала всё больше танков. И отцу приходилось работать допоздна. Митька это понимал и не приставал, когда отец уставший приходил с работы, ложился на диван и незаметно для себя засыпал.
Но сегодня, когда отец вошел в дом, под мышкой у него было что-то упакованное в новую обёрточную бумагу и перевязанное магазинным шпагатом. Он прошел по комнате, положил пакет на стол и что-то шепнул матери на ушко.
Митяй не расслышал, посмотрел на пакет, на отца, на мать и опять на пакет. И никак не мог угадать, что же такое отец купил.
Вытянув голову к пакету, он подумал, что всё, что родители покупали, они, прежде всего, обсуждали, а потом вместе шли в магазин. А тут неизвестно что.
Они посмотрели на него, посмотрели друг на друга и улыбнулись. В пакете скрывалась какая-то тайна. Но какая?
Правда, последнее время родители говорили про сестричку. Может в пакете отец принёс её.
Митяй как завороженный смотрел на свёрток, а мать с отцом улыбались.
Наконец отец потянул за кончик шпагата. Завязанный бантиком узел разошелся, отец сначала смотал шпагат и передал его матери, а только после этого стал разворачивать бумагу.
Едва показались голенища, как Митяй глубоко задышал, вскинув руки вверх, закричал:
– Ура!
И забегал подпрыгивая по комнате вокруг стола.
Это были настоящие солдатские сапоги. У Митяя от счастья зашлось сердце. Он осторожно, как хрупкую драгоценность, взял сапоги и прижал к груди, с минуту стоял недвижим, всё ещё не веря своему счастью. И словно очнувшись, держа в одной руке подарок, бросился обнимать отца.
Тут же на босу ногу надел и стал ходить по комнате, не отрывая взгляда от обновки. Сапоги, купленные на вырост, были велики и слегка поскрипывали, как настоящие солдатские.
Митяй был на седьмом небе от счастья. Отец, сидя за столом, просматривал газету.
Мать внесла дымящуюся кастрюлю, и марширование вокруг стола пришлось прекратить. Отец отложил газету и посмотрел в окно. Новости с фронта не радовали.
После ужина надо ложиться спать. Митя хотел лечь спать в сапогах, на мать строго сказала:
– Митя.
Отец ничего не сказал. Промолчал и улыбнулся.
Теперь Мите придётся ждать до утра. Он, свесив голову, смотрел на стоящие рядом с кроватью сапоги. Запах кожи приятно щекотал ноздри. С тем и заснул.
Утром отец собирался на работу, Митя быстро надел сапоги и полусонный прижался к нему. Отец погладил его по голове. И сказав:
– Всё, пора, – вышел из дома.
Мать вышла за ним.
Митя побродил по комнате, взглянул на зеркало, стоявшее на комоде, подтащил стул, взобрался на него. Но даже так сапоги не было видно.
Можно залезть на стол. Но за такие шутки от матери наверняка влетит, ещё и отцу расскажет. А он шутить не любит. Всыплет так, что три дня задница краснеть будет.
Вчера Митя строил планы, но сапоги переломали их. С утра хотел сбегать в госпиталь, посмотреть, как привозят раненых, потом на Волгу, где суетливые буксиры таскали баржи.
Можно искупаться, но купаться запрещено. И если мать узнает, то взбучки не миновать.
Зато после обеда хотел пошнырять по рынку. Поглазеть, как другие покупают арбузы, тыквы, дыни.
С тех пор как город всё больше и больше наполнялся беженцами и военными, рынок разросся. И хотя бои шли далеко, слово «война» звучало в каждом разговоре.
Он хотел уйти на улицу в сапогах, но мать не разрешила. Пришлось надевать сандалии.
Он стал доказывать матери, что сандалии вот-вот развалятся, он даже не дойдёт в них до двери, как они рухнут. Так и сказал:
– Они рухнут.
Мать стояла на своём. Митя хотел пойти на улицу и выкинуть их в Волгу, а домой вернуться босиком, сказав, что сандалии украли.
Но отец шутить не любит. И может заставить весь оставшийся август ходить босиком. А если и сентябрь будет тёплым, то и сентябрь.
Поэтому решил потерпеть до сентября. А уж в сентябре непременно щеголять в новых сапогах. С тем и вышел во двор.
Пробегавший мимо соседский Сашка, Митькин погодок, был остановлен Митькой. Сашка торопился. Но Митька, держа его за рукав рубахи, сказал, глядя в глаза:
– А у меня сапоги настоящие, солдатские!
Но на Сашку эта новость не произвела впечатления, а если и произвела, то он не высказал ничего по этому поводу. А вместо этого что-то вытащил из кармана и выкинул руку в сторону Митькиного лица и сказал с особой гордостью:
– Вот.
На ладони у Сашки лежала офицерская пряжка со звездой. Митя от удивления чуть язык не проглотил и, слегка опомнившись, спросил:
– Где взял?
– Где, где, там уже нет.
Митя взял пряжку в руки. Она основательно лежала в руке.
– Здорово, – восхитился Митя.
– Почище твоих сапог, – подхватил Сашка, забирая пряжку и пряча её в карман.
Сашка у матери один. Отец погиб в финскую. Она работает уборщицей на консервном заводе. А Сашка живёт вольной жизнью.
Правда, при одном условии: когда мать возвращается, он должен быть дома. И беда будет, если этого не случится. Ремень в её руке хлещет неслабо. Но, впрочем, хлещет она не со зла, а для воспитания. Сашка это понимает, и обида на мать у него быстро проходит.
Сейчас Сашка торопится. И похлопывая себя по карману, чтоб убедиться, что пряжка на месте, сказал, глядя на Митьку свысока:
– Пошли со мной.
– Куда? – поинтересовался Митька.
– Немца смотреть.
– Живого?
– Настоящего.
Митька хотел отпроситься у матери, но Сашка ждать не станет. А одному искать немца в большом городе невозможно.
Это Сашка знает, где, что лежит ничьё и как это ничьё взять, где, что происходит и оказывается там первым. Вот и сейчас в Митьке возникло непреодолимое желание увидеть немца.
И если поторопиться и бежать бегом, то можно увидеть не только немца, но и вернуться домой так, что мама не успеет заметить.
Поэтому он поменял планы и помчался за Сашкой. От быстрого бега задохнулись оба и остановились. Но сосед, вытянув руку, крикнул:
– Смотри, немец.
Митя смотрел и не видел немца. Он подумал, что Сашка шутит. Но на всякий случай спросил:
– Где, где?
– Да вот же.
Митя посмотрел, куда указывал сосед. Но увидел двух солдат: одного с винтовкой в руках, другой даже без ремня и небритый.
– Где? – ещё раз спросил Митька.
– Ну, небритый же…
Митя удивился. Фашист должен иметь облик зверя или коричневой чумы, как на плакатах или карикатурах в газетах. А тут обычный человек.
И Митя смотрел и никак не мог понять, почему немцы воевали с ними. Что им Митя плохого сделал, или отец, или мать. Что им надо от них?
Домой вернулся быстро, мать не заметила. Сашка куда-то исчез. Есть у него такая нехорошая черта. Помолчит, оглянешься, а его и след простыл. Поэтому дружба у них и не клеилась.
Митина мама жалеет Сашку. Поэтому часто зазывает обедать. Он не отказывается. Ему можно, он же сосед.
В благодарность Сашка иногда притаскивает дыню или арбуз. Где он берёт, никто не знает, да и Митькина мама не спрашивает.
И сегодня к обеду Сашка оказался у них дома.
И пока они ели, мама сказала:
– Сходите за сахаром.
Сашке такая новость не в радость, стоять на одном месте час или два он не мог. У него шило в одном месте, так про него все говорят.
Но взяв по чистой наволочке под сахар, бумажный кулёк может запросто порваться, Сашка пошел с Митькой в центр. Там стоит киоск, где по талонам дают сахар.
В степи
Передовая дышала, и от этого пыль, не оседая, висела над ней. Поднималась ли она тысячами сапог, разорвавшимся ли снарядом, или колонной танков, или грузовиков.
Пыль… Пыль… Она напоминала об оторванности от дома и нагоняла тоску. Бездомность угнетала.
Раньше бы любой радовался бесконечной смене пейзажей и новым впечатлениям, но теперь, теперь хотелось успокоенности и домашнего тепла. Да где этого дождёшься. Война. Война кругом. Всех всколыхнула.
Иван Зайцев с силой вонзал лопату в задонскую землю, за лето высохшую и потому окаменелую. Там, под коркой, она влажная и копать будет легко. А пока долбишь её, долбишь, рук не чуешь. И всё так медленно. И бросить бы к чёрту…
И вдруг лопата, почувствовав влагу, скользит в глубину, и работа идёт споро.
Влажная, выброшенная наверх глина блестит на солнце, как снег. И не заметить её немецкие самолёты не могут. А значит, на окопы посыплются бомбы. И хоть вою и шуму от них больше, чем потерь, но после бомбёжки чувствуешь себя, как побитым.
Иван, добравшись до сырой земли, снял на три штыка и сказал сам себе:
– Баста, перекур.
Воткнул лопату в середину окопа, вытер пилоткой пот со лба, достал кисет. Долго слюнявил пересохшими губами газетную бумагу, свернув козью ножку, присел на корточки в недостроенном окопе и затянулся. Сладковатый дым пробирал до сердца.
Откуда-то сверху донёсся тонкий, как писк комара, звук. Через минуту он усилился, а через мгновение по небу медленно поползли тяжёлые бомбовозы.
Иван, как и все остальные, выглянув из окопа, прикинул, куда они: на город или по их души.
Самолёты разделились. Большая часть направилась на город, а немножко осталось над ними. Немецкие лётчики спешили, наверное, на обед, а потому бомбили не очень прицельно.
Слава богу, у них, кроме шума, ничего не вышло. Все остались живы. Иван посмотрел на степь, на удаляющиеся бомбовозы и сказал им вслед:
– Ровнее надо было. А то нарыли воронок, как бык нассал.
И погрозив пальцем удалявшимся самолётам, прокричал им вслед:
– Вот пожалуюсь вашему фюреру, он вас научит правильно бомбить! Сукины дети…
В его словах была доля правды. Если бы воронки от бомб оказались на одной линии, то их можно было бы использовать под окопы. И копать пришлось бы гораздо меньше.
Но немцы видно не слышали его слова. Поплевав на ладони, Иван продолжил работу. Через пару часов соединились с соседом справа, а ещё через полчаса с Семёном. Копать, если честно, никому не охота. Но жизнь, а точнее война, шуток не понимает. В мелком окопе ни от самолёта, ни от танка не укроешься. А потому копали на совесть.
Иван, присев на корточки рядом с соседями перекурить в очередной раз, и кивая на вырытый окоп, и похлопывая ладонью по стенкам, шутил:
– Как отцу родному сделал. Всё на совесть. Сто лет простоит, не оплывёт, не рассыплется.
Сладкий дымок потянулся по окопу. А Иван продолжал:
– Вот роешь, роешь. Спина не разгибается, а всё роешь. Только обустроился, только собрался пожить. Нет. Собирай манатки и дуй в другое место. И снова-здорово. Сколько я за этот год земли перевернул, страшно сказать. На всю жизнь накопался, думал, на войне легко будет: пострелял, каши поел – и лежи, отдыхай. Ан нет. Тут только и узнаешь, почём фунт лиха.
Все понимали, что пока Иван не выговорится, не успокоится:
– Вот дома какое-никакое дело сделаешь, а стоишь и любуешься. А тут вроде и дело нужное – окопы, а сердце не радуется. Почему так?
Никто не ответил, да и слушали Ивана вполуха, а он гнул своё:
– Потому что делаем не для жизни, а для войны. А для неё, как не делай, всё плохо, потому что в войне ничего хорошего нет.
И все понимали. Что это усталость не даёт покоя Ивану.
Всем, как и ему, хотелось залечь, а утром поесть каши и покуривая поглядывать в сторону запада, ожидая немецкого наступления.
Хорошо бы перед сном не то чтобы помыться хотя бы до пояса, а хоть бы умыться. Да разве это случится? Здесь в голой степи вода – редкость. Лишний глоток не сделаешь, не подумав, будет завтра вода или нет.
А потому, завернувшись в шинель и сунув под голову сидор, решил поваляться с закрытыми глазами.
Лейтенант, осматривая произведённую работу, наткнулся на лежащего Ивана. Работа была сделана чисто, без изъянов, придраться не к чему, не окоп, а загляденье. Хоть комиссию из Москвы вызывай.
Но лежащий Иван нарушал единообразие, ни одна офицерская душа не могла нормально существовать при виде такого. В их офицерском разумении солдат должен быть постоянно занят: копать, чистить оружие и опять копать, поэтому лейтенант язвительно спросил:
– Отдыхаем?
Иван, не открывая глаз и не желая вступать в бесполезные споры, думая, что это кто-то из их взвода шляется без дела туда-сюда, сказал не вставая:
– Бодрствуем.
И ничто не могло заставить его подняться: ни дальний грохот батарей, ни гул самолётов. Но стоит крикнуть: «Немцы!» – и расслабленности ни в одном глазу.
Но полдня нежданно прошли тихо, и только беготня лейтенанта нарушила эту умиротворенность. И его же нервный крик: «Встать, смирно!» – вывел Ивана из себя. Он открыл глаза и понял – надо вставать. Нехотя поднялся, отряхнулся, посмотрел на небо, на голую степь – не на ту, с буйством донника, а на полынную, ржавую – август как-никак. И подойдя строевым шагом к стоявшему подбоченясь лейтенанту, доложил:
– Рядовой Зайцев отрытие окопа закончил. Жду дальнейших приказаний.
Лейтенант уже хотел приказать, что копаем отсюда и до заката. Но нежданно притащили еду. И он переменил своё решение дать какое-нибудь задание Ивану, а сосредоточился на предстоящем обеде.
Перловая каша с тушёнкой, большая редкость, порадовала немного отдохнувшего Ивана. Тут главное – быстрей съесть, а то ветер налетит, поднимет пылищу и скрипи на зубах песком.
Погуляв по окопу туда-сюда, раз лежать не полагалось, Иван Зайцев подумал, хорошо бы блиндажик соорудить, да где лесу-то найти. Тут на сто вёрст путного куста не найдёшь, а про дерево говорить не приходится. Крыша над головой была бы кстати. И посетовав на невыполнимость задуманного, Иван, чтоб больше не раздражать непосредственное взводное начальство, пристроился на приступочке чистить ружьё. И при этом он изредка приподнимался и посматривал в сторону немцев.
Те вели себя тихо. Но тишина на фронте обманчива. Раз самолёты бомбили, значит, немцы про них всё знают и до обеда точно ударят. Но прошел обед, а немцы молчали.
– Небось им снаряды не подвезли, – подумал Иван и уже собирался скрутить самокруточку, услышал, как вдалеке ухнуло. И тут же снаряд, обозначив свой прилёт свистом, шлёпнулся за окопом. Иван присел и не раздумывая натянул себе на голову каску.
Взводный зачем-то пробежал туда-сюда. Ивану это не понравилось, он в сердцах выругался и сказал с усмешкой вслед:
– Понос, что ли, прохватил?
А про себя подумал: «Одно беспокойство, а не лейтенант».
Он бы и дальше стал развивать эту мысль, но за этим снарядом прилетел другой, третий. И сколько их было, поди сосчитай.
А немец всё сыпал и сыпал. Но выкурить окопавшуюся пехоту артиллерией невозможно. Поэтому с юга стали наползать танки, а за ними, как утята за уткой, шли немцы.
До них было далеко. И большое расстояние, и их медленное движение не вызвало особого беспокойства и у Ивана, и у всех остальных. И наблюдатель доложил:
– Появились танки.
Как будто и без него этого не было видно. Видно, не видно, но гранаты, лежавшие внизу, в нишах, переместились наверх окопа, ожидая своего часа.
Артиллерия молчала, и у Ивана даже мелькнула беспокойная мысль об артиллеристах: «Неужели всех накрыло?»
Но нет, среди негромких хлопков послышалось тяжёлое уханье, и первый танк вздрогнул. Качнулся вперёд, назад и замер.
Языки пламени стали выползать из него. И вдруг башня подпрыгнула и, опрокинувшись, упала рядом с искалеченным танком. Другой танк завертелся юлой и, повертевшись, затих.
Танкисты выскочили тянуть перебитую гусеницу. Но неподвижный танк обречён. Снаряд вошел в него, как нож в масло. И угловатая железная машина, как живое существо, вздрогнула и умерла.
Танкисты, ожидая, что взорвётся боезапас, распластались на земле. Но танк остался стоять, как стоял. И третий танк окутался чёрным дымом. Иван стрелял, и немцы, бежавшие за танками, взмахивая руками, падали.
И все с какой-то злостью и остервенением стреляли, и «максимы» выводили свою мелодию. Но немцы всё шли и шли.
А Иван всё стрелял и стрелял. И степь с убитыми немцами доставила ему удовольствие. Много, много их в разных недвижимых позах радовали глаз. Он даже с какой-то злобной радостью подумал:
– Гитлеру бы посмотреть на своих вояк.
Потери протрезвили немцев. И они отступили.
Иван понял, что немцы далеко, стрелять бесполезно, успокоился и с сожалением сказал Семёну:
– Эх, мало мы их побили.
Гришке, стоявшему с другой стороны, ничего не сказал. Ему сколько ни говори, не разговоришь. Живёт так, словно язык проглотил.
И Семён, обычно говорливый, молчал. Вроде ничего не делали, так, постреляли немного, а устали, как от тяжёлой работы. Завалиться бы и заснуть. Но день ещё не кончился, а значит, и их работа. Долго ждать не пришлось.
Прилетели самолёты. Окопы их не интересовали. Им дан приказ уничтожить пушки, и они все бомбы высыпали на позиции артиллеристов.
Казалось, не должно там остаться не то что орудий, а вообще ничего живого. Так думали немецкие лётчики, так думали немецкие танкисты. Но и те, и другие ошибались.
Первый танк остолбенел от неожиданно полученного снаряда. И фашисты не выскочили, как обычно, потому что сидеть в подбитом танке только самоубийцы могут. Если первый снаряд не забрал экипаж на тот свет, то второй уже точно заберёт. Подбитый танк протрезвил наступавших немцев.
Танки остановились и пятясь уползли. Прилетели самолеты, и все повторилось.
Но, видно, выдохлись немецкие вояки, или их генерал решил, что на сегодня хватит. А потому немцы затихли.
Понимая, что до утра беспокойства не будет, Иван стал готовиться ко сну. Прежде всего, заткнул дульное отверстие тряпкой, а затвор бережно обернул портянкой. За ночь ветер песком всю «мосинку» засыплет, заклинит сразу. После этого расстелил шинель, бросил в голову сидор[1]. Лёг и сразу заснул. В армии как: спи, пока дают.
Завтра немцы себя покажут. Из глубины силы подтянут, генералы внушение всем сделают, а те пойдут наступать. А сегодняшнее наступление – это проба сил. Хотели, как говорится, на дурачка проскочить, но не вышло. Значит, утром всё и решится, кто кого.
Надо немцам четвёртой армией с юга, а шестой с севера окружить две советские армии, отрезать их от Волги, стать на берегу и этим закончить войну. Так думают многие, начиная с тех, кто сидит в Берлине, и кончая теми, что стоят сейчас против дивизии Ивана.
Но так ли это будет, не знает никто. Завтра решится всё.
С утра небо затянуло, вот-вот должен пролиться дождь. И тучи большой кучей наползали с запада к Волге, и что-то даже где-то громыхнуло, но был ли это гром или случайный выстрел, никто не разобрал.
А Ивану представился дождь. И он пошел. И вот уже глина, смешанная с водой, чавкает под ногами. И плащ-палатка не спасает, вода, как говорится, дырочку найдёт. Намокшая шинель стала тяжелей каменной. Хорошо, под сидор выкопал полочку, хоть там ничего не намокнет.
Не подумали, теперь придётся под дождём копать водоотвод, чтобы вода не стояла на дне окопа лужей. Закончив это нехитрое дело, Иван вдруг решил:
– Пока дождь, дай хоть умоюсь.
И, недолго думая, скинул с себя всю одежду и спрятал под плащ-палатку. Достал из сидора обрывок шинели и обмылок, намылил эту импровизированную мочалку и стал тереть истосковавшееся по воде тело. Проделав это несколько раз, дождался, пока хлёсткие капли смоют остатки мыла. Долго тряс нижней рубахой и кальсонами, чтобы расплодившимся вшам служба мёдом не казалась.
Почувствовав свежесть, торопливо вытерся сухими, еще ни разу не надеванными портянками и быстро оделся. Сначала стало нестерпимо холодно, но, двигаясь всем телом и переступая с ноги на ногу, постепенно согрелся. И в то время, пока вши ещё не очнулись от встряски и не набросились на него, Иван испытал блаженство.
Все посмотрели на него с завистью, но никто не решился повторить проделанное им.
В дождь немцы наступать не стали. Авиация не летает. Вот так и сидели друг против друга двое суток и ждали погоды.
Но не нравилось Ивану это затишье. Пока немцы стреляют, боеприпасы расходуются каждый день. А если день или два стоят без дела, то снарядов скапливается столько, что их хоть прячь. Вот и будут сыпать на голову Ивана и других без сожаления.
Он подумал, что немцы с самого утра по хорошей погоде заведут свою музыку. И не ошибся: по самому переднему краю грохотали миномёты, глубже переворачивали землю орудия. И совсем в глубине, срываясь сверху, падали бомбы. Пока так грохочет, сиди спокойно в окопе да покуривай. Только затихло, не зевай, смотри в оба.
И правда, немцы, слегка пригибаясь, спешили за танками. А их было много: и танков, и немцев. И новые все наползали и наползали, как осы из разворошенного гнезда.
Артиллерия молчала. Это-то и беспокоило Ивана. Не сбегаешь, не посмотришь. Стой, жди, и чем ближе оказывались немецкие танки, тем больше росла тревога у Ивана. Ну, как не выдержат наши и побегут. Тогда, считай, всё пропало. Перестреляют, как зайцев. И уже многие поглядывают назад.
Танки ползли, а пушки молчали. Неторопливо застрочил «максим», за ним другой. И немецкая пехота залегла. А танки уже наползали на передний край. Три выстрела, слившись в один, перекрыли все другие звуки. И три немецких танка замерли и зачадили. И ещё один, и ещё.
Там, где стояли батареи, словно деревья, выросли взрывы. Все немецкие орудия нацелились туда.
Не будет пушек, проедут немцы по их окопам, как по бульвару, и помчатся в сторону Сталинграда, как к себе домой.
Молчат пушки. Лежат вокруг убитые артиллеристы. Ещё чуть-чуть, и прикатят немецкие танки к их окопу, а следом пехота припылит.
И не хватит им, оборонявшимся, не то чтобы сил, а и бойцов. Где набрать столько людей?! Немцы вон какими густыми цепями набегают на них.
– Всё, пропали, – подумал Иван, трогая гранаты.
Но ни один мускул не дрогнул на его лице, и это его внешнее спокойствие передалось остальным. И пересилив себя, Иван с ненавистью смотрел на танки, как на живые существа, от которых только вред. И не кому-нибудь, а всем, и ему в том числе. Потому их надо уничтожить.
Тут за соседа не спрячешься, не отнекаешься, кивая на других. Гранаты и бутылки есть, но ведь надо кинуть так, чтобы они попали.
И один немецкий танк, оторвавшись от других, по всем прикидкам, должен был оказаться перед вторым взводом, но вдруг повернул и направился в их сторону.
Сердце у Ивана ушло в пятки. Он уже не сомневался, что это смерть его ползёт. Похолодел и замер, ожидая неизбежного. Но в последнее мгновение, когда до танка осталось всего ничего, машинально схватил первую из лежащих перед собой гранат, метнул аккурат под правую гусеницу и упал на дно окопа, где так же, как и он, ожидая неизбежного, давно лежал весь взвод. Прогремел взрыв.
Иван не увидел, как танк на секунду замер и закрутился на одном месте. Ероша землю лишёнными гусеницы катками, остановился, прекратив нарезать круги, как бы раздумывая, что делать дальше.
Оставаться в танке гансам не с руки. Вот они и решили потихоньку выбраться.
Но уже подавившие свой испуг и Иван, и Семён, и все остальные, поднявшись с земли, ждали их. Так что шансов выжить немецким танкистам было немного. Тут же у своего танка и успокоились навсегда.
– Отвоевались, – подумал Иван, глядя на распластавшихся вокруг танка, немцев, и по привычке передёрнул затвор, досылая патрон. Но стрелять было не в кого, танкисты не шевелились.
И ненависть, которая сидела в нём минуту назад, прошла. И ему стало жаль лежащих перед ним немцев. Ведь и у них есть и матери, и жёны, и дети. Это им предстоит хлебнуть из горькой чаши потерь.
И кто-то из взвода то ли со злобы, то ли от неушедшего страха метнул в танк бутылку с зажигательной смесью. И тот сначала загорелся, а потом зачадил.
Иван, любовавшийся своим танком, который стоял, как памятник, стал материться на дурака, потому что ветер гнал на них дым, который острыми иглами вонзался в пересохшее горло.
Но расслабляться было некогда, гансы поредевшими цепями набегали на них. Вот-вот придётся схлестнуться в рукопашной. И каждый, уже преодолев свой страх, приготовился к этому.
Вдруг над головой Ивана в сторону немцев с улюлюканьем, оставляя дымные хвосты, полетели мины. И там, где только что были танки и пехота, всколыхнулась земля. И все смешалось, и всё горело, и нельзя было различить, где взрыв, а где облако пыли.
Грохот стоял такой, словно тысячи чертей вылезли из преисподней и застучали по земле своими огромными железными молотками.
Всё стихло. Воздух наполнился тишиной. Запах горелой плоти растекался по степи и нестерпимо першил в горле, к нему примешивался тонкий, почти не уловимый вкус полыни.
Когда пыль рассеялась, ни немцев, ни танков и в помине не было. Все с облегчением вздохнули.
«Теперь не сунутся», – подумал Иван.
И отставив винтовку, долго крутил ставшими вдруг непослушными пальцами самокрутку. Ещё дольше пытался поджечь, но она не загоралась. Наконец затлела, и по окопу пополз сизый дымок. Терпкий аромат наполнил сердца умиротворением. Иван подошел к командиру и сказал:
– Пойду до артиллеристов прогуляюсь.
– Зачем? – удивился взводный.
– Земляка проведаю.
Слово «земляк» всегда производило впечатление. На войне земляк, все равно, что на гражданке близкий родственник. Поэтому лейтенант ничего не ответил, а согласно кивнул головой. И при этом, на секунду задержав Ивана за плечо, сказал:
– А здорово ты танк.
Иван дернул плечом, как бы говоря: «Дескать, дело прошлое, чего уж там».
И попыхивая самокруткой, пошел в сторону артиллеристов.
Долго идти не пришлось. Те лежали в ряд в прокровавленных и изорванных гимнастёрках. Никого из лежащих Иван не знал, так пересекались иногда – полк-то один. А тут все они, и пушки ни одной целой, словно огромный великан гнул и рвал непосильное человеческим рукам железо и, наигравшись, разбросал их как попало.
Иван остановился, бросил под ноги, затоптал дотлевающую самокрутку и снял пилотку.
Выравнивая воронку под могилу, трудились бойцы.
Иван понимал, что копать после напряженного боя, когда ни у кого не осталось сил, тяжело, да и хоронить среди чистого поля хороших ребят не следовало. И он поделился своим сомнением с копавшим солдатом.
Тот выпрямился и, опираясь на лопату, раздраженно сказал:
– А куда их? В город, в Сталинград, что ли, везти?
Отмахнувшись от Ивана, продолжил прерванную работу.
Иван понял никчемность своего замечания. И спасибо надо сказать, что хоть так хоронят. Сколько осталось лежать неприбранными, пока отступали. Пойди найди их теперь в этой степи и разбери, кто есть кто.
Война нарушила что-то человеческое внутри всех, когда уже нет дела не то что до другого человека, не то что до соседа по окопу, а до себя самого.
Страх сидел внутри каждого, страх стал состоянием души, привычкой, и от него постоянно ныло и сосало под ложечкой. И это гадливое чувство ломало человека каждый день, каждый час, каждую минуту. И тихий, и спокойный вдруг ни с того ни с сего мог наорать на другого. Война перекорёжила всё: и живое и неживое.
С сожалением, что им теперь не хватает главного, Иван, возвращаясь к себе, говорил, не обращаясь ни к кому:
– Как же мы без артиллерии? Без артиллерии нам совсем худо. Без неё никак нельзя.
А когда пришел в свой окоп, Семён спросил:
– Ну что там?
– Хоронят, – обронил Иван, и сел на приступок.
– Кого?
– Всех!
– Артиллеристов?
– А кого ж ещё.
Семён, посмотревший на смурного Ивана, сказал сочувствующе:
– Не переживай ты так сильно. Что делать – война.
– Да не только в народе дело. Пушек нет. Вот беда.
– Ни одной? – спросил Семён, теребя свой подбородок.
– Всё перекорёжило! – и Иван в подтверждение своих слов сделал вращательное движение рукой.
– Да, – вздохнул Семён, не зная что сказать.
И эта горькая новость пронеслась по окопу и расстроила всех.
Долго и молча курили, переваривая услышанное. Но как быть, никто не знал. Может, к утру появится что-нибудь. Но это что-нибудь надо найти, снять с тихого участка и перегнать сюда. А это время.
С такими мыслями, поужинав без аппетита, Иван собирался заснуть. Но прибежал ротный, подбитый танк не давал ему покоя. И похлопывая по плечу стоявшего перед ним Ивана, сказал:
– Молодец.
Но ему, неожиданно обласканному вниманием начальства, хотелось одного: поскорее улечься и заснуть. Потому что рассказывать про свой геройский подвиг было неохота, тем более что тогда он чуть в штаны не наложил.
Но ротный на радостях, что это его рота подбила танк, особо и не спрашивал, а потрясая пальцем над головой, воскликнул:
– Достоин награды!
С тем и ушёл. Иван подумал, что теперь можно расслабиться, но явился замполит. Понимая, что человек устал и после боя хочет отдохнуть, сказал кратко:
– За танк спасибо, а про партию подумай.
Только после этого Иван лёг и заснул.
Взводный, вернувшийся после того как проводил сначала ротного, а потом замполита, не стал тревожить Ивана. Настроение у него было отличное. Это его взвод подбил танк. Правда, сам он этого не видел, как и все, прятался от танка на дне окопа, но это не важно.
Вот достижение его взвода высится перед окопами, и всем это видно, даже командиру полка, а может, и комдиву. Он даже надеялся, что завтра, когда немцы будут наступать, кто-нибудь из их взвода, а может, он сам, подобьёт ещё один танк. С таким умиротворением в душе взводный заснул.
Но немцы после вчерашнего успокоились и наступать здесь не решились. День прошёл в томительном ожидании.
Когда смерть ходит рядом, любой, повоевавший хоть самую малость, спроси – скажет по каким-то неуловимым приметам, что может случиться завтра. И только под вечер всем стало ясно, что наступило затишье.
Война, все еще продолжая двигаться к своей цели, выбрала другую дорогу.
Где-то вдали гремели взрывы, разрывая степную ровность, и нижняя глинистая земля выбрасывалась наверх. И там, немцы пытались сделать то, что не получилось здесь. Они, как слепые, пробуя на ощупь твёрдость наших бойцов, пытались пробиться к Волге.
Но это был уже не сорок первый год. И наши другие, и немцы не те.
И в том, другом, месте, куда немцы нацелили удар, они не прорвали, продавили нашу оборону и через этот разрыв стали перетекать в тыл. Армия отступила, закопалась в землю и стала ждать.
Вилли
Стоит человеку нарушить устоявшуюся систему, что из поколения в поколение было основой основ, всё рушится, и жизнь выталкивает совсем на другую, неведомую дорогу, по которой предстоит пройти впервые.
Вот так, волею случая он, Вилли Хендорф, рабочий в третьем поколении, стал секретарём суда.
Отец долго не мог с этим смириться, но потом привык. Мать радовалась за него, изредка повторяя:
– Хоть ты теперь не будешь возиться с железом.
Я улыбался, мне и самому интересно копаться в бумажках, нежели, клепая паровые котлы, мёрзнуть на сквозняках.
Но, увы, это продлилось недолго.
В армии неважно, кем ты был, важно, кем ты стал. А Вилли стал первоклассным солдатом. Даже взводный Пирожок это отмечал. А он не тот, что попусту болтает. Не так много людей, о которых он хорошего мнения.
Вдруг вспомнилось, что было год назад. Мы, прошагавшие по всей Европе, принялись обсуждать, когда закончится война против СССР. Фриц Таддикен, тогда еще живой, сказал:
– Всё это кончится через каких-нибудь три недели.
Густ Джозефнер вообще не разговорчивый, но возразил:
– Два-три месяца, не меньше
Нашёлся один, кто считал, что это продлится целый год, это был Адольф Беккер, но мы его на смех подняли. А я сказал ему:
– А сколько потребовалось, чтобы разделаться с поляками? А с Францией? Ты что, забыл?
Он не стал возражать. И никто не стал возражать.
Теперь об этом споре никто не вспоминает. Только я.
Война перевалила на второй год, а мы топчемся на месте. Откуда у русских столько сил и техники?! Всё это проклятые англичане и американцы. Это они заставляют русских воевать. Без них бы война давно кончилась.
Командующий нашей четвёртой армией Бок, просматривая ежедневные донесения и выслушивая доклады офицеров штаба, с горечью сказал своему адъютанту:
– Я вынужден ввести в бой теперь все мои боеспособные дивизии из резерва группы армий. Мне нужен каждый человек на передовой. Несмотря на огромные потери, противник ежедневно на нескольких участках атакует так, что до сих пор было невозможно произвести перегруппировку сил, подтянуть резервы. Если в ближайшее время русским не будет где-либо нанесен сокрушительный удар, то задачу по их полному разгрому будет трудно выполнить до наступления зимы.
Зима, зима. Как дамоклов меч, она нависала над всеми. Тяготила мысли и заставляла содрогаться от воспоминаний о ней.
Зима под Москвой не забудется выжившим. Их хоть и мало, но они есть. Мёрзнуть и отступать. Отступать и мёрзнуть.
Раненый или ослабший умирает быстро. С ним умирает неосуществлённая мечта – согреться.
Мы, пережившие первую зиму, трясёмся от одной мысли, что придётся воевать зимой в мороз.
– Нет, нет, – уговариваем мы себя, – фюрер не допустит повторения этого кошмара. До зимы русские будут разбиты. До зимы ещё есть время. Волга – конец войне, Рождество дома. Сидеть в тёплой комнате у окна, курить сигару и смотреть, как за окном беззвучно падают снежинки.
Но события последних дней настораживают всех: от солдат до генералов.
То расстояние, которое в прошлом году вермахт проскакивал за неделю, теперь растянулось на месяц. И потери. Бесконечные потери. Каждое продвижение вперёд оставляло после себя могилы. Как быстро растёт лес крестов! Каждый день погибают, погибают, погибают…
Часто думаешь: когда придёт твоя очередь? Старых солдат из первого призыва совсем не осталось. Молодые, крепкие и здоровые давно на том свете, их калеченые сверстники в тылу.
Новоприбывшие же смотрели на нас с удивлением и растерянностью.
За то время, что мы то наступали, то оборонялись от наседавших русских, с недельной щетиной, с грязными лицами, почёсывая укушенные вшами места, мы были скорей похожи на чертей из ада, чем на немецких солдат.
Война стареет. Пополнение похоже на отряд пенсионеров. Их сверкающие лысины блестят на солнце, когда они снимают пилотки. Они не выиграют войну. В них нет задора. Им нужно вернуться живыми. У них дома жёны и дети. Им есть к кому возвращаться. Они боятся всего. От взрывов внутри них всё холодеет. Они не смеются, их лица вечно смурны. Каждую секунду они ждут, что их жизнь оборвётся.
Мы презираем их. Они презирают нас. Мы для них – мальчишки. Они для нас – никто.
Каждый день случаются словесные перепалки. Вот-вот дело дойдёт до драки. Так бы и случилось, но дисциплина, как гвоздь, сидит в наших мозгах. Надо бы относиться друг к другу по-другому, ведь кругом война, но не получается ни у них, ни у нас.
У шоссе высокий берёзовый крест обозначает кладбище полка. Он стоит, как живое существо, тихонько поскрипывая. Под ним строго по ранжиру лежат убитые: в центре – полковники, вокруг них капитаны, далее фельдфебели и, наконец, солдаты.
Армия двигается дальше, а ветер грустно позванивает опустевшими касками на низких крестах с именами и фамилиями лежащих под ними. Дорога наших побед покрыта могилами.
Люди из похоронной команды, для которых молоток и гвозди важнее, чем карабин и патроны, уже думали, что армии пора остановиться, иначе она иссякнет раньше, чем доберётся до Волги.
Никогда им не приходилось столько работать. Нехитрое сооружение гроб, а всё равно требует и времени, и материала. Они не успевали, но от них все требовали и требовали.
Те, другие, которые воевали и побеждали, те, другие, не думали о смерти. Да и кто о ней думает. Они рвались к великой реке. Туда, где сбросят русских в воду, там конец войне и их страданиям. Это русские виноваты в их мучениях. Это они, всё они.
Если б кто-нибудь знал, как мы устали. Устали от постоянной опасности, от напряженных маршей по бесконечным степям, устали от жары, от пыли, от жажды.
Даже ночью нам нет покоя. Никто не может представить, как мы боимся русских самолётов. Они будят нас своим стрёкотом и бросают нам на головы маленькие бомбочки. Одной достаточно, чтобы убить одного человека, но русские «швейные машинки», как мы их называем, несут сотню таких бомб. Даже если повезёт и эта этажерка не унесёт на тот свет ни одной души, мы утром встаём как побитые.
Мы ненавидим войну и всё, что с ней связано.
Почему он, Вилли Хейндорф, оторванный от своей работы, от дома, должен страдать наравне со всеми?!
Как чудесно он мог жить, если б не было проклятой войны. А теперь приходится скитаться по ужасной России, и ради чего? Теперь и сам не знает ответа на этот вопрос.
А он как-никак бывший секретарь суда.
Его поражали сослуживцы своим невежеством и отсутствием воображения: они ничего ни про Россию, ни про мир не знают и не хотят знать. У них Пушкин и Лев Толстой коммунисты.
Для них самое важное – пожрать и поспать, он – белая кость. Они посмеиваются над ним, он не обижается. Но всякий раз бегут к нему за советом.
Он первый в своём взводе на повышение. А там глядишь, чем чёрт не шутит, и офицерский чин не за горами. Успеет ли? Война может скоро кончиться. Волга рядом. Волга – войне конец. Правда, есть Москва и Ленинград, но об этом никто не думает. Наша цель – Волга.
Если верить нашей пропаганде, то все русские солдаты убиты. Если это так, то с кем мы воюем.
Фриц Таддикен смеётся:
– Ещё пару раз пропоёт «сталинский орган», и от нас останутся только железные пуговицы.
Наверное, и русским их комиссары говорят:
– У немцев скоро будет некому воевать.
И мы, и русские верим в эту галиматью. Мы на войне, и нам надо во что-то верить. Мы живём слухами, иначе чем ещё жить.
Мысли ни на минуту не покидают меня. Особенно ночью. Находясь в карауле, вышагиваешь из одного конца окопа в другой. Думаешь, что написать отцу, на его повторённый тысячу раз вопрос, когда мы возьмём Сталинград.
Мы ещё не вошли в город. А там, на севере, шестая армия бьётся среди развалин. А мы смотрим на город и не можем не то что войти в него, но и приблизиться. Бои ни на час не затихают. То мы наступаем, то русские. И это ежедневное движение туда-сюда угнетает и выматывает.
В представлении отца Сталинград – город. А это просто груды кирпичей, обгоревших балок, исковерканных, изрешеченных осколками кровельных листов железа. Всё это лежит поперёк улиц.
Мы должны взять эти руины и напиться из Волги. Тут дел на полдня, но нам не удаётся сдвинуться вперёд. Мы ходим злые на себя, на начальство, на русских.
Когда же Сталинград падёт? Когда? Я не знаю ответа на этот вопрос. И никто не знает. И от этого мне хочется, нет, не плакать, а выть. Отец, если б ты знал, как мне тяжело.
Семён
Семён был длинным и худым. Уверенный в себе, ни перед кем не заискивал, а жил своей, ему обозначенной, жизнью.
Перед войной, уже работая помощником председателя колхоза, по осени собрался жениться. Сшил двубортный коричневый шерстяной костюм, купил цветастый галстук, магазинную рубаху и, прилично накопив денег, договорился с завклубом, чтоб осенью справить свадьбу. Так бы всё и было, но началась война.
И он отложил это на послевоенное время. Тогда ему казалось, что война продлится недолго. Он так и сказал Серафиме Степановне – невесте:
– Не переживай сильно. Месяца через два, максимум три, справим свадьбу.
Она поверила ему. Все, как и он, думали, что быстро управимся с немцем. До зимы уж точно. Но война тянулась уже второй год и конца ей не было видно. Поэтому невесте он писал часто, а матери от случая к случаю.
Семён был комсомольцем. В нем сидело понимание того, что дело должно быть сделано им или кем-то другим, но сделано, и не просто так для галочки или проформы, а крепко и основательно.
Твёрдая крестьянская жилка была видна во всём. Это при нем, его стараниями во взводе появились нормальные лопаты и даже пара топоров, потому что без топора нельзя.
– Ну куда мы без топоров. Без топоров мы как без рук, – любил повторять он.
Сапёрные лопатки не жаловал.
– Ими только в носу ковырять да немца по голове трескать, чтоб скорей в беспамятство приходил.
И пила, и лом – всё это взялось словно ниоткуда, а точнее, было взято у сапёров на полчаса, да вернуть забыли. Так и прижился инструмент у новых хозяев. И хоть таскать его с места на место было накладно, зато он сколько раз выручал взвод.
А Семён где-то в разорённой деревне подобрал отбойник, молоток и оселок. Этим нехитрым инструментом Семён приспособился мастерить ножи. Найдёт подходящую железку, на костре разогреет и потихоньку молоточком на отбойнике оттягивает. Через неделю, глядишь, ручку ладит. Нельзя сказать, что вещь выходила загляденье, но крепкая и удобная.
Весь взвод обеспечил ножами. Не задаром. Кто что даст: кто пачку махорки, кто галеты, кто тушёнку.
Ножи-то он стал делать по старой памяти, ведь отработал месяц молотобойцем в колхозной кузне. И хоть человек он был старательный, кузнец сразу определил его предназначение:
– Нет, малый, ты не кузнец, не нашей ты породы, тебя к механизмам тянет, а не к нашей работе. Ты хоть сто лет стучи, а кузнецом не станешь. Металл, он понимание любит, а ты не туда смотришь.
Семён и сам это чувствовал, а потому не обижался.
И если случалось трактору или автомобилю остановиться возле кузни, он, как завороженный, ходил вокруг тарахтящей техники, вдыхал казавшийся волшебным запах бензина и с уважением смотрел на водителей.
Так у него появилась мечта стать трактористом. И он её бы осуществил, но началась война. Но и здесь, если была возможность поговорить с водителем, он обязательно это делал.
И хорошо, если попадался обстоятельный человек, с которым и побеседовать одно удовольствие, но чаще встречались водители, не любившие своё дело, недовольные всем: и войной, и машиной, и начальством, а главное дорогами, вернее, их отсутствием. Для них автомобиль обуза, а не радость.
Но Семён был не такой, работу он любил. И всё, за что ни брался, выходило у него ладно.
Нож с выжженной гвоздём на рукоятке неровной надписью «Другу Ивану во второй год войны» подарил просто так.
– Бери, – сказал он, подавая нож. – Мужик ты дельный. Пригодится. А дураку что ни дай, всё одно толку не будет.
На кого он намекал, понятно без подсказки. Есть во взводе такой человечек. Это про него Семён любил повторять вслух смеясь:
– Гришка против меня куда там, боевитее и шебутнее. Первый парень в нашем взводе. Такого героя немец увидит, до самого Берлина драпать будет.
От него только непорядок, а больше ничего. А непорядок терпеть Семён не мог, у него-то, как говорится, все чин по чину. Его вид всегда радовал начальство своей опрятностью, лицо – невозмутимым спокойствием и исполнительностью, а умением схватывать мысль вышестоящих на лету радовал вдвойне.
Когда немцы взялись наступать, ему, как и всем, стало страшно. А грохочущие танки, что вот-вот наползут, раздавят и расплющат, напугали своим количеством.
И захотелось выскочить из окопа и бежать куда глаза глядят, главное, отсюда подальше. Но посмотрел на спокойно стоящего Ивана, и сердце стало биться ровнее, застыдился своей минутной слабости. Оглянулся на Гришку, тот неистово крестился. И Семён со злорадством подумал:
– Что ж от тебя страх бог не отгонит.
А вслух добавил иронично:
– Эх ты, христово племя.
Потом, забыв про всех, вскинул винтовку и стал, старательно целясь в бегущие серые пятнышки, стрелять.
Иногда пятнышки исчезали. И непонятно, упал немец навсегда или, распластавшись в высохшей траве, зажав рану, зовёт санитара.
И злость овладела им, и забыл он про свой страх и про всё на свете. Виделась ему Серафима Степановна, и хотелось к ней теперь, сейчас. Но разве так получится?!
А гансы бегут, торопятся так, словно ничего не боятся. И нет для них смерти на этом свете.
И наша артиллерия заработала, и там народ делал своё дело старательно. Танки, после того как несколько штук задымили, хоть и ползли в их сторону, но не было в них той абсолютной уверенности, которая бывает в начале боя.
А когда многие наелись снарядов так, что больше не сдвинулись с места, остальные повернули обратно.
И возликовал Семён, и все возликовали. И чадящие танки вызвали у него в душе детскую радость. И он, никого не стесняясь, кричал вслед убегавшим фрицам:
– Что, сосисочники, кишка тонка? И шнапс не помогает!
И все засмеялись. Так смеются после тяжёлой кровавой работы, когда страх кончился и эту пустоту внутри каждого замещает смех.
А после успокоились и сели отдыхать. И хотелось, чтоб немец сегодня не наступал. Но бог не слышал их молитвы, и все повторилось. И страх в начале, злость в середине и смех в конце. Только сил становилось всё меньше и меньше.
От сверхчеловеческого напряжения к вечеру, когда всё утихло, едва-едва таскали ноги. И только одно порадовало Семёна – подбитый Иваном танк. И он сказал так, словно сам это сделал:
– Ну ты, Иван, герой.
Помолчал и добавил:
– Да.
Иван отмахнулся, хотя и самому было приятно. Он ходил немного важный, и его слух ласкали слова похвалы.
Но усталость, усталость, не столько физическая, а скорей, от сверхчеловеческого напряжения и страха, давала о себе знать.
Только сон мог спасти измученные души. И они заснули. На каждом лице светилась улыбка. Чему они улыбались – то ли своей маленькой победе, то ли снившимся родным.
Но летние ночи коротки, а военные ещё короче. А усталость после тяжёлого боя такова, что хоть тысячу лет спи, все одно не отдохнёшь.
И встали утром, как после большой пирушки. Головы ещё плохо соображали, ходили смурные и смотрели за бруствер с мыслью:
– Не собрались ли гансы повторить вчерашнее?
Но гансы вели себя тихо. И это спокойствие немцев порадовало всех. И взводный, пробегая мимо, спросил:
– Как думаешь, Семён, не полезут здесь немцы?
– Думаю, нет.
– И я так думаю.
И обрадованный лейтенант, поглядывая на подбитый танк, как на памятник геройству его взвода, побежал дальше по своим делам. А Семён, тоже не зная, почему двинулся за ним, и, наткнувшись на стоящего без дела Григория, спросил с иронией:
– Что там твой бог говорит, когда война кончится?
– Когда победим, тогда и кончится.
– Не скоро, – почёсывая затылок, нерадостно произнёс Семён.
И желая продолжить разговор, спросил:
– Как настроение?
Гришка молчал. Семён понял, что дальнейшего разговора не предвидится, а поговорить хотелось, пошел искать Ивана.
Но судя по помятому виду, а другого после вчерашнего ни у кого во взводе не было, Ивану не до болтовни.
Семён потоптался, развернулся и пошел на своё место.
Пойти бы погулять, да куда. Только высунь голову, на неё всегда найдётся охотник. И будешь лежать с дыркой в голове.
Семён успокоился, присел, и на него нахлынули воспоминания, и так ему стало тоскливо, что хоть плачь, хоть вой. Хорошо бы занять себя чем-нибудь, чтобы отвлечься от горьких мыслей. Но с другой стороны, ничего делать не хотелось, да и просто валяться с открытыми глазами надоело. Сонное настроение кончилось, а наступившее затишье расслабляло.
И всем, даже лейтенанту, захотелось, чтобы этот день прошел тихо. И он действительно прошёл тихо.
Но верхнему начальству тишины и покоя не хотелось, вот они и выдумали наступление. Ещё и приказ не написали, а уж до взвода докатилась эта весть.
И надо сказать правду, никого не обрадовала. Сидеть в окопе – это одно, а бежать по чистому полю, когда осколки и пули несутся тебе навстречу, и не просто несутся, а в каждом таится смерть, – это совсем другое.
Поэтому Семён спросил оказавшегося перед ним взводного, надеясь услышать обратное:
– Завтра наступаем?
Сашок остановился, посмотрел себе под ноги и сказал, пожимая плечами:
– Приказа пока нет.
Видно, и лейтенанту завтра тоже не сулило ничего прекрасного. В таком наступлении не то что орден, а и медаль не заработаешь.
Это первыми в какой-нибудь город ворваться, тут все ясно – наградят не думая. Глядишь, и повышение досрочно будет.
А когда в чистом поле наступаешь, и награждать вроде не за что. На сто метров отгонишь немца или на двести, ничего не изменится. Да и на карте это почти незаметно. Поэтому на награды не рассчитывай.
Ещё потоптавшись на месте, пошёл Сашок дальше.
Семён достал из вещмешка почти готовый нож и стал точить на оселке. Другого занятия он себе не придумал, а тупо ничего не делать не мог. Мысль о завтрашнем наступлении не давала покоя, нагоняла страх, и чтоб хоть как-то отвлечься, он занялся привычным делом. Это слегка успокоило. Но совсем оторваться от предстоящего завтра не получалось. И эта перемена в лице Семёна была заметна всем. И Иван спросил его:
– Ты, малый, не заболел часом?
Но Семён лишь отмахнулся. Иван подумал, что воспоминания о доме нахлынули на человека. С каждым такое бывает. И в такой момент лучше не трогать, не теребить и без того изболевшую душу, а дать человеку побыть одному с воспоминаниями о доме, о родных. Ведь в этой боли есть и радость: ты хоть и мысленно, а встречаешься с теми, кого любишь.
Утром, перед наступлением, когда наши танки, перемахнув окопы, поползли вперёд, всё внутри Семёна похолодело. Но пересилив страх, подмигнул Ивану и изобразил на лице подобие улыбки. Хотел сказать ободряющее для себя и других, но слова застряли в горле, во рту всё пересохло. И понял, что тянуть больше нельзя, выбрался из окопа и, обдаваемый солярным дымом, побежал за танком.
В другой бы раз он порадовался этому, но сейчас, сейчас… И вдруг у бегущих без всякой команды почти одновременно вырвался крик:
– Ура!
И, слившись в единый звук, это слово придавило страх.
За лязгом и грохотом танков не было слышно ни свиста пуль, ни лая пулемётов.
Иногда танк останавливался и, грохоча выстрелом, откатывался назад и снова начинал своё движение.
И Семёну стало казаться, что скоро они добегут до немецких позиций, и хорошо бы немцы убрались из своих окопов, потому что встречаться лицом к лицу с ними совсем не хотелось, а верней, было страшно. Одно дело ты стреляешь в непонятно что, и это что далеко от тебя, другое – лицом к лицу. И его надо убить, или он убьёт тебя. И не просто убить, а убить глаза в глаза.
Немцу тоже, наверное, страшно, может, даже страшней, чем ему.
Раздался грохот, лязг прервался. Танк вдруг качнулся, остановился, и башня, подпрыгнув, как лягушка, грохнулась о землю. Полуоглушённый взвод распластался рядом.
Первым поднялся Сашок, следом Иван, потом он, после Гришка и все остальные.
Хорошо бы отряхнуться, но надо бежать. Если стоять, то никого в живых не будет. И они побежали. Без танка бежать страшно. Казалось, все, что летело с немецкой стороны, доставалось им, только им.
И Семён уже разглядел лицо фашиста и возненавидел его. И с той злостью, с которой он бежал вместе со всеми, доберись он до живого немца, порвёт его в клочья.
И когда до окопов оставалось совсем ничего, вдруг, как деревья, выросли разрывы снарядов.
Сердце Семёна от испуга опустилось в пятки. И вдруг что-то больно толкнуло в живот, в грудь, в голову. И сам того не сознавая, воскликнул:
– Господи!!! Мама!
Остановился, как будто наткнулся на непреодолимое препятствие, согнулся, так и упал. Несколько раз дёрнулась левая нога, словно продолжала куда-то бежать. И затихла.
И понеслась комсомольская душа куда-то ввысь. А все страхи, все боли, все горести и радости – всё, чем наполнена человеческая жизнь, остались на земле.
Говорят, что смерть обходит человека раз, другой, ну а в третий ее точно не избежишь. Вот так и случилось с Семёном, не обошла его смерть. Вонзилась в него.
И вздрогнуло материнское сердце в далёком семёновом селе. Но она, отгоняя эту страшную мысль, два раза перекрестилась, стала на колени перед иконой и просила Богородицу о здравии сына. Ей казалось, что женское сердце заступницы скорей её поймёт, чем мужское Иисуса Христа. Хоть и слова были те же самые, хоть и повторённые тысячу раз, но не звучали они как обычно. И всё оттого, что на душе было неспокойно. И от этих волнений всё стало валиться из рук.
И пошла к Серафиме.
Но та была невозмутима. Это рассеяло страхи, вернулась к себе и стала опять молиться. Но молитвы не успокаивали.
Промаявшись, легла спать. Долго не могла заснуть, а потом словно провалилась в пустоту. И сон, раскинув над её головой своё бесконечное разноцветье, до утра успокоил растревоженную душу.
Сашок
Взрывы продолжали грохотать и прорваться сквозь них не было никакой возможности.
Взвод залёг и, не видя конца этому грохоту и вздыбливанию земли, стал отползать. И только в своём окопе осознав, что живы, каждый в душе улыбнулся и тяжко вздохнул.
А Сашок, почему-то оказавшийся в окопе вместе со всеми, ходил туда-сюда и сильно волновался, думая, что за отступление взвода без приказа его разжалуют в рядовые и отправят в штрафную роту или, хуже того, расстреляют.
Но когда взрывы утихли, он не увидел ничего, кроме наших подбитых танков. И это дало надежду, что не он один отступил. А что до команды, в суматохе боя, в том грохоте поди услышь приказ отступать. И был ли приказ?
От таких переживаний и от ожидания, что за ним вот-вот придёт следователь с конвоирами, Сашок то сидел на приступочке и бесцельно смотрел в одну точку, то вскакивал и бродил туда-сюда, мешая остальным отдыхать в тишине и покое.
К вечеру его волнения слегка рассеялись, и он, уже наполовину оживший, натолкнулся на Гришку. Взводный, раньше не удостаивавший его вниманием, неожиданно спросил улыбаясь:
– Как настроение?
Вопрос был глупый. Какое может быть настроение, если едва унесли ноги. А двое до сих пор лежат у всех на виду. Поэтому Григорий промолчал, а лейтенант больше не спрашивал, а пошел бродить по окопу, потому что бродить больше негде.
В чистом поле не побродишь. В тот вечер от переживаний решил закурить. С непривычки закашлялся, голова закружилась, и он присел, держась за стенки окопа.
Стоявшие вокруг слегка улыбнулись, но смеяться не стали. Начальство как никак.
А Сашок, прокашлявшись, бросил тлеющую самокрутку и решил больше не курить. Но несколько затяжек подняли настроение, взбодрили, и он, вздохнув полной грудью, махнул рукой и сказал сам себе, но непонятную остальным фразу:
– Дальше фронта не пошлют.
И хоть мысль о вине за отступление не исчезла совсем, но уже не давила, как полчаса назад.
Страх в Сашке взялся не с потолка, их, молодых лейтенантов, выпускников, собрали вместе, построили. Привели под конвоем такого же, как они, молодого парня в помятой гимнастёрке, без ремня. Зачитали приказ о трусости и паникёрстве.
И приказали копать могилу. И пока он копал, то и дело, словно ища защиты, оглядывался на строй, стоящий над ним.
Капитан, руководивший всем этим, посчитал, что могила достаточна по глубине и размерам. Приказал остановиться. Подал руку, помогая осуждённому выбраться наверх, отошел в сторону, взмахнул этой же рукой, которую подавал и крикнул не своим голосом:
– Пли.
Расстрельный взвод качнулся назад, винтовки выплюнули свинец. Осуждённый вздрогнул, словно испугался звуков выстрелов, и, не сгибаясь, прямо, как стоял, спиной вперёд упал в могилу.
Взвод, словно чувствуя свою вину, быстро забросал песком неглубокую яму.
Потом капитан не оглядываясь скомандовал:
– Кругом!
Все повернулись. Сашку стало страшно, а это мог быть он или любой другой.
В тягостном молчании вернулись в казармы. В этот день не шутили.
Весь следующий день дождь лил как из ведра.
Сашок, пробегавший мимо страшного места, увидел, что лившаяся с неба вода размыла песок и кисть руки расстрелянного торчала из могилы, как будто и мертвый он проклинал и войну, и тех, кто лишил его жизни.
Но это, по временным меркам войны, было давно, очень давно.
Нежданно прибежал ротный, окинул взглядом окоп и спросил:
– Убитые есть?
– Так точно. Двое. Зайцев и Егоров.
Ротный почесал шею, пытаясь прогнать доставлявшее ему неудобства насекомое, и сказал:
– Жаль.
И не потому, что ему на самом деле было жаль, но другого слова к этому не приложишь. А по большому счёту плакать о каждом или по-настоящему сожалеть никакого сердца не хватит.
И он сказал лейтенанту, кивая головой:
– Сколько из нашей роты уже на том свете окопы роют…
И добавил уже с едва заметной улыбкой:
– Солдат и в раю солдат.
И собираясь двигаться дальше, стукнул ладонью по краю окопа и сказал:
– Про донесение не забудь.
Сашок, отдав честь, ничего не сказал, и уже собрался идти писать, как появился замполит и сразу спросил:
– Как настроение?
Взводный, держа пальцы руки у виска, вместо ответа дёрнул плечами. А замполит улыбнувшись сказал:
– Ничего, наладится.
И эти слова успокоили Сашка. И мысль о том, что отступил без приказа, исчезла совсем.
После ухода замполита сел писать донесение. Всего-то два человека. Не бог весть сколько. Но их-то он знал лично. Это ротному что, он, может, их и в лицо не помнил. А ему и всем во взводе, тем, кто с ними из одного котелка ел, им тоже жаль, но жаль по-другому, по-человечески, по-товарищески.
И взводный, пристроившись на земляной приступочке, положив на колени планшет, собрался писать донесение. Но ветер поднял такую пылищу, что хоть глаза закрывай.
Мимо, поглядывая по сторонам, прошкандыбал Гришка. Сначала в одну сторону, потом в другую.
Сначала Сашок был недоволен его бесполезными движениями туда-сюда. А потом подумал, что Гришка тоскует об убитых, вот и мечется, не находя себе покоя и не веря, что их не стало. Поэтому, когда Гришка двигался мимо него в другую сторону, сказал сочувственно:
– Что делать, война.
Гришка не ответил, а стал тереть глаза, готовые вот-вот брызнуть слезами.
Взводный, глядя на него, сам чуть не разревелся, но, вдохнув поглубже, только закивал головой. Даже сейчас ему вдруг стало стыдно показать свою слабость перед другими. И он, отвернувшись от Григория, поднимая вверх голову, чтоб переполнявшие его слёзы не полились через край, ушел в другой конец окопа и, повернувшись ко всем спиной, стал смотреть в степь.
И никто не тревожил, пусть человек отдышится. Пусть хоть на секундочку от войны отдохнёт. Потому что, кто знает, может, завтра его очередь догонять тех, кто уже в раю.
А вечер натекал на израненную войной степь. И прохлада успокаивала разгорячённую войной землю. И всем: и людям, и земле, – хотелось покоя хотя бы в эту ночь, хотя бы одну ночь.
Гришка
Гришка был нескладёныш. Всё у него не так. И сапоги не в размер, и шинель на нем, как на пугале, в плечах широкая, книзу длинная. При всяком появлении начальства его старались убрать с глаз долой, чтобы своим видом не портил впечатления от взвода. Старый взводный, глядя на него, говаривал:
– Вот послали на мою голову «счастье».
«Счастье» старый взводный произносил иронично, чтобы всем было понятно, какое оно, счастье. Гришка не обижался. Он и сам себя считал обузой, потому что не везло ему в жизни.
И мать не зря повторяла время от времени:
– К нашему берегу бревно не прибьёт, всё щепки да щепки.
Даже там, в стоявшей посреди леса брянской деревне, он был хоть и в годах, но жених незавидный. Девки его не замечали.
Если и светила ему, то какая-нибудь вековуха или вдова. Хорошие невесты наперечёт, к ним не подступишься. Он и сам это понимал. Хоть в таком возрасте и мечтал о женитьбе, да где взять. А при его должности про это и думать не стоило.
Всю зиму работал скотником на ферме, а с весны пастухом. Работа хоть и не пыльная, но и не окладистая. Если б не их пегая корова Зорька, в которой он души не чаял, ни за что не пошел бы пасти.
Он пас среди вековых лесов и смотрел, как Зорька, чинно ступая, с хрустом ест траву, а после ложится и смотрит на него с любовью.
Вот о чём чаще всего вспоминал он, и слезы сами собой наворачивались на его глазах. И эта бесконечная тоска по дому и отсутствие писем, Брянщина была под немцем, угнетало Гришку.
Только у него во взводе с лица не сходила каждодневная грусть.
По всем приметам Гришке выходило погибнуть первому. Но то ли немец плохо стрелял, то ли Гришка действительно был невезучий, но за год войны не получил ни одной царапины. Хотя за спины не прятался и в атаку ходил вместе со всеми. Народ удивлялся этому, а Григорий повторял:
– Бог меня бережёт.
На эти слова Семён возражал:
– Нет никакого бога!
Григорий не отвечал, а, дёрнув плечами, отходил.
У Семёна чесался язык, хотелось поспорить, но спорить с Григорием бесполезно, он или соглашался, или молчал.
Иван смотрел на Григория спокойно. Хочет верить человек, пусть верит, его дело, службе это не мешает.
Только Семён не унимался и стыдил:
– Ты же молодой парень, а пережитков в тебе, как в древней старухе.
Но пронять Гришку словами бесполезно. Эта податливость бесила Семёна. И он, глядя на Григория с презрением, громко возмущался:
– Одна богомольная овца весь взвод портит.
И с сожалением добавлял:
– Жалко, у меня никакой книги нет про бога. Там всё должно быть прописано. Вот что, тебе читать надо, а не молиться. Надо у замполита спросить. Или он пусть тебе мозги прочистит.
Но и замполиту Григорий оказался не по зубам. Три дня тот с ним бился. Приходил утром, а уходил вечером, а потом махнул рукой, понимая всю бессмысленность своих стараний.
По этому поводу Семён сильно возмутился:
– Вот истукан-то, образованный человек и то пронять его не может. Крепко в нём сидит темнота. Два человека бьются, а победить не могут.
После этого от Григория отстали. Махнули рукой, пусть живёт.
– Что с дурака взять, кроме махорки, – любил повторять Семён, глядя на него.
И брал. Гришка-то не курил.
– Не пропадать же добру, – говорил Иван, тоже забирая махорку.
Иван жалел Гришку, но как человеку помочь, когда все его мысли о доме и что там происходит, – неизвестно. И матери его тоже небось не сладко.
Война разорвала связующее их. Да разве только их. Всех одолевает тоска. Спроси любого, всякий чувствует то же самое, что и Гришка.
Иван не теребил Гришку ни расспросами, ни наставлениями. И поэтому Григорий проникся к Ивану особым расположением и если с кем и говорил по душам, то только с Иваном.
Григорий часто рассказывал Ивану про свою мирную жизнь.
– Ещё темно, на работу иду, они уже чуют меня. Коровы почище собаки, за версту чуют. Войдёшь, а они мычат – приветствуют, значит. Сам понимаешь, первое дело убрать, а уж потом накормить. Им сена или зерна даёшь, а они руки лижут, вроде как спасибо говорят. Даже скотина ласку понимает. А весной в лесу такая благодать, птички поют, травка из земли пробивается, коровы бродят – рай, да и только.
Иван не мог не согласиться с ним. Ах, если б у него за спиной были крылья, так бы и полетел домой, чтоб хоть одним глазком взглянуть, что там делается, чтоб только одним мизинчиком прикоснуться к близким.
И поэтому он сказал скорее себе, чем Гришке:
– Будет и на нашей улице праздник.
Гришка радовался чужому вниманию к своей персоне. Но внимание вниманием, а война войной.
Здесь, в непривычной жителям лесов степи, где, куда ни кинь взгляд, всюду простор, где нормальному человеку и глазом зацепиться не за что, чаще, чем обычно, посещала тоска. И от этого люди быстрее притирались друг к другу.
Так потихоньку между Григорием и Иваном завязалась дружба не дружба, а так, приятельские отношения.
Только однажды Григорий сказал Ивану с сожалением:
– И вы, значит, в бога не верите.
Иван не нашелся, что ответить, а Григорий и не ждал ответа, отошел, чтобы человек сам с собой разобрался.
Верил Иван или не верил, но не кричал на каждом углу, как Семён, что он атеист и бога нет.
И ещё одна странность была в Григории.
Он был без ума от живности, будь даже это безмозглая курица, и к ней относился с теплом. Но более всего его радовали встречи с лошадьми.
Вот и сейчас им перед самой атакой привезли НЗ. Ездовой невдалеке остановил подводу и прокричал недовольным голосом, не желая слезать с телеги:
– Вам, что ли, поклажа?
Все сначала подумали, что в очередной раз привезли патроны или гранаты, а так как предыдущие не кончились, то запас был не особенно нужен. Поэтому и не двинулись с места.
А ездовой не унимался, шило, что ль, у него в одном месте застряло или страшно рядом с передовой. Он и давай глотку драть:
– Вам поклажа или не вам?
– Что за поклажа? – наконец, не выдержав его криков, спросил Семён, выбираясь из окопа.
– Сам разбирайся. Мне сказали доставить. Вот я и доставил. А что доставил, не моё это дело. Может, это военная тайна, а мне знать не положено.
Семён уже хотел обругать нерадивого возницу, но, взглянув на ящики, аж присвистнул от удивления и затараторил:
– Вот те на, едрёна корень. Что ж это такое? Нам это?
– Вам, вам.
На его необычные стенания поднялся весь взвод.
– Что там такое? – поинтересовался Иван.
– Тушенка, братцы, – радостно сообщил Семён, подавая Ивану банку и добавляя: – И сало, и сухари.
Гришка, словно ему было неинтересно содержимое поклажи, подошел к каурой лошадке и поглаживая приговаривал:
– Устала родимая?
И сам за неё отвечал:
– Устала.
И добавлял как бы от себя:
– Нам бы с тобой землю пахать, а мы воюем.
И лошадь, соглашаясь с ним и радуясь сочувствию к её незавидной судьбе, где хозяева могут меняться чуть ли не каждый день, шевелила ушами, трясла головой и ржала. А он, покопавшись в мешке, нашёл кусочек сухаря и угощал смотревшую на него с преданностью лошадь.
Даже Семёна удивляла эта способность Гришки находить общий язык с животными. И сейчас весь взвод смеялся над словами Семёна, переключившими внимание с тушенки на Гришку:
– Григорий, никак родню встретил.
Это был смех людей, не раз переживших смерть, перенесших непосильное, ни с чем не сравнимое напряжение, получивших, наконец, возможность расслабиться, беззлобно пошутить над другим. Поэтому Семён продолжал:
– Познакомил бы и нас с ней.
А Григорий, ничего не отвечая, дотрагивался до ноги лошади, та поднимала ногу. Он осматривал копыта, трогал подковы и, недовольно покачивая головой, выговаривал ездовому:
– Подковы чуть держатся.
Если б возница был дельный человек, который объяснял, что непременно всё исправит при первой возможности, но вознице нет дела до животины и он сказал надменно:
– Не лезь не в свое дело.
Но Гришка, видя холодность души в человеке, пытался и такого пронять, сказав:
– Танк хоть и железный, а всё одно уход требует, а лошадь живое, это понимать надо.
Но сердца за время войны очерствели, и человек отмахивался от него, как от назойливой мухи, говоря:
– Иди, иди, свою работу исполняй, а в чужую не лезь.
– Эх, – сокрушался он, и отходил от такого окаменевшего человека, как от прокаженного, но, уходя, утешал скотину:
– Потерпи, милая, война скоро кончится, не вечно же она будет продолжаться.
И лошадь трясла головой, соглашаясь с ним, и, наверное, сожалела, что понимающий человек не может быть рядом. А управляет ею какой-нибудь истукан, у которого и души-то нет, и руки не из того места растут, а она, взятая на эту войну, не понимала, что происходит изо дня в день вокруг. И не было в её военной жизни ни дня покоя, только окрики да болезненное стягание или кнутом, или вожжами.
А возница, недовольный присутствием Григория, выговаривал ему в спину:
– Ступай, откуда пришел.
Но Семён, занятый тушёнкой, услышав его грубый ответ Гришке, вдруг переключил всё внимание на немолодого, заросшего щетиной возницу и заявил, распаляясь от своих слов:
– Ты с кем так разговариваешь? А?
Возница затих, чувствуя твердость в словах Семёна. А тот не унимался, сознавая свою власть.
– А я вот сообщу куда надо, как ты относишься к военному имуществу. Тебя по головке не погладят, тебе покажут кузькину мать.
Мужик смутился и заискивающе сказал:
– Я разве виноват? Покоя не дают. Целый день туда-сюда. Едим на ходу. А про подковы докладывал. Лошадей мало, вот и мотаемся то на передовую, то с передовой, и на ремонт стать некогда. А как бомбёжка, хоть плачь. Я-то спрячусь, а лошадям каково, они-то за что страдают. Сколько их побило.
Повозочный помолчал и добавил, слегка дергая вожжами:
– Она у меня третья.
– А зовут-то как? – поинтересовался Семён.
– А, – махнул рукой ездовой, – как назову, так и зовут. Да разве я ей зла желаю?! Ей в сто раз тяжелей, чем нам. Ей, кроме бога, – он кивнул на небо, – и пожаловаться некому. Время такое. До человека дела нет, а до лошади… – и он махнул рукой.
– Да, – согласился, успокоившись, Семён.
Ящики выгрузили, подвода двинулась дальше, и все разошлись по своим делам, только Гришка смотрел вслед. Словно встретил что-то родное, и тут же пришлось расстаться. И даже ком подступил к горлу, он сглотнул и пошел к собравшемуся вокруг тушенки и потому оживлённому взводу.
Семён стал делить. В другие разы Гришке досталось бы самое плохое, но в этот раз Семён выбрал самый смачный кусок сала и подал его Гришке. Тот удивился и взял. Кто-то из взвода пытался возразить:
– Почему ему?
Но Семён обрезал:
– Когда Гришке плохой кусок, а тебе хороший, ты молчишь, а когда наоборот, возмущаешься. Эх ты, человечище. А ещё красноармеец.
Слова Семёна протрезвили всех, и никто больше не возражал.
Едва успели поделить, как прибежала собака. Наверное, учуяла запах сала. Удивительно, откуда она взялась в голой степи.
Но все в один голос говорили:
– Опять к Гришке гости.
И тут же позвали его:
– Григорий, выходи, родня пришла.
Григории вышел из-за посторонившихся солдат, склонился над собакой, погладил её по голове, и о чём они беседовали, одному богу известно. После он дал ей немного сала и сухарь. Собака мгновенно проглотила это. Благодарно лизнула Гришке руку и убежала по своим делам, весело виляя хвостом.
Семён удивлялся и спрашивал:
– Как ты их, Гришка, не боишься?
– А чего? Живой, живого всегда поймёт. Собака – не человек, зря не лает. Тут причина нужна.
Нет, понять другую, не человеческую душу Семён был не в состоянии. Но это умение Гришки общаться со всем живым слегка подняло его в глазах Семёна. Но это сейчас, а пройдёт день или два, и раздраженный чем-нибудь Семён обязательно натыкался на стоящего без дела и созерцающего небесную бесконечность Гришку.
– Стоишь, богомолец, – бурчал в таком случае Семён.
Григорий молчал.
– Эх, не я взводный, я бы тебе показал, где раки зимуют, – не унимался он.
Григорий молчал.
– Истукан ты, а не человек, – уже спокойней заключал Семён.
Григорий продолжал молчать.
Семён махал рукой и, раздосадованный непробиваемостью Гришки, уходил подальше от источника своего раздражения.
Раздача тушёнки и сала происходила перед самой атакой. Наверху посчитали: сытый боец веселей наступает.
Оно так и было, в голой степи разжиться провиантом нельзя, взять негде. Если только суслика подкараулишь. Но не лежала русская душа к похожим на крыс мелким грызунам. А подстрелить зайца не удавалось. Хоть они, напуганные неумолкающим грохотом, и были слегка очумелые, хоть и метались туда-сюда, а попробуй попади. Если только взрывной волной накроет, но такое если и случалось, то раз или два, не больше.
Рядом с войной живность жить не хочет, ей покой и тишина нужны. Вот и бежит от таких мест подальше.
Когда немцы начали наступать, Григорий хоть и испугался, но стерпел и страх свой не показал. Хотя крестился и читал про себя молитву. Но бог богом, а страх страхом.
Когда танк ползет, грохоча железным нутром и лязгая гусеницами, кто хочешь испугается, потому и кажется, что ползёт на тебя и стреляет только в тебя.
И Иван, и Семён, и взводный сколько ни прятали страх внутрь, а вон у каждого на лбу страх так и сидит.
На словах все герои. Пули да осколки не разбирают, кто герой, кто не герой, всех крестят одинаково.
Но бой шел не минуту, не две, и все, забыв про страх, стреляли без перерыва, словно каждый спешил выпустить больше пуль и, может, потом, после боя, похвастать перед другими:
– Вот я герой, вон сколько пуль по немцам выпустил.
Но после боя азарт быстро остывал и хотелось не хвастать, а посидеть в тишине. А похвастать потом, когда пройдёт день или два. И вспомнить про это, просто по случаю, а не ради бахвальства.
Ещё не было приказа о наступлении, а что-то тяжёлое навалилось на взвод, и не слышно не то что шуток, а и разговоров. Каждый думал о смерти. Нет, никто не говорил: меня, мол, завтра убьют, но внутри сидел страх того, что это может случиться. А в наступлении не бывает такого, чтобы все остались живы.
Тогда, перед самой атакой, когда что-то надломилось внутри Гришки и он закричал, закричал не своим, а чужим голосом, а Иван влепил ему оплеуху, он очнулся и вместо обиды подумал:
– Что это со мной?
И в атаку шел не он, а кто-то другой, и тому, другому, было страшно, а ему, мчавшемуся навстречу немецким пулям и снарядам, страх был неведом. И только когда снаряды при взрыве, поднимаясь фонтанами кверху, осыпали его землёй, как дождем, он вдруг осознал, что его могут убить.
И остановиться нельзя, припасть к земле и слиться с ней, сделаться невидимым и прижать страх. Все бегут вперёд, и он вместе со всеми. Но сейчас, на бегу, он успевает, никого не стесняясь и не таясь, кричать не вверх небу, а вперёд, словно он там, за немецкой линией обороны:
– Господи, Иисусе Христе, спаси и сохрани. Матерь, Царица Небесная, спаси и сохрани!
И свободной рукой, в другой-то винтовка, крестится.
Вдруг взрывы покрыли всё кругом, и не стало видно не то, что солнца, а даже неба. И Григорий припал к земле, и все припали к спасительной земле.
И казалось, ничего живого не должно остаться на этом месте. А снаряды рвали и рвали и без того изорванную землю.
А после всё стихло, Григорий и все остальные поползли обратно в свои окопы. И там, собравшись вместе, радовались, что остались живы.
Не досчитались Семёна и Ивана. Люди эти были дельные, не пустобрёхи. Во взводе верховенствовали и ратному делу нужные и полезные. Вот их и не стало. Верней, они есть.
Вон они лежат на нейтральной полосе, безразличные ко всему и всем.
Взводный загрустил, словно лишился опоры, а, по сути, так оно и есть. Выглянул из окопа, посмотрел на лежащие фигуры. Ещё раз убедился в их смерти и с тяжелым чувством, что потерял не просто хороших, а нужных людей, пошел писать похоронки. Приятного мало, а надо.
И разговоры во взводе перетекли в воспоминания. Какими были, помнили все. И как забыть, полчаса назад были живы и здоровы, а теперь… Одно только успокаивало, что смерть забрала их, их, а не тебя.
Григорий сел на корточки и, держась левой рукой за винтовку, как за крест, склонив голову, тихо стал читать молитву, помятуя о новопреставленных, изредка крестясь. И слёзы накатывали ему на глаза. И он не стесняясь вытирал их тыльной стороной ладони. И до всех доносилось:
– Господи… Аминь…
Все смотрели на него, и никто не осуждал, потому что у них настроение не лучше.
Но даже в этот тяжелый момент пули злобно свистели, пролетая над окопом, и, не находя поживы, обессиленные, вонзались в землю. Война не кончалась. Война есть война. Это не прогулка.
Отпуск
Мне повезло: я еду в отпуск. Проездные документы на руках. Все окружают меня, похлопывают по спине, словно желают убедиться, что это не сон и я на самом деле уезжаю. Им жаль расставаться, но что делать…
Я читаю вслух памятку отпускнику и комментирую:
– Первое – сдача патронов. Штабные умники думают, что я повезу матери патроны в подарок, чтобы она посадила их на грядке у нас в саду и у неё выросло патронное дерево.
Все хохочут. Я продолжаю:
– Второе – дезинсекция. Я и сам рад избавиться от них. Тем более что окопные вши при нападении на гражданских заедают последних насмерть.
– Да, – подхватывает эту шутку Фриц, – смотри, Вили, чтоб они не разбежались по всей Германии, а то загрызут какую-нибудь важную тыловую крысу. Тогда неприятностей не оберёшься.
– Откусят ему самую нужную часть, – не унимается Адольф Беккер.
– Нижнюю, – подхватил Фриц.
Весь взвод хохочет. Все с грустью провожают меня.
Целую неделю они готовили мне обмундирование. Китель чужой, мой весь в крови и дырки на локтях. Брюки мои. Слава богу, они ещё целы и даже прилично выглядят. Шинель? Шинель постирана и еще послужит не одному поколению. Обувь? С обувью проблема. Чужую не наденешь, а моя похожа… На что она похожа, даже не подберу сравнения. Вакса не спасает её. И все же, оглядывая себя, удивляюсь, какой я красивый. Как будто только что из учебного полка. Мне пора.
Каково им оставаться под огнём, сознавая, что я буду в тишине и покое, обнимая левой рукой девушку, правой подносить бутылку с пивом, говорить ей с налётом снобизма:
– А хорошо у вас, чёрт возьми, здесь, в Германии. Вы давно здесь живёте? И никогда не были в России? Это не страшно, мы как раз с друзьями совершаем там небольшую, но очень интересную прогулку. Если у вас будет желание, присоединяйтесь.
От моих слов она хохочет.
И весь взвод хохочет над моим выдуманным рассказом. А Фриц Таддикен советует:
– Порезвись там, в отпуске, так, чтобы письма от твоих поклонниц приходили мешками.
– И не забудь сломать там пару кроватей у ваших прелестниц, – подхватывает Густ Джозефнер. От этой шутки взвод грохочет смехом.
Они готовы стоять тут целый день, и задаются вопросом, почему я, а не они. И я говорю им, чтобы подбодрить:
– Придёт и ваша очередь.
Фельдфебель, маленький, круглый, толстый – не зря в роте у него кличка Пирожок – тоже вылез из своей норы, решил посмотреть на мой отъезд. Он стоит в стороне, и голова его слегка трясётся. Это отголосок недавней контузии.
Его даже хотели отправить в отпуск, но родных у него нет. Мать с отцом умерли, а семью он себе не завёл. А просто ехать отдыхать – отказался. Бросить родную часть, с которой он не расставался ни на минуту, для него равносильно смерти.
Мне иногда кажется, что он боится всего вокруг, и этот страх делает его жестоким. Только среди нас он чувствует себя в своей тарелке. Подходит и говорит грозно:
– Хватит болтать.
Все расступаются, а он, обращаясь ко мне, строго добавляет:
– Рядовой!
– Рядовой Вилли Хейндорф готов отправиться в отпуск на родину, – рапортую я, вытянувшись по стойке «смирно».
Ему не охота со мной расставаться. Но раз наверху решили, он не посмел возразить. Значит, так тому и быть. Он смотрит на меня презрительным взглядом, словно хочет сказать:
– Покидать часть, когда идёт война, дезертирство, преступление.
Но вместо этого говорит:
– Счастливой дороги. Кругом! Шагом марш!
Мне грустно расставаться не только с моими друзьями, но, как ни странно, и с ним. Я смотрю в его выцветшие глаза, полные тоски. Мне его жаль. Я привык нему, как к родному.
Но поворачиваюсь ко всем спиной, медленно иду к ожидающей меня машине. Забираюсь в кузов грузовика, усаживаясь на откидном сиденье и машу им. Они словно по команде машут мне в ответ.
«Увижу ли я вас снова живыми и здоровыми, как сейчас», – успеваю подумать я, прежде чем машина, сорвавшись с места, уносит меня от войны.
Вцепившись в деревянный борт, колтыхаясь туда-сюда, еду в неясную даль. Машина тормозит у вокзала. Он цел, только нет ни окон, ни дверей.
Я выпрыгиваю и иду внутрь.
Начальник железнодорожной станции, длинный и прямой, как шлагбаум, когда я обратился за разъяснениями о ближайшем поезде, дребезжащим голосом зло ответил, придерживая фуражку за козырёк:
– Это совершенно ненормальная страна, без всяких сомнений! Ненормальная!
Он думал, что в России должен существовать такой же порядок, как и на родине, в Германии, в Ютербоге. Он ошибался.
Я повторил свой вопрос, и он взорвался:
– Я не знаю, когда прибудет поезд. Может, через час, а может, через день. А может, вообще не прибудет.
Поезд пришёл ночью. Он был похож на пыхтящее огромное привидение. В темноте был слышен дребезжащий, взволнованный голос начальника станции:
– Я вас отправляю, русская авиация не промахивается ночью.
Полупустой вагон, какие-то фигуры лежат на полках и непонятно, живы они или нет. Проводник, осветив карманным фонариком свободную полку, сказал негромко:
– Здесь располагайтесь.
И исчез в тёмной глубине вагона.
Бросив вещмешок под голову, я растянулся на полке. Поезд тронулся. Мне стало казаться, что мы стоим на месте, а вагон мотает вправо-влево. Утром меня разбудил проводник со словами:
– Вы всю ночь кричали.
Я извинился:
– Нервы ни к чёрту.
Он с пониманием кивнул головой и предупредил:
– Скоро прибываем.
За окном проносились пустые поля. Осень виделась во всём: в желтеющих деревьях, пасмурном небе и бесконечно тоскливом просторе.
Поехали по пустынному городу и остановились у вокзала. Прошёл патруль, поглядывая на окна моего вагона. Другой поезд ждать недолго.
С такими же, как я, втиснулся в купе. Нас мало с передовой, и все мы потёрты, поношены и пока ещё живы. А кто-то уже в вечном отпуске.
Но такие же, молодые, как я, постоянно встречаются мне здесь, в тылу.
Они смотрят с лёгким презрением на мою шинель с въевшейся окопной пылью, на истоптанные сапоги, которым вакса не помогает приобрести приличный вид, как бы говоря: «Дружище, ты немец, сейчас идёт война. Но ты должен выглядеть так же, как мы, на все сто».
Я киваю головой, соглашаясь с ними, и думаю: «Как нам не хватает вас на передовой».
Но здесь, в тылу, для них много работы. Нужно отправлять, принимать, охранять. И при этом тяжко вздыхать и сообщать всему миру:
– Как трудно нам даётся служба.
Я со злостью думаю: «А воевать должны мы. Если нас всех убьют, кто будет на передовой? Если нас всех убьют, война что, закончится?»
Зачем они пошли в армию? Сидели бы себе дома.
Да, конечно, теперь модно быть солдатом. Это вам не партийные козявки в коричневых рубашонках, до хрипоты орущие:
– Хайль Гитлер!
То ли дело военный мундир, не ведавший окопной пыли, подогнанный по фигуре. И сапоги, сверкающие как зеркало, с увеличенными каблуками, чтобы быть хоть на пару сантиметров выше, в таких по окопам не побегаешь.
Их небрежно брошенное в толпу гражданских: «Да, война в России – это война», – прилипает ко мне.
Но бог с ними, я в отпуске. До дома совсем недалеко, но пешком мне быстро не добраться. Маленький грузовик едет мимо и тормозит.
Из окна выглядывает совсем мальчишка.
– Куда направляетесь? – интересуется он.
Я называю адрес.
– О, – радостно восклицает он, – нам почти по пути. А вы с фронта?
– С восточного!
– Ого, – восхищается он и говорит радостно: – Садитесь, подвезу.
Я с радостью забираюсь в кабину. Пока едем, он, все время поглядывая на меня, как на нечто неведомое, вдруг говорит без остановки:
– У кого близкие на Западе, те, как и прежде, довольны. Вы даже представить себе не можете, чего только не шлют им оттуда наши солдаты: продукты, ткани, белье, платья. Женщины, которые в мирное время едва могли купить себе пару чулок, сейчас разгуливают в мехах. Им не приходится дрожать за жизнь своих мужей и сыновей. Так-то можно и войну вытерпеть.
Он на секунду замолкает, смотрит на меня, как бы пытаясь понять, слушаю я его или нет. Переключает скорость и продолжает:
– Совсем иначе обстоит в семьях, чьи близкие на Восточном фронте. Они живут в вечном страхе. Надо же хоть кое-что соображать да научиться читать военные сводки между строк. Нас отбросили далеко назад. Под Москвой, как видно, немецкая кровь лилась рекой. Загляните-ка в любую газету. Все полосы сплошь заполнены траурными объявлениями. Раньше почтальон был вестником радости, теперь он чаще всего вестник горя. Все говорят: «Пусть лучше не будет вестей, чем плохие».
Мы приехали. Машина останавливается, я торопливо выпрыгиваю. Я спешу. Он кричит мне вслед:
– Счастливо отдохнуть.
Я машу ему, он уезжает, несколько раз оглянувшись на меня.
Дверь в мой дом не заперта, открывается так же легко, как и два года назад, когда я уходил.
Мать стоит посреди кухни, при виде меня хватается за сердце, тарелка из её рук выскальзывает и разбивается. Из комнаты слышен недовольный голос отца:
– Что ты опять разбила?
Но вместо ответа мать кричит:
– Вилли!
– Что Вилли? Прислал письмо?
– Вилли, – опять кричит мать и бросается мне на шею.
Отец, не выдержав её криков, медленно выходит на кухню. Видит меня, руки у него трясутся, из глаз текут слёзы, и он говорит, едва сдерживая волнение:
– Вилли, сыночек.
Я оставляю мать и прижимаюсь к нему. Он больше не может сдерживать себя и рыдает. Я глажу его по голове и говорю:
– Па, я же вернулся. Па…
Ему нужно время, чтобы успокоиться. Мать говорит, кивая на него:
– Он всё время слушает радио и читает газеты.
Отец держит меня за руку, чтобы убедиться, что это не сон. Слёзы то и дело льются из его глаз. Он спрашивает, заглядывая мне в лицо:
– Когда возьмём Сталинград?
Я не знаю, что ему ответить. Сказать правду и разрушить его мир? И я говорю:
– Скоро.
И добавляю:
– Примерно через месяц.
– Месяц? – удивляется он.
Он не хочет верить. В его голове пропагандисты сделали кашу. Он никак не может переварить мой ответ. И повторяет, как заевшая пластинка:
– Месяц, месяц!
И встревожено говорит нам:
– Месяц.
Мать решает, что мы должны погулять. Это успокоит отца. Мы выходим на улицу. Слева отец, справа мать.
Я не замечаю её морщин. Мне кажется, она не меняется. Отец по сравнению с ней глубокий старик. Он хорохорится, но я понимаю, с каким трудом ему даётся эта лёгкость.
Мы часто останавливаемся, он наклоняется и массирует больные колени. Ходить ему всё тяжелей. Но он гордо вышагивает рядом, как бы говоря всем:
– Мой сын герой.
И смотрит на всех так, словно он получил железный крест.
Родители гордятся тобой, родители счастливы. Все невесты города твои, выбирай любую. Женихов с каждым днём всё меньше. Их нет, их почти нет. Многие убиты. Траурные объявления в нашей городской газете стали обыденностью. И всё молодёжь, молодёжь… У них не было никакого желания умирать. Что они испытали в своей короткой жизни? У них, как и у меня, были планы на будущее.
Мать моего одноклассника, фрау Шмит, узнаёт меня, хватает меня за локоть и говорит:
– А моего Ульриха убили. Мне вернули письмо на фронт с пометкой: «Пал на поле чести».
Она роется сумочке, достаёт фотографию и показывает мне:
– Вот фотография его могилы.
Если б вы знали, фрау Шмит, сколько я перевидал таких могил, но сочувственно киваю головой. Она бережно убирает фотографию в сумочку и спрашивает:
– Ты не встречал его там, в России?
Я смотрю в её выгоревшие глаза. Ей ничего не надо. Она просто прикоснулась к тому, к кому прикасался её сын. И это согревает её.
– Нет, фрау Шмит, Россия огромна.
Я спешу дальше, а она стоит и теребит ручку сумочки.
Ульрих, толстяк Ульрих. Тогда я потешался над твоей полнотой, теперь мне искренне жаль, что тебя нет на этом свете.
Фрау Шмит замечает идущую по своим делам кошку. Забывает обо мне, наклоняется и, приговаривая, гладит её:
– Пошли ко мне. Я дам тебе молока.
Но ты жив Вилли Хейндорф, ты в отпуске, ты дома, все восхищаются тобой и относятся с уважением. Первыми протягивают руку и радостно восклицают:
– Здравствуй, Вилли.
– Как ты возмужал, Вили!
– Как дела на фронте?
И я отвечал фразой, которую, кажется, выучил по дороге сюда:
– Да, война в России – это война.
Даже те, кто недавно презирал и ненавидел меня, кланяются и улыбаются.
Вот она идёт навстречу со своим отцом.
Ах, Хелен, когда-то я был влюблён в тебя. Но что я видел в твоих глазах, кроме презрения? Что? Теперь ты сама любезность. И осторожно пальчиками трогаешь рукав мундира, как бы стучишься в закрытую дверь.
Пару лет назад я бы прыгал от счастья от этого прикосновения, но теперь мне всё равно.
Твой отец, не знавший, как меня зовут, вдруг выучил моё имя и бодро говорит, выпятив вперёд свой круглый животик:
– Вилли, ты стал настоящим мужчиной. Заходи вечером, потолкуем. Попьём пивка или ещё чего-нибудь покрепче.
Он подмигивает и кивает на свой двухэтажный особняк в конце улицы и, посмотрев на дочь, добавляет:
– Хелен будет рада.
– Я постараюсь, – успеваю я только сказать.
Мать с отцом тянут меня уже дальше. Мы переходим на другую сторону.
Господина Циглера никто не любит. Это он сказал фрау Шмит:
– Сейчас нужно много работать, а хорошо есть мы будем после войны.
Это слышали многие и приняли на свой счёт. Его совет относится ко всем, но только не к нему.
Господин Циглер любит поесть и не понимает церемоний по отношению к другим. Но не стерпит этого по отношению к себе.
Он приходит вечером и чуть ли не силой тащит меня к себе. Мать не хочет меня отпускать. Но он говорит:
– Ничего с ним не случится, фрау Хейндорф. Посидит часок у меня в гостях и вернётся домой. У нас в городе, славу богу, не стреляют.
Я иду рядом с ним. Теперь он выступает важно, словно говорит всем, кто нам встречается:
– Вот веду фронтовика к себе домой. После солдатского пайка надо же угостить парня.
Мы входим в дом. Нас встречает Хелен. На ней меховое манто, а в ушах, на пальце поблескивают прозрачные камушки. На столе тесно от блюд. Неужели это всё нам троим? Запах мяса приятно щекочет ноздри. Мы едим. В камине весело потрескивают дрова. Со стены на нас смотрит фюрер.
Господин Циглер говорит дочери:
– Хелен, положи гостю мяса. У них на фронте так не готовят. Французский сыр, пробуй, Вилли, бери. Не стесняйся. Теперь все можно достать. Было бы желание.
Откуда такое изобилие, когда вся страна живёт почти впроголодь.
Ну да, ну да… Господин Циглер много работает. Армии нужны ручки для гранат и приклады для ружей. И с каждым днём этого нужно всё больше и больше. Всё для победы. Его фабрика работает в две смены и едва справляется с заказами.
– Выпьем за победу. – Господин Циглер поднимает бокал.
Я и Хелен поддерживаем его. За победу пьём до дна.
Мне хочется спросить у господина Циглера: «А костыли ваша фабрика не делает?» – но я не спрашиваю. Мне и так ясно. Костыли не тот товар, за который будут щедро платить.
Вам не нужна победа, господин Циглер. Чем дольше мы будем воевать, тем дольше будет у вас сытая жизнь, а у Хелен появятся новые камушки и гораздо крупней, чем те, что на ней сейчас. Она подносит к моим глаза свой перстенёк и говорит:
– Правда здорово?
Я согласно киваю.
– Отец отвалил за всё это, – она дотрагивается до серёжек своими тоненькими пальчиками, – уйму денег.
Мне больше не хочется есть, я встаю. Это неожиданно для господина Циглера и для фройлен Хелен. Я встаю и иду к выходу.
Лицо Хелен слегка пунцовеет, губы отца вытягиваются в трубочку.
Она бежит, догоняет меня в прихожей и тихо спрашивает:
– Ты зайдёшь ещё?
Я беру её за талию, от неё пахнет духами, она отстраняется от меня.
Ты всё та же, фройлен Хеллен. Твоему отцу нужен наследник, а тебе муж.
Спускаюсь по лестнице, выхожу на улицу, я раздражен, хочется обернуться и крикнуть ей:
– Не переживай, Хеллен. За деньги твоего отца много найдётся охотников стать твоим мужем. Но не я. Там, в России, всё видится по-другому. Там люди живут искренне. Или мне так кажется. Даже когда каждое мгновение ты можешь уйти в небытиё, ты где-то не договариваешь, а где надо сказать, молчишь. Таков я, таковы мы все.
Через неделю, утром проснувшись, я вдруг понял, что хочу туда. Обратно в Россию. От этой размеренной жизни я сойду с ума.
Отец подарил мне в дорогу кожаные перчатки на меху, мать вязаный жилет и носки. Зачем мне зимние вещи? Зимой я буду дома. Я уверен, Рождество я встречу дома. Но я не отнекивался, я взял. Не хотелось их расстраивать.
На вокзале я пожал руку отцу, обнял мать и побыстрей запрыгнул в вагон. Я машу им из окна. Поезд трогается, мать смотрит так, словно видит меня в последний раз. И я говорю про себя, как будто обращаюсь к ней: «Прости, ма, но я хочу туда, в Россию. Сам не знаю почему. Эта страна, как магнит».
Паровоз напрягаясь вытягивает вагоны и меня из мирной жизни. Мы катимся всё быстрей и быстрей.
Мать, наверное, плачет. Отец успокаивает её. Они медленно бредут с вокзала, все сочувствуют им. Дом рядом. Все в слезах, они возвращаются домой. А поезд несёт меня дальше.
Вот и Россия. Те же серые пейзажи с пожухлыми листьями. Полуразбитые станции. Копошащиеся люди. Непонятно, кто это – немцы или русские. Я с нетерпением жду встречи со своими.
Новый взводный
Старый взводный, хоть и был уже в солидном возрасте, старше Ивана на пять лет. Хоть и относился к службе с почтением, но на солдат смотрел спокойно, зря стружку не снимал и требовал, когда в этом возникала необходимость, а не ради прихоти или каприза вышестоящего начальника, поэтому в батальоне считался за строптивого, хотя и дельного офицера. Был бы покладистей, давно бы ротой командовал, как его однокашники, а так только взводом.
Конечно, это рано или поздно случилось бы. Но шальной немецкий снаряд вырыл большую воронку, засыпал чахлую зелень рыжей глиной, а осколки посекли весь левый бок взводного.
Когда подняли, он ещё дышал. Долго собирался с силами и, держа Ивана за руку и заглядывая ему в глаза, сказал тихим голосом:
– Вот и мое время пришло.
И добавил с сожалением:
– Ничего не успел сделать…
Правой рукой потянулся к карману гимнастёрки, но израненное тело истекало кровью, и он, не осилив этого движения, уронил руку и сказал, превозмогая боль:
– В левом кармане гимнастерки письмо с адресом. Допиши, чтоб сын мать берег… Не забудь.
– Сделаю, – обещал Иван.
– Эх, – с затаённой горечью произнёс взводный, и его не стало.
Похоронили его в этой же воронке. Накрыли шинелью и забросали землёй. Хоть и сделали всё как положено, но получилась не могила, а непонятно что.
– Ладно, хоть так, – успокаивал себя Иван.
Хотя, если честно сказать, взводный в понимании Ивана достоин большего, а не только воткнутого в землю штыка от «мосинки» и каски на нем.
– В этой кутерьме доски для памятника не найдёшь. И то хорошо, хоть похоронили, – оправдывал себя Иван.
И в этом была горькая правда летнего отступления сорок второго года, когда не то что хоронить, а и посмотреть, где лежит человек, некогда.
Это страшно и неотвратимо давило на всех. Не просто погибнуть, а погибнуть безымянно, как пишут в похоронках, – без вести пропавший. И не дает покоя, что не будет у тебя не то что памятника, а даже могилы. Это угнетало больше, чем возможность погибнуть. И те редкие случаи, когда случалось наоборот, успокаивали совесть.
После смерти взводного неделю проходили неприкаянные, пока, наконец, не появился он, новый взводный, – молоденький лейтенант. Видно, хорошо учился, раз лейтенанта дали. А так был бы младшим.
Только неделю назад прибыл из училища. Роста он был небольшого, вида неказистого, гонора, правда, с избытком, ну, что есть, то есть. Звали его Саша, отчества никто не запомнил, а фамилию никто не спросил. Так и приклеилось к нему:
– Сашок да Сашок.
А у Сашка всё по уставу. Это в окопах-то строевым шагом. Оно, конечно, привык у себя в училище, там распорядок, как в больнице, и простыни на кроватях белые, а здесь война. Но пока не попробуешь этого блюда, не поймёшь что к чему.
Вот он и давай духариться. Построил взвод и долго и нудно рассказывал, кто он такой и какой он замечательный.
А как немецкие самолеты налетели да бомбы посыпали, сразу затих и белей полотна стал, только что штаны не намочил.
Может, тогда он и сам понял, что командовать нужно спокойнее и пригибаться почаще. А то так и похоронят с двумя маленькими звёздочками, а ему хотелось большего, для того и окончил училище. Пусть даже звездочек будет две, но больших.
А потому сразу после бомбёжки утих, просто доносил до взвода, что приказано сверху. И взвод продолжал жить, как жил. Такой порядок во взводе устраивал всех.
И Сашок голос не напрягал, и взвод его не подводил. А делал всё как положено. Копать так копать, охранять так охранять.
По какому-то стечению обстоятельств взвод вдруг стал в числе лучших. Не только в роте или в батальоне, а и в полку.
И батальонный, и ротный смотрели на Сашка и не могли понять, как он, сопля на ножках, всё устаканил во взводе.
Но на войне лучшим быть не с руки. Первые, они и в атаке первые.
Ночью пришел приказ отступить. Идти по прохладе хорошо, самолёты не тревожат.
И к тому же кто-то наверху побеспокоился, и им отрыли окопы. Отрыли, как полагается, полного профиля, так что повезло всей роте. Даже поспать пару часов удалось.
Утро, как на грех, выдалось ясным. Лучше б оно выдалось дождливым.
– Прилетят, – подумал Иван, – как пить дать прилетят.
И не ошибся. От горизонта показались чёрные точки и стали увеличиваться в размерах.
Взводный, стоявший рядом с Иваном, не спускал глаз с самолётов. Видно было, что ему страшно. А кому не страшно? Только дураку. Но таких во взводе не наблюдалось. Сашок оглянулся на Ивана и испуганно сказал:
– Ну, они нам устроят.
– Ничего, прорвемся, – успокаивая сам себя, ответил Иван.
– Началось, – сказал Сашок и, придерживая каску, присел, втягивая голову в плечи.
А самолёты уже образовали круг и стали сыпать «гостинцы». Минуту назад все разглядывали кресты на крыльях, а сейчас и Иван, и Сашок, и все остальные, распластавшись на дне окопа, инстинктивно вжимались в землю.
И каждому казалось, что все бомбы с душераздирающим воем падают на тебя. И от этого хочется стать маленьким, как дождевой червяк, и залезть поглубже в землю.
Бомбы упали впереди окопов. Земля несколько раз содрогнулась и успокоилась. Стало тихо.
Когда решились выглянуть из окопов, самолёты убрались. Раненых, а тем более убитых, не было. Это порадовало всех.
И Сашок сказал, желая подавить волнение и глядя на изрытую бомбами землю:
– Ну, пошумели – улетели. Суки.
Иван кивнул. На сердце было неспокойно. Зря бомбить не будут, поэтому он иронично сказал Сашку:
– В такой светлый день да не повоевать, так не бывает. Жди гостей.
У Сашка была надежда, что на этом всё кончится, и он с сомнением спросил:
– Ты думаешь?
– И к бабке не ходи.
Иван не ошибся, в наступившей тишине затарахтели моторы танков, и там, где гудели моторы, поднялась пыль.
А тут, с нашей стороны, их уже поджидала артиллерия. Это были уже другие орудия и другие люди.
И немецкие танкисты знали, где стоят пушки, поэтому и шли туда мордами вперёд. Да как не иди, все равно попадут.
В головной танк попало аж два снаряда. И он от первого вздрогнул, продолжая катиться, от второго замер.
И Иван, глядя на первый подбитый танк, сказал со злой иронией:
– И добавки не попросил.
– Ты о чем? – вдруг спросил притихший Сашок.
– Да о танке. Наелся, говорю. Болванки проглотил и…
Но не успел Иван договорить, как над головой просвистел снаряд. И этого мгновения было достаточно, чтобы все укрылись в окопах.
Снаряды стали рваться чаще, словно немцы искали место, где можно проехать дальше.
На какое-то мгновение удавалось поднять голову и посмотреть, что делается перед окопами. Уже три танка чадили.
Но остальные пока ползли вперёд, приказа отойти им не было. И пехота не отставала.
Придётся ли им вступить в бой или обойдётся, как обходилось не раз, Иван не знал, и никто не знал, как сложится бой. Всяко бывает. На одном краю от взрывов жарко, на другом в небо поплёвывают, хотя там и там умереть можно запросто. На войне смерть не спрашивает, сколько тебе лет. А раз – и нет человека. Еще минуту назад говорил с ним, и он даже смеялся, а вот нет человека – и все тут. Хорошо, если, кроме матери, и плакать некому. А то ещё и жена и дети. Вон сколько слёз наплачут.
О ком лейтенанту переживать? У него ни жены, ни детей. Да и девушки, наверное, нет. А у Ивана и матушка, и семья.
Только дом поставили, только жить собрались, а тут война. А Илюшеньке, сыночку, второй годик пошел, едва ходить начал, а уже лопотать пытается. Как они там? Да тоже небось несладко. На войне сладко не бывает. Иль тебе, иль родне, иль соседу – кому-нибудь да больно. А как без боли? Война!
И у немцев боли хватает. У них тоже сердца не железные. Горе хоть в Африке, а всё одно горе.
Вот он, двадцатипятилетний мужик, смотрит на эту молодёжь и думает, сколько в живых останется, когда война кончится, и останется ли он сам. В глубине души верил, что останется жить. Словно сам себе говорил:
– Все умрут, а я буду жить.
Но страх и сомнение не покидали. Война.
День подошел к обеду, а у немцев обед – дело святое. Как говорится, война войной, а обед по распорядку.
Поэтому и убрались. Подбитые танки чадили, испуская тошнотный запах горелого мяса.
Немцы затихли, и Ивану, и роте, и полку дали роздых.
– Щас бы щец из свежей капустки да со сметанкой, – сидя на корточках, привалившись спиной к стенке окопа, произнёс мечтательно лейтенант.
Ивану и самому захотелось щей. Да ещё с черным душистым свежим хлебушком. Да за столом, да дома, да в кругу семьи. И он поддержал Сашка:
– Да, неплохо было бы, а то вечером принесут горох. А в нем соли, аж скулы сводит.
– Соль желудок крепит, – блеснул своими познаниями в кулинарии лейтенант.
– Крепит-то она крепит, да есть-то каково.
Дальнейшие мечты и рассуждения были прерваны как-то странно быстро пообедавшими и показавшимися в боевых порядках немцами.
– На сытый желудок много не набегаешь. Зря они, – сказал Иван, повернувшись к лейтенанту. Но тот, приложив бинокль к глазам, рассматривал немцев. А чего их рассматривать? Чем больше убьешь, тем меньше станет.
А пыль, подхваченная ветерком, смешиваясь с дымами горящих танков, стелилась по степи и текла куда-то в сторону Волги.
После обеда боя, собственно, не было. Немцы немного побегали, наши немного постреляли. И все это произошло так быстро, что в памяти Ивана ничего не отпечаталось.
Но вялое наступление немцев верхнее командование приняло за слабость и решило само наступать. Была ли в этом необходимость или просто желание какого-нибудь большого начальника показать себя перед ещё большим, неизвестно.
Но одним желанием не навоюешь. Тут смекалка нужна. А с этим наверху было не густо. Поэтому решили просто: в семь артподготовка, в восемь наступление.
Танковая бригада должна поддержать. И хоть тридцатьчетверок было штук двадцать, немцев этим уже не испугаешь. Это не сорок первый. Может случиться так: пожгут – и глазом моргнуть не успеешь. Беги, наступай. В чистом поле да без прикрытия пулемёт косит людей, как траву железная коса.
Поели рано и вдобавок искромсали неприкосновенный запас, привезённый и выданный перед атакой: тушёнка, сухари и сало.
Лейтенант хотел возразить, но Иван объяснил, что надо есть. А то убьют – и кому всё достанется. Так и сказал:
– Убьют кого-нибудь, придёт немец, заберёт тушёнку и съест. А кому это надо задаром немца кормить? Пусть их Гитлер кормит.
Все поддержали Ивана. И лейтенант согласился с тем, что не стоит кормить немца. С НЗ расправились мгновенно. И пока тушёнка, сдобренная сухарями, исчезала в желудках, началась артподготовка.
Долго грохотало, и над головой в сторону немцев пролетали снаряды. И там, у немецких окопов, они дыбили землю.
Но происходило это как-то не очень. Иван смотрел и понимал, что артиллеристы бьют в белый свет, как в копеечку. И толку от такой артподготовки не будет. А только снаряды израсходуют зря. А немцев хорошо, если пощекочут, а то и этого не произойдёт.
Лейтенант стоял рядом и возмущался действиями наших артиллеристов.
– Да что ж они? Да что ж они, не видят, что ль?
Снаряды и вправду ложились то впереди, то позади. И та линия немецких окопов, прочерченная выброшенной землёй, оставалась нетронутой.
И Иван в сердцах выругался. Это ему все эти огрехи артиллеристов исправлять своей кровью.
Вдруг Гришка закричал, как кричит человек от неимоверной усталости и от бессилия что-либо изменить.
– Видите, какая война. Вспомните меня, когда все погибнем, а немец победит. До Волги отступаем. А дальше что? Я плавать не умею. Утопит немец нас, как шкодливых котят…
Всё закипело внутри Ивана, и он, не раздумывая, левой рукой хорошую пощёчину отвесил.
Гришка вздрогнул, как проснулся, и спросил обиженно:
– Ты чего?
В такой момент, когда вот-вот пойдут в атаку, любое неверно брошенное слово только усугубит то сверхнапряжение, сидящее внутри каждого.
Иван, словно ища поддержки, оглянулся на лейтенанта. Тот, как будто ничего не произошло, смотрел вверх.
Ждали сигнала – зелёной ракеты. И она, оставляя белый дымный след, тяжело поднялась над всеми.
Видно, там, на наблюдательном пункте полка, где тесно стало от прибывших генералов, посчитали артподготовку удовлетворительной и дали команду наступать.
Лейтенант посмотрел на Ивана безумными глазами, зыркнул по сторонам и, по не изжитой училищной привычке, вытаскивая наган из кобуры и поднимая над собой, громко прохрипел:
– Взвод, слушай мою команду.
Все, прижавшись к стенке окопа, с громко бьющимися сердцами, смотрели на Сашка и ждали, когда он произнесёт команду: «Вперёд!»
И он произнёс, с хрипотой, едва справившись с охватившим его волнением:
– Вперёд! За мной!
Теперь самое страшное – выпрыгнуть из окопа и, трясясь от страха, бежать, кричать и материться так, чтоб у чертей уши закладывало. А впереди прут танки, пуская солярную вонь и поднимая степную пыль.
– Вперёд! – истерично вновь кричит лейтенант.
Теперь все надо сделать быстро, иначе страх не даст разогнуться: выскакивают и, прячась за железные зады танков, бегут.
До немцев метров пятьсот, не больше. И танки двигаются не спеша. У танкистов свои дела. Быстро поедешь, пехота отстанет. Отстанет пехота, пожгут немцы. Медленно – артиллерия искромсает. Вот так, как хочешь, так и воюй.
Болванка, скользнув по броне и издав пронзительный звенящий звук, унеслась куда-то ввысь, но заставила каждого содрогнуться.
И не успели отдышаться от первого испуга, как другая вонзилась, прорвав броню. И танк, лязгнув гусеницами, остановился. И вдруг башня взлетела вверх. А за ней следом четыре молодых души.
И взвод, и Иван вместе со всеми распластались по земле. Хорошо, башня упала с другой стороны и никого не задела.
Без танка бежать страшно, а куда деваться. Некуда деваться. К другому не пристроишься.
И лейтенант обегает застывший танк, и взвод бежит за ним, стрелять некогда.
Иван вспомнил всеми словами, которые знал, артиллеристов за их работу, потому что немецкая пехота лупит что есть мочи.
Вдруг столбы взрывов покрыли поле. Немецкая артиллерия дала о себе знать.
Не успел Иван как следует поругаться на немцев, как что-то подхватило его, подкинуло и грохнуло оземь.
Стало тихо, и кончилась вдруг война. И он, счастливый, оказался дома и ходил по пустому двору, и удивлялся, куда все подевались.
Только чёрная лохматая собачка Жулька крутилась у ног, радуясь его возвращению, повизгивая и ожидая, что он погладит её. И он наклонился, чтобы погладить и сказать ей тёплые слова, как снова оказался на войне.
Изрядно потрёпанный взрывной волной очнулся под вечер.
День клонился к концу. Закатывалось солнце, из-за пыли и дыма чадящих танков оно казалось огромным и коричневым.
То ли от нервного возбуждения, то ли от контузии самочувствие было ужасное. Голова гудела. Ощупал себя, понял, что цел, и пополз обратно к своим.
Остановился, вспомнил, что нет винтовки. Без винтовки нельзя возвращаться.
Особисты шутить не будут. Нет оружия – ты трус и предатель, и пожалуйте в штрафбат.
Иван приподнял голову, но винтовки нигде не было видно. Метрах в пяти лежал, уткнувшись головой землю, Семён. Иван подполз к нему и тихо позвал:
– Сёма.
Но Семён не откликнулся. Иван тронул его и почувствовал одеревенелость и запах смерти. Нащупал и потянул его винтовку к себе, она не поддавалась, и тогда что есть силы дёрнул на себя.
Семён, не меняя позы, упал на бок. Мосинка оказалась у Ивана, он вздохнул о Семёне и пополз к своим.
Полз он медленно, часто останавливаясь и пытаясь отдышаться. Голова давала о себе знать, и любое резкое движение вызывало жуткую боль в затылке.
В окопе не ждали, думали, что всё, конец Ивану, но обрадовались как маленькому, неожиданно свершившемуся чуду.
Гришка, увидев Ивана, перекрестился и, стараясь его обнять, два раза повторил, радостно улыбаясь и едва не расплакавшись от волнения:
– Слава богу! Слава богу!
На громкие радостные возгласы прибежал Сашок, долго смотрел на Ивана и даже погладил по руке, желая убедиться, что он живой. Видимо, все осколки от взрыва достались Семёну, а ему только лёгкая контузия.
А лейтенант сказал, как бы извиняясь:
– А я уже похоронку на тебя сочинил. Доложили – лежишь бездыханный.
И все, стоявшие рядом и слышавшие слова взводного, решили, что это хорошая примета. И Ивану теперь жить и жить.
Пока обсуждали этот момент, он вспомнил, что не ужинал. Но все развели руками. Ужин честно поделили между живыми.
Иван, уже слегка поругал себя за то, что съел НЗ, и рассерженно подумал: «На войне постоянно чего-то не хватает: то еды, то боеприпасов, то покоя. Зато вдоволь мин, которые прилетают, бомб, которые падают, снарядов, что рвутся совсем рядом. И всё это для того, чтобы убить тебя».
Даже Григорий, до слёз обрадовавшийся возвращению Ивана, не смог ничего предложить. Да и какой с него спрос. Он человек не запасливый, не добытчик, одним словом. Только стоял и причитал, поглаживая руку Ивана:
– Господи, счастье-то какое, господи.
Так бы и стоял Гришка истукан истуканом, но Иван, стукнув ладонью о край окопа, сказал строго:
– Всё, спать.
И все разошлись. И Гришка пошел спать, вытирая рукавом слёзы, выступившие от радости, и долго не мог заснуть от волнения и крутился с боку на бок. Наконец, успокоился и заснул. И снились ему дом, мать и Зорька.
Иван тоже никак не мог заснуть. Он слушал далёкую, то затихавшую, то усиливающуюся канонаду, словно огромные, до неба, часы отбивали время.
Нестерпимо захотелось есть. Конечно, у кого-нибудь есть заначка. Но кто признается, а тем более отдаст последнее. И вдруг он вспомнил про Семёна. Сидор на нем, и никто мертвяка не тронул.
А Семён – парень прижимистый. У него, что ни спроси, всё есть. Давать-то он давал, но и возвращать требовал вовремя, и хоть проценты не брал, но свой интерес всегда соблюдал. А тут не стало Семёна, а сидор при нём, не тронутый.
Народ во взводе суеверный, у покойника и пылинки не возьмёт. Но Ивану не до церемоний, жрать хочется так, что хоть криком кричи.
Он долго вглядывался в темноту. В гладкой степи заметить бугорок нетрудно. Вот он, метрах в ста.
И не думая, что немцы могут обнаружить и открыть огонь, Иван осторожно выбрался из окопа и, работая локтями, всё время прислушиваясь, пополз в нейтралку.
Хоть и ночь, а ухо держи востро, мало ли что ночью немцам вздумается: может, и они, с голодухи, как Иван, пойдут вещмешки потрошить.
Нет, немцы вели себя тихо. Покушали хорошо, вот и спят. Только пиликала губная гармошка. Видно, часовому скучно, вот он и пиликает. Иван даже подумал:
– Пусть пиликает, лишь бы не мешал.
Семён лежал так же, на боку. Иван попытался снять вещмешок, но закоченевшие руки Семёна не сгибались. Пришлось развязать сидор, выложить всё на землю. Снять, а потом запихнуть всё обратно. В портянке оказались сухари, банка тушенки, пшённый концентрат и пачка махорки, кузнечный комплект, верёвка и ещё какие-то бумаги. Письма, подумал Иван. И решил, что утром отправит их на родину Семёна.
Правда, при возвращении чуть не случилась оплошность. Их часовой, заслышав шуршание, уже передернул затвор. Но Иван вовремя подал голос, так что отделался лёгким испугом. А поделив с часовым поровну добытые продукты и употребив свою половину, с чистой совестью пошёл спать.
И спал бы неизвестно сколько, если бы его не разбудил свалившийся словно ниоткуда, вечно улыбающийся ротный замполит.
– Здравствуй, Иван Евсеевич, – обратился и протянул чистую руку Ивану.
Ивану было неудобно своей грязной, давно не мытой лапищей жать замполиту чистую руку, но и не жать нельзя.
А замполит неожиданно спросил:
– Как поживаешь, Иван Евсеевич?
– Да вот, контузия проклятая, на слух оглушен и ослаб.
– Живой. И это главное. А контузия не сегодня завтра пройдёт, – заключил замполит.
Иван соглашаясь покивал головой и при этом подумал, правда ли замполит такой уважительный или должность обязывает. Неизвестно, как дальше развивался бы ход мыслей Ивана, но замполит неожиданно спросил:
– Не пора ли тебе, Иван Евсеевич, заявление в партию подать?
Иван, от неожиданности не зная что ответить, переминался с ноги на ногу. Замполит внимательно посмотрел на Ивана, пошел дальше, на прощание сказав:
– Ты подумай.
Иван козырнул, едва разодрав слипшиеся глаза, и никак не мог сообразить, чего замполиту надо. Сидел бы в своём окопе да в небо поплёвывал. А то бродит туда-сюда. Снайпер шутить не будет, вгонит пулю по самые уши и охнуть не успеешь. Но говорить это замполиту не стал. Не маленький, сам всё понимает. А крути не крути, а замполит – все одно начальство. А начальство советов терпеть не может. Они себе на уме. Вот пусть этим умом и живут.
А тут взводный пришёл, вспомнил про Иванову контузию сам или замполит надоумил, но сказал с сочувствием:
– Отправляйся в санчасть.
Иван и сам был не прочь отдохнуть, но смекнул, что в санчасти для легкораненых всегда находится работа: то таскать, то носить, то копать, а питание не лучше, потому решил остаться.
Взводный знает, все знают, а потому сильно нагружать не будут. Он и сказал взводному:
– Разрешите остаться?
– Смотри, Иван, – ответил немножко обрадованный лейтенант и добавил: – Как бы хуже не было.
– Пройдёт, – убедительно ответил он.
Лейтенант ушел, а Иван продолжил прерванный замполитом сон. Его никто не тревожил, все понимали: контужен человек, пусть отдыхает.
Так Иван, почти на дурачка, проплевал в небо два дня. И при каждой раздаче в его котелок попадало и погуще, и повкуснее. Так что жаловаться грех. Голова прошла, или почти прошла.
На поле валялись разлагающиеся от жары трупы неприбранных людей, над ними кружили рои мух и вороны. И когда ветер тянул в их сторону, от смрада аж глаза слезились.
Хорошо, что не наступали. Там, наверху, наверное, наконец-то, поняли, что наступать с кондачка пустое занятие. И не стали больше этого делать, потому, что за неудачное наступление надо отчитываться, да и за снаряды тоже. Вот за потери оправдываться не надо. Солдат, слава богу, ещё хватает.
Иван вспомнил, что давно не писал домой: то места нет подходящего, то времени. И при теперешней расслабленности самое время отписать жене. И пока писал, наступило затишье: то ли немцы решили отдохнуть, то ли снаряды экономили. Так что письмо Иван писал в полном покое, а потому всем родственникам и знакомым передал поклон, никого не забыл, даже о дворовой собаке Жульке справился, как она там поживает. И довольный собой сложил лист в треугольник, сунул в карман и решил посмотреть, что-то тихо в немецкой стороне, не наступает ли немец, пока они тут от безделья расслабились, и только высунул голову, как пуля чиркнула по каске.
От испуга Иван чуть в штаны не наложил. Хорошо хоть обошлось, вот смеху-то было бы. Сунул руку в карман, нащупал письмо, вспомнил про письма Семёна и решил их отправить со своим вместе.
Нет, листки из сидора Семёна оказались не письмами. С аккуратностью школьника в них было записано, кто что сказал, кто что сделал, было в листках и про Ивана.
– Вот, значит, какой ты гусь был, – возмутился он.
И стал думать о Семёне. Сам ли он таким стал или ему помогли, нашли слабину и давай тянуть. Не успел оглянуться, а уже в дерьме по самые уши.
Вот так и живёшь, вроде не замечает тебя власть, а чуть где оступился – и уже тут как тут бравые ребята. Заломают руки и пошло-поехало. Такого напишут, что расстрел для тебя – это ещё награда.
Но в этот раз снаряд, сам того не желая, остановил эту машину.
Наверное, найдётся другой продавец солдатских душ, обязательно найдётся, как же без этого. И это сейчас, в такое время, когда каждый боец нужен, их ведь и так не хватает.
Это в штабах народу в избытке, а здесь, на передовой, каждый день кого-нибудь обязательно то ранят, то убьют.
После прочитанного Иван всё думал, куда деть эти бумажки, чтоб духу их не было. Сжечь у всех на глазах нельзя: начнут спрашивать, что да зачем. Одна надежда закопать их, тем более что повод взяться за лопату был, надо пристроить сидор Семёна. И он стал копать. А взводный его спросил:
– Что делаешь, Иван Евсеевич.
– Да вот под сидор полочку копаю.
– У тебя вроде есть.
– Да я под семеновский.
Это было естественно, сидор в солдатском житье-бытье – вещь нужная, а потому хранить его стоило. Тем более Семён ещё торчал на поле неубранным.
Иван сделал на полочке небольшую ямку, сложил смятые в комок бумаги и присыпал землёй. Слегка притрамбовал и водрузил изрядно похудевший вещмешок на полочку.
Едва разогнулся, перед ним оказался взявшийся словно ниоткуда лейтенант. У Ивана чуть челюсть от удивления не отпала.
Был лейтенант во всем чистеньком, даже воротничок белый подшит, сапоги только слегка запылились, как будто с неба спустился, но на ангела не был похож. А судя по чистому обмундированию и сапогам, то из штабных.
Там таких много болтается и все при делах и больших поручениях, а потому важность в них огромная.
Лейтенант без предисловий спросил:
– Были позавчера в наступлении?
– Так точно.
– А Сидоркина при вас убили?
– Снаряд или мина. Осколки Семёну, а контузию мне.
– А чего ж не похоронили? – спросил лейтенант, выглядывая из окопа.
– Снайпер немецкий лютует.
Иван показал на вмятину на каске.
Лейтенант стушевался и, кажется, даже стал ниже ростом, но больше из окопа не высовывался. И пристально глядя Ивану в глаза, спросил:
– А сидор где?
– Вот мешок, на полочке лежит, – показал Иван.
Лейтенант замер и смотрел куда-то вниз, словно какие-то мысли отвлекли его. Больше ничего не сказал и не спросил. Забрал вещмешок и исчез так же неожиданно, как появился.
И только тут Иван пожалел, что не взял у Семёна из мешка пачку махорки. А то лейтенант её выбросит, он ведь такое курить не будет. Ему папироски подавай. Такие мальчики при штабах сидят и всегда при наградах и благодушном расположении начальства.
А спроси то же самое начальство, кто в третьей роте лучший стрелок, оно и не ответит. Оно и не важно, для начальства не важно. А важны отчёты, без помарок наверх и прочая, прочая, что к происходящему, то есть к войне, имеет очень уж косвенное отношение. И никакая война не может помешать им проявить свои способности, сделать хороший доклад вышестоящему начальству, чтоб оно, начальство, при раздаче наград вспомнило и про них, не щадящих живота своего на ниве крючкотворства.
Семён погиб, не успев сказать ни единого слова, ничего не передал ни своей невесте Серафиме, ни матери.
Раз – и нет человека, так, словно его и не было на этом свете. И рухнуло всё, что связывало его с этим миром и живущих, и помнящих о нём.
А война, то завывая, то затихая, не кончалась. Для всех, пока ещё живых.
Кончилась она только для Семёна. И пока всё шло своим чередом, похоронка на чёрных крыльях прилетела в родное село Семёна.
Серафима Степановна не кричала, не рвала на себе волосы, надела на себя пиджак Семёна, сшитый к свадьбе, завернула рукава и проходила в нём до самой смерти. Что творилось у неё в душе в тот день? Что? Да как поможешь такому горю?!
А мать Семёна села в избе у окна на лавочку и просидела недвижимая целый день, словно время для неё остановилось. И даже слёзы не вышли наружу, а сгорели где-то внутри. И от того, что беда не вырвалась, не разнеслась по селу надрывным криком, было ещё тяжелей.
И есть ли, есть ли на свете такие слова, которые успокоят мать, потерявшую сына?
И только утром она поднялась со своего места и пошла кормить скотину. Соседка, пришедшая ей помочь, облегчённо вздохнула, перекрестилась и сказала сама себе:
– Слава богу.
И с этого момента до самой смерти не было дня, чтобы не думала о сыне и не разговаривала с ним, рассказывая ему про свои дела и деревенские новости. Она никак не могла смириться с мыслью, что его нет, ей казалось, что он живой.
А казённая бумага ошиблась, такое часто случается. На войне всякое бывает: скажут убит, а он живой. Вот и её Сёмочка живой. А как война закончится, то вернётся домой. Обязательно вернётся. Верила, до самой своей смерти верила. Не могла не верить.
Опять Григорий
Но это где-то далеко, а здесь уже второй год война, которой конца не видно.
В этот же день, под вечер, немец от скуки стал кидать мины. Длилось это не особенно долго. Но когда мина приближается к земле, ее хвостовое оперение свистит так, что кажется, будто кишки у тебя из живота тянут. Уже про себя думаешь: «Вот моя».
А она, глядишь, ударила за траншеей.
В общем, в этот раз обошлось без потерь. Наконец и немцы успокоились. Порядок у них такой, всё по расписанию. Десять мин отстрелял – иди отдыхай. Через час повторят, а может, через два.
И наступило то редкое затишье, какое бывает на войне нечасто. Наверное, бывает только для того, чтобы люди, погрузившись в себя, осознали, что же творится вокруг них.
Тишина звенела, успокоенная степь блестела под лучами заходящего солнца. И народ, распрямившись и стряхнув свежую пыль, стал двигаться туда-сюда. Григорий, как все, прохаживаясь по окопу, нет-нет да поглядывал на лежащую на нейтральной полосе фигуру Семёна.
Солнце между тем закатилось, и наступившие сумерки накрыли землю.
Григорий, оглянувшись по сторонам, сказал вслух:
– Эх, была не была.
Перекрестился и, сказав сам себе «с богом», прихватив верёвку, пополз в направлении Семёна. У подошедшего взводного глаза полезли на лоб, и он спросил у стоявшего рядом Ивана:
– Кудай-то он?
– Сдаваться, – полушутя ответил тот.
Взводный побелел как полотно. Наверное, в воздухе запахло трибуналом, и он стал глотать воздух, как рыба, выброшенная на берег. И рука его потянулась к кобуре.
Но немецкий снайпер проснулся, и пуля проскочила между Иваном и взводным. Уговаривать они себя не заставили, тут же присели, и в душе каждый уже попрощался с Гришкой.
Долго ли, нет ли так сидели, прошло неизвестно сколько времени. Выглядывать желания не было. Немецкий снайпер шутить не любит. Пули свистели не переставая и цокали, ударяясь о бруствер окопа.
Но вдруг им на головы свалился Гришка. Они сначала опешили, а только потом, уразумев, в чём дело, дали волю словам. Взводный стал материться, и Иван громко помогал ему, налегая на крепкие слова.
Гришка, уже стоявший на земле, а не на их головах, слегка улыбаясь рассказывал про своё приключение:
– Я, значит, ползу, а он стреляет и стреляет. Уж я грешным делом подумал, что сейчас попадёт, а он мажет и мажет. Руки, что ль, у него с перепоя или недосыпу трясутся. Только всю шинель издырявил.
Григорий откинул полу, и взводный, и Иван, и Сашок увидели три дырки, покачали головами и спросили возмущённо в один голос:
– Какого чёрта полез под пули?
– Во, – показал Гришка верёвку.
– Что во, что во, – возмутился, ещё ничего не понимая, взводный, и при этом потрясая ладонями.
А Григорий, не выпуская из рук конец верёвки, сказал:
– Притащим и похороним.
И тут до них дошло, что Григорий сползал к телу Семёна, привязал к его ноге верёвку и теперь только надо притащить и похоронить его.
Ждали долго, пока совсем стемнеет и немецкий снайпер успокоится. А тому в этот день не везло, вот и бесился. Пули не переставая чиркали по краю окопа. К вечеру затих, устал, наверное.
И они что есть силы навалились на верёвку.
Воронку Семёну выбрали недалеко. Дождались темноты и бездыханного потащили туда ползком. Иван даже пошутил:
– От такой ползучей жизни у меня на пузе ноги скоро вырастут.
Так же, лёжа на боку, присыпали. Хоть и не очень хорошо, но вышло. Не под чистым небом кости белеют, а как положено, в земле.
Что бормотал Гришка над могилой Семёна, какую молитву читал, ему одному ведомо, но возражать никто не стал, даже взводный. А тот, окончив своё бормотание, с чувством выполненного долга, произнёс:
– Слава богу.
И никто не мог понять, как это Гришка потащился под пули, чтобы вытащить тело Семёна и похоронить по-людски. Даже Иван не одобрял этот поступок. Но глубоко внутри он считал, что Гришка поступил правильно, хотя и безрассудно.
А Гришка после похорон притулился к стенке окопа и то ли заснул, то ли задремал, и никто его не беспокоил.
С этого случая все поменяли мнение о нём. Даже ротный, прознавший про это, нежданно появился во взводе, похлопал его по плечу и сказал:
– Молодец, Григорий.
Другой бы вытянулся в струнку, а Гришка плечами дёрнул, только и всего. Ротному это не понравилось, но от Гришки ждать другого бесполезно. Блаженный, одно слово.
Ротный появлялся во взводе нечасто и поэтому, кроме хлопот, Сашку ничего не доставлял. А погуляв туда-сюда и убедившись, что всё идёт своим чередом, ушел к себе.
Взводный после его ухода облегчённо вздохнул.
Через пару дней замполит принёс дивизионную газету. В ней маленькая заметка, как красноармеец Г.А. Смирнов вытащил раненого товарища с поля боя. Никто бы и не подумал, что это про Гришку. Но замполит подал ему газету со словами:
– Читай, про тебя написано.
Григорий смутился, взял газету и стоял как истукан, пока замполит не ушёл. Газета пошла по рукам. Только теперь во взводе узнали Гришкину фамилию. Под заметкой стояла фамилия замполита.
Иван, подержав в руках газету, спросил Григория:
– Отчество у тебя как?
– Александрович.
– Хорошее отчество, – заключил Иван.
Григорий не ответил, в общем-то, этого Иван и не ждал, но сказал:
– Газету-то убери. Матери покажешь. Пусть порадуется.
Григорий достал чистую портянку, завернул в неё газету и убрал в вещмешок. По его лицу скользнула улыбка, видно, вспомнилась мать.
А потом он долго смотрел в степь, словно видел там что-то близкое ему, а может, просто смотрел. А куда ещё смотреть – кругом степь.
И немцы в этот вечер не усердствовали. Изредка только лениво постреливали, но, скорей, для порядка, чем для какой-то цели. Без этого никак нельзя. Война одно слово.
И наступила ночь. И кроме часовых, больше надеющихся на слух, чем на глаза, все спали.
Только стрёкот наших ночных бомбардировщиков нарушил наступившую тишину.
И там, в немецких окопах, вздрогнули, ожидая только плохого.
И это случилось, на головы немцев посыпались мелкие бомбочки. И хоть вреда от них было не особенно много, но если просидеть полночи, вздрагивая от разрывов, то утром просыпаешься полуживой. И какой из тебя солдат, когда глаза закрываются на ходу, и если такое случается из ночи в ночь, то голова идёт кругом. И безразличие овладевает человеком.
Но война расслабленности не прощает. Чуть зазевался, высунул голову больше, чем надо, или распластался на мгновение позже, и вонзится в тебя пуля или осколок разорвавшийся мины. Хорошо если ранит, а случается и хуже. Но об этом не хочется думать. Хотя мёртвым хорошо, мёртвым не страшно…
А через несколько дней из штаба полка пришёл посыльный и потребовал Ивана и Гришку к командиру для награждения.
И батальонный появился в их окопе вместе с посыльным.
Долго смотрел на стоявших перед ним Ивана и Григория и думал: если они в таком затрапезном виде предстанут перед светлые очи Кашалота – комполка, прозванного так за большой рот, который открывался только для того, чтобы наорать или хотя бы вылить на голову виновного или невиновного негодование, которое, не переставая, кипело в нём, то уж нагоняя за их вид не избежать, но вслух сказал:
– Что же мне с вами делать-то.
Махнул рукой, понимая, что ничего нельзя исправить, голосом обреченного человека – криков и бубнежа Кашалота не избежать – и сказал:
– Пошли.
И не оглядываясь выбрался из окопа и пошел в сторону командного пункта полка.
Иван посмотрел на Гришку, оглядел себя и подумал:
– Хорошо бы хотя бы умыться. Но вода, вода… Где взять?
Поэтому махнул рукой, как бы приглашая Григория, и сказал, сожалея, что предстанут перед большими начальниками в таком неприглядном виде:
– Пошли.
Гришка, до этого смотревший на все с полным безразличием, словно его ничего не касалось, поспешил за Иваном.
Не верилось, что можно встать и идти по земле, а не ползти. Это было странным.
Казалось, сейчас немцы начнут стрелять, а им, покинувшим родной окоп, и схорониться негде. Ивану, всё время оглядывающемуся назад, думалось, что он под прицелом у снайпера, вот-вот – и тот выстрелит.
Они шли и шли, и никто не стрелял. И он забыл про снайпера и сожалел об одном, что завтрак ещё не принесли, а когда вернутся, всё будет холодное. А с утра, если получалось, стакан сладкого горячего чая был бы кстати.
Сашок проводил их взглядом, сожалея, что люди из его взвода предстанут перед начальством, как замухрышки, и это ему поставят в вину. А что он может сделать, воды не хватает на всё. На питьё не хватает, а уж об остальном и говорить не приходится.
До штаба километра три, так что добрались быстро.
В небольшой балке, прямо в отвесных стенах вырыты землянки. И укреплены не абы как, а хорошим лесом. Иван, глядя на это, подумал: «Сколько же надо времени и сил, чтобы всё это построить. Одного материала сколько ушло. А потом в одно мгновение всё бросить и уйти. Сколько раз уже так было».
Посыльный исчез в одной из землянок и как сквозь землю провалился. Батальонный, не ожидая ничего хорошего, топтался рядом. Ему хотелось поговорить хоть с кем-нибудь, излить душу, но кругом одни штабисты. Вроде такие же люди, а шугаются от окопных, как чёрт от ладана. И тоскливо стало от предстоящей встречи с Кашалотом.
Пришлось ждать, начальство завтракало. И пока они так стояли, мимо них проносились, едва не задевая, то капитан с бумагами, то посыльные с пакетами, то просто какой-то важный молодой лейтенант вышагивал так, будто он тут самый главный.
И все чистенькие и опрятные, видно, в воде здесь не знали недостатка.
И Ивану стало обидно, что другие живут, как люди, а они, на ком, собственно говоря, война держится, как скотина, обитают в чистом поле, в грязи, холоде и постоянных мыслях о еде. Но что больше всего поразило Ивана: не слышно войны. Где-то, наверное, грохотало, но сюда не доносились эти пугающие, но привычные его ушам звуки.
Вдруг появился чистенький лейтенант, видно, по окопам такая гимнастёрочка не тёрлась, посмотрел на них и спросил, с сожалением качая головой:
– Что ж вы, как черти, грязные?
И уже раздраженно, понимая, что ничего не поделаешь, за пять минут, даже при всём старании, не приведёшь их в божеский вид, добавил:
– Служишь, служишь, и спасибо не скажут. А тут по полгода не умываются, пришли и ордена им подавай.
Иван посмотрел на него, промолчал, но подумал: «Посидел бы ты хоть недельку в окопах, посмотрел бы я на тебя».
Гришка вообще не слушал, крутил головой, рассматривая командный пункт. Ему тоже была в диковинку чужая и неплохо обустроенная жизнь. Но он не возмутился, как Иван, понимая, что так только для высоких людей такое положено, а ему и так сойдёт, как есть.
Это у Ивана справедливость одна, а у Григория другая.
А лейтенант, не замечая батальонного, подумав, добавил, сожалея, что эти двое в своём неказистом виде предстанут перед командиром полка, а виноват будет он, потому что не обеспечил должного вида:
– Что ж мне с вами делать?
Иван пожал плечами и неожиданно сказал:
– Поесть бы не мешало.
– Поесть – это хорошо, – согласился лейтенант, почувствовав что-то человечески простое в его просьбе и добавляя на ходу: – Поесть – это правильно. Сейчас организуем.
И потирая руки, пошел в сторону ответвления оврага, откуда тянуло сладковатым запахом кухни.
Батальонный, чуть сгорбившись, стоял в стороне, поглядывая на отвесные стены оврага. Лейтенант вернулся скоро, с едой не повезло. Видно, у него что-то не срослось, и, как бы извиняясь, произнес:
– Не судьба вам сегодня позавтракать.
– Нам не привыкать, – успокоил его Иван, сожалея о том, что из-за наград они пропустили самое главное в солдатской кочевой жизни – завтрак. А когда вернутся, придётся давиться закоченевшей и ставшей комковатой кашей и холодным, а потому не вкусным чаем.
Вышли командир полка и, наверное, начштаба. Оба до синевы выбритые, в слегка запылённых сапогах и, что больше всего поразило Ивана, от них пахло одеколоном.
Подполковник посмотрел на Ивана и Гришку и, смеясь, кивая на них, хлопая большим ртом, как кошельком, сказал майору:
– Страшные, как черти. От такого вида немцы сразу разбегутся.
И повернувшись к ним, спросил, кивая на Григория:
– Ты, что ли, танк подбил?
– Я, – сказал Иван, выдвинувшись слегка вперёд.
Кашалот зачем-то открыл и закрыл рот, взял руку Ивана и со словами: «Носи, солдат», – вложил ему в ладонь орден Красной Звезды. А Григорию просто сунул медаль «За отвагу». И тут же, повернувшись, забыл об их существовании.
Но увидев батальонного, остановился, переменился в лице и поманил его пальцем. Капитан, приложив пальцы к виску, строевым шагом подошел к комполка. А тот, не дав ему раскрыть рот, сказал:
– Значит, когда тебя немцы огнём поливали, ты и отступил?
– Так точно.
– А ты, значит, хотел, чтобы они тебя одеколоном «Шипр» поливали. Вон у тебя какие бойцы – герои. А сам ты тьфу. Гнать тебя надо с батальона. – И хлопая большим ртом, повторил: – Гнать!
И комполка плюнул батальонному под ноги, повернулся и ушел в землянку. Как только плащ-палатка, висевшая на входе вместо двери, опустилась за ним, все засуетились, забегали. Штабная жизнь оживилась. Лейтенант, занимавшийся ими, облегчённо выдохнул и сказал вслух:
– Пронесло.
И мгновенно забыв про них, исчез в соседнем блиндаже.
Они немножко потоптались на месте и, осознав, что ничего больше не предвидится, пошли к себе.
Впереди комбат, они за ним. Раньше Иван думал, что комполка – бог или почти бог, а посмотрел на него со стороны и понял, что никакой он не бог, а простой человек. И, может быть, даже не самый лучший.
Начальник артиллерии, уже получивший нагоняй за то же неудачное наступление, шёл навстречу. И комбат, остановившись и перегораживая дорогу своей фигурой, сказал:
– Что ж ты меня под монастырь-то подвел?
Артиллерист посмотрел на него сверху вниз и ничего не ответил, обходя разозлившегося комбата, а тот, глядя на круглую довольную рожу главного артиллериста полка, сказал громко:
– Сука ты.
Тот опешил, не сознавая своей вины, хотел ответить, но комбат, отмахнувшись от него, торопливо пошёл дальше.
В его голове не переставая крутились слова комполка, горько ему было услышать про себя такое. Хотелось выть от досады. Но плетью обуха не перешибёшь, с начальством не поспоришь.
Комбат шел впереди и размахивал руками, то сжимая кулаки, то растопыривая пальцы, словно продолжал говорить что-то в своё оправдание перед комполка, то, что не сказал там, у землянок.
Иван с Григорием шли сзади. Они всё понимали, было жаль комбата, но помочь ему не могли. Даже слова сочувствия и те были бы к месту. Хорошо бы Иван подошел и сказал с теплотой в голосе:
– Да не рви ты, Василич, сердце.
Но постеснялся, не подошел и не произнёс.
До своих дошли молча. Иван с Гришкой возбуждённые, награды не каждый день вручают. Батальонный без настроения.
Взводный встретил их радостно, и пока крутил награды, разглядывая поочерёдно то звезду, то медаль, они успели расправиться с остывшей кашей.
Хорошо бы отметить такое событие, как-никак первые награды во взводе, но водки нет, а без неё нельзя. Поэтому, сожалея, что невозможно отпраздновать, взводный вернул награды и пошел с хорошим настроением по окопу.
А сослуживцы с легкой завистью подходили и поздравляли их. Иван, принимая поздравления, сказал недовольно:
– Лучше б каши побольше оставили.
Все только развели руками. Дескать, и так тебе больше всех досталось.
Так и закончился этот день, не по-военному тихо.
– Эх, – вздохнул Иван.
И прикрутив награду к гимнастёрке, посмотрел, ладно ли сидит, сказал иронично сам себе:
– Не было бы счастья… Да налили…
А глянув на Григория, добавил улыбаясь:
– Сколько веревочке ни виться, а награда всегда найдет своего героя.
И мысли не оставляли его, никак не мог понять, почему так. Почему поразительная разница существует между передовой, где льётся кровь, где страдание, где смерть, непосильная работа, жара летом, мороз зимой, где и жить-то невозможно, и тылами. Там другой мир. Другая жизнь.
Высокие звания и должности много значили на войне. Им, привыкшим в мирное время сидеть в кабинетах, подписывать много бумаг, делать смотры, наведываться к высокому начальству и иногда присутствовать на ученьях, где даже неправильное решение не приводило к катастрофе – ну, пожурят сверху, этим всё и заканчивалось, – а теперь противник не хороший знакомый, а враг. И люди гибнут по-настоящему.
А они, облаченные самыми высокими полномочиями посылать людей на смерть, ради победы, ничего не делают. Они так и не вырвались из мирных представлений о войне, но всякий раз спрашивали себя, почему все эти неудобства они должны переносить наравне со всеми. Они, высокие люди… Они принимают решения, они привыкли принимать решения. Но не хотели понимать главного: война – это кровавая и беспощадная бойня, и рассчитывать на успех битвы могут лишь те, кто овладел искусством управления, а это сложная задача, ибо такое искусство вырабатывается не в кабинетах мирной жизни, а в кровопролитнейших битвах.
До чего бы додумался Иван, неизвестно. Но война своим нескончаемым гулом вернула его к реальности.
И Григорий, крутивший в руках медаль, как новую занятную игрушку, казалось, не представлял, к какому месту её приложить. И если с Иваном всё ясно, то награждения Григория никто не ожидал. Но что случилось, то случилось. Иван посмотрел на Григория и сказал строгим голосом:
– Убери, а то потеряешь. Другую не дадут. Дома матери покажешь.
Гришка послушно, завернув в портянку и завязав в узелок, убрал медаль в вещмешок. И на мгновение нахлынувшие воспоминания о доме, вызванные упоминанием о матери, заставили Григория улыбнуться.
И Иван, глядя на него, улыбнулся. Всё-таки не чужой человек, столько времени вместе. На войне день за год, день прожил – и слава богу. А если разобраться, то они, почитай, тыщу лет знакомы. Поэтому добавил, полушутя-полусерьезно:
– Ты теперь жених завидный. Герой. Все невесты твои. Выбирай любую. Медаль на грудь – и вперёд.
Гришка зарделся, опустил голову, словно Иван смог прочитать его потаённые мысли. О той, о которой он вздыхал не раз. И даже мать не догадывалась, о ком он вздыхает. Даже Зорьке он не говорил. А о чём говорить, только на посмешище себя выставить. Но где-то внутри теплилась надежда. И после слов Ивана, огонёк стал ярче. Надежда на внимание засияла сильнее.
День закончился, но это событие долго не давало всем заснуть. Если против Ивановой звезды никто не возражал, то с Гришкиной медалью никто не соглашался.
Утром другие события отвлекут от пустых, в общем-то, размышлений.
Кузнечик
Уж такая военная жизнь: раньше, чтоб увидеть, что делается под ногами, приходилось наклоняться, а из окопа всё перед глазами. К этому надо привыкнуть, что глаза всегда на уровне земли. Когда к этому привыкаешь, многое перестаёшь замечать.
Утром Иван, проснувшись, посмотрел на безоблачное небо, нехотя поднялся, сходил по малой нужде, а после этого всегда бывает расслабленность.
И случайно посмотрел не в сторону немцев, куда все смотрят всегда, а в сторону Волги, куда если и смотрят, то от случая к случаю. И в пожухлой траве увидел кузнечика.
Тот, слегка покрытый пылью, сидел недвижно. Казалось, что жизнь в маленьком тельце прервалась.
Но присмотревшись, Иван заметил, что тот перебирает лапками, порадовался этому. И сказал, обращаясь к новому знакомцу:
– Что, брат, и тебя война пылью обсыпала?
И добавил:
– Тоже небось не сладко. Вон, и травы-то хорошей нет.
А подумав, продолжил:
– С таких харчей не располнеешь.
Хотел Иван дать зелёную травинку кузнечику, но ничего и близко, и вдали не было. Кругом один пыльный сухостой. А его никто есть не будет.
– Да, брат, на войне всем не сахар.
– И с кем ты разговариваешь? – поинтересовался подошедший Сашок.
– Да вот живность объявилась на нашей территории.
Взводный, прищурившись одним глазом, посмотрел на кузнечика, улыбнулся и подхватил шутку:
– Намекаешь, надо его на довольствие поставить?
– А что, запишем красноармеец Кузнечик. Глядишь, на него лишнюю пайку и дадут.
– Может, ты и прав, – согласился Сашок.
– Ну не траву же пожухлую есть. Он же не корова, сеном не питается.
– А чем? – поинтересовался взводный.
– Чем-чем, не знаю чем, – пожимая плечами, ответил Иван.
Пока они рассуждали, не заметили, как возле них собрался весь народ.
Новое развлечение, раньше не наблюдаемое, а потому не привлекавшее внимания, появилось во взводе. Всем хотелось посмотреть на нового жильца, а некоторым даже потрогать.
Но Иван был начеку, останавливал словами:
– Не трогай, испугаешь.
А особо ретивым бил по рукам и возмущался:
– Дай вам волю, всё затопчете.
И на них же выругался ласково:
– Охломоны.
Целый день тишины, взвод обсуждал кузнечика, сожалея, что нет такого маленького обмундирования, чтобы одеть его по всей форме. И все смеялись, рассуждая о новом пополнении.
А оно, это пополнение, даже и не знало об этом, продолжая сидеть, как и сидело. Иван даже подумал:
– Может, он тоже контужен.
И ему стало жаль нового соседа. В обед, нацепив на травинку кусочек хлеба, подал новому знакомцу. Но тот есть не стал. И Иван согласился с ним, сказал извиняющимся голосом:
– Твоя правда, харчи не ахти какие. Но где других-то взять? Сам видишь – война кругом.
Кузнечик молчал, соглашаясь с ним. А Иван продолжал, обращаясь к нему:
– Ты бы себе, брат, окоп вырыл. А то, неровен час, грохнет так, что костей не соберёшь. Немец шутить не будет.
Иван ещё долго разговаривал бы с кузнечиком. Но день приближался к ночи, и после не очень сытного ужина, пожелав кузнечику спокойной ночи, уже сам подумывал пристроиться спать, как неожиданно в сумерках на позиции прибежал ротный.
В одной руке держал гранату, в другой пистолет и приказал немедленно отойти на новые позиции.
– Отступать, – невесело скомандовал взводный, выслушав приказ начальства.
Ему тоже, как и всем, на ночь глядя, тащиться неизвестно куда и маяться от безделья, пока взвод копает окопы. Это не радовало.
Хорошо, что ночью немецкие самолёты не летают.
Отступать, когда барахла с каждым днём всё меньше и меньше, легко. Собирать, кроме лопат и топоров, было нечего.
И Иван подумал, что, если так дальше пойдёт, у него из обмундирования одни портянки останутся.
Перед тем как выбраться из окопа, Иван подошел к тому месту, где по его прикидкам должен сидеть кузнечик, и сказал с легкой грустью, возникающей при расставании с новым, но приятным знакомым:
– Прощай, брат. Ты тут сильно не скучай. Мы скоро вернёмся.
Подумал, потоптавшись на месте, и добавил:
– Все одно вернёмся. Осталось недалеко до города, за один день дойти можно. Как немец ни упирается, а все же он побежит назад. Недалек тот день, когда вся страна будет свободной. Так что, брат, не отчаивайся. Жди нас.
Хорошо бы его было взять с собой. Пустой спичечный коробок для него бы нашли. Но где его отыскать в такую темень.
В наступившей на мгновение тишине стало слышно, как застрекотал кузнечик.
И все во взводе вспомнили про него, и всем стало грустно уходить с обжитого места и от нового знакомца.
Война не ждёт. Война торопит. У неё своё время. Для кого-то оно остановилось, для кого-то ещё продолжает идти. И в этом времени нет ни часов, ни минут, а есть кровавые события, которые, следуя одно за другим, и обозначают время войны.
74‑й разъезд
Взвод выбрался на дорогу и пошел в направлении города.
Ивану казалось, что сейчас упадёт на землю и не хватит сил подняться, а будет лежать до тех пор, пока не заболят бока.
Но ноги всё несли и несли, и не было конца движению истомлённых войной людей.
Где им обозначено место, никто не знал. Шли, пока не остановят и скажут: здесь линия обороны.
Хорошо если овражек рядом, можно худо-бедно хоть не блиндажик вырыть, а нору. Всё крыша над головой. А уж заберёшься туда, и жить становится веселей.
Но взводу, да и всей роте, не повезло. Место выпало в чистом поле. Как говорится, сто верст – степь вперёд, сто вёрст – назад. Как хочешь, так и крутись. И если б не железнодорожный разъезд между станциями Абганерово и Тингута, то и не поймёшь, где ты находишься.
Уже утром на стоявшем прямо километровом столбе разглядели черные на белом фоне цифры 74.
Таких разъездов тысячи по России. Водонапорная башня с водоразборной колонкой, полуразрушенный, почти пустой угольный пакгауз, будка обходчика с вывороченным окном и два семафора, обозначающие вход и выход. Правда, один, вырванный взрывом бомбы, лежал на рельсах, перегораживая дорогу. Семафор с другой стороны стоял как ни в чем не бывало и показывал «путь открыт».
И никто, никогда, в никакие времена не узнал бы о существовании разъезда, кроме тех, кому случалось проезжать мимо, и тех, кто обслуживал это техническое сооружение. Если бы не война.
И вдруг это ничем не примечательное место сначала обвели кружочками на топографических картах, а потом название зазвучало в приказах о наступлении с той и другой стороны. И наконец, название «74‑й километр» прозвучало в сводках с фронта и появилось в газетах.
Насыпь железной дороги – хорошая линия обороны, стоит её слегка укрепить, отрыть окопы.
Перед тем как копать, Иван сходил к водонапорной башне с надеждой на остатки воды и не столько для питья, а так, хотя бы руки намочить и лицо ополоснуть. Но пробитая снарядами и осколками башня не оправдала его надежды. Кроме пыли и песка, в ней ничего не было.
Светало. В будке обходчика на двери висел замок. Иван заглянул внутрь через оконный проём без рамы. У стены топчан, в противоположном углу у двери буржуйка, две опрокинутые табуретки и мятое ведро на полу. Посетовав, что разжиться нечем, вернулся к своим, на всякий случай, захватив одну табуретку с собой.
Лейтенант, заметив его отсутствие, спросил:
– Ты куда запропастился?
– До ветру ходил, – не моргнув глазом, ответил Иван.
И поглядев, как взвод копает, напрягаясь из последних сил, добавил оправдываясь:
– Да вот, нашел.
И поставив табуретку перед Сашком, предложил:
– Присаживайтесь, товарищ лейтенант.
Уговаривать себя Сашок не заставил. Сел и подумал, что уже сто лет не сидел на стуле. Всё на земле да на корточках.
Все, продолжая работать, заулыбались, глядя на него. И он, смущённый всеобщим вниманием, поднялся и стал ходить.
А Иван, поплевав на ладони, вздохнул, примеряясь к лопате, и сказал сам себе, втыкая лопату в землю:
– Ну, с богом.
Лопаты, не переставая, звенели, вонзаясь в отвердевшую степь.
Григорий уже откидывал землю вперёд, словно строил стену между собой и немцами. Семёново наследство в который раз помогало.
Дело шло споро. Как говорится, бери больше, кидай дальше. И снова лейтенант бегал туда-сюда, как бы принимая работу.
Ивану хотелось стукнуть его чем-нибудь тяжелым по голове, чтобы не мельтешил. Но облокотившись на лопату, для минутного роздыха, он раздраженно подумал: «А что суетиться? Не для соседа роем, для себя. Жить захочешь, все по совести сделаешь, приказывать не надо».
Иван, не переставая долбить и отбрасывать землю в ту сторону, откуда пришли, продолжал думать: «Окоп без человека – мертвое дело… Это когда долго стоишь на одном месте, всё потихоньку обустраиваешь. И уже не окоп у тебя, а загляденье. А когда целыми днями то туда, то сюда, как ни старайся, хорошо не получится. Силы не те. Измотала война».
И вслух произнёс:
– Эх, измотала…
И смутившись за случайно вырвавшиеся слова, смеясь, сказал Гришке, копошившемуся рядом:
– Мы с тобой теперь мастера окопных дел.
Гришка не ответил, лишь скривил улыбку, а Иван продолжил:
– Первые специалисты в роте, а может, и в полку. А я ведь печник…
Гришка опять промолчал. А Иван продолжил:
– Печник. Кончится война, я тебе такую печь сварганю, любо-дорого посмотреть. Вся деревня сбежится смотреть. Зимой одно полено бросишь – и целый день в избе жарко, как в бане.
Гришка улыбнулся, не переставая копать. Иван замолчал. Копать и говорить не получалось. Копали долго, то ли от усталости, то ли от того, что земля стала ещё тверже.
И новый окоп похож на старый, или Ивану так кажется. Руки гудели, спина ныла.
Ночь ушла незаметно. Едва успели закончить.
– Ну вот, – сказал Иван, сбивая с лопаты остатки глины.
И оглядев свою работу и подмигивая прислонившемуся к стенке окопа раскрасневшемуся Григорию, добавил:
– Дело солдатское – никуда не торопись и везде поспеешь.
А уже солнце показалось. И оно не только согрело вспотевших, а потому озябших бойцов, а внесло в души какую-то радость.
Так радуется любой человек наступающему утру в ожидании только хорошего.
И пока немец не наступал, пока его самолёты не бомбили и сами в атаку не шли, солнечное утро доставляло только радость.
А взгляд на неизрытую воронками, на не пропахшую гарью землю успокаивал утомлённые войной сердца.
Иван закурил и стал любоваться восходящим солнцем.
И Григорий, и все остальные смотрели на восток, где из-за горизонта золотистым краем блеснуло солнце. И эти несколько минут тишины и света, когда никому не хочется убивать пусть даже самого лютого врага, разбудили человеческое в каждом и с одной и другой стороны.
Но уже набежали большие начальники, накричали на средних, средние на меньших, и закрутилась, завертелась карусель войны: застрочили пулемёты, засвистели пули. И потускнело восходящее солнце.
После бомбёжки, от которой барабанные перепонки долго не проходили, пулемётная стрельба казалась тихой отдушиной.
Гансы не унимались. Дивизия продолжала сражаться. Она мешала им своей настырностью. Мешала движению вперёд и победным реляциям. Уже давно должна была уйти отчетность в высшие штабы, что советская дивизия номер такой-то разбита и дорога на Сталинград с юга свободна.
Это было уже двадцать седьмое августа. Выхолощенная непрерывными боями пехота ещё находила в себе силы не только противостоять, а вгрызшись в землю, сражаться.
Из штабов наверх шли настойчивые просьбы о пополнении. Но бумаги шли медленно, а пополнение всё не прибывало. Однако и у фрицев с этим же было напряжённо.
Первая атака немцев в этот день захлебнулась подбитыми танками и серыми бугорками убитых пехотинцев.
Вторая тоже не задалась. И сгоревших танков, и бугорков стало гораздо больше.
Недешево им обошлись две атаки в этот день. Восемнадцать танков с крестами замерли неподвижно перед позициями дивизии. А сколько фашистской пехоты навечно успокоилось в этих боях.
Да кто ее считал. Так, прикинут навскидку, добавят для важности и отпишут наверх.
Это газетчики набегут и давай докапываться, сколько ты фашистов положил. Иной обозлится и скажет:
– Сколько было, столько и положил. А если надо, иди считай.
Только подбитые танки все считают. Танк – это не семечки, с ним повозиться надо. А он на месте не стоит, тоже стреляет.
Тридцатого августа дивизия продолжала сражаться. Ещё двенадцать танков недосчитались немцы в строю.
Лейтенант смотрел на дымившие танки и удивлялся:
– Бьем их, бьем, а они всё не кончаются. Сколько же у немца техники?! Одного железа на один танк тыщу пудов надо, а тут танков тысячи. Каждый день ползут и ползут. Они их что, как пирожки пекут?
Иван, как бы соглашаясь с ним, кивал головой, но мыслями он был далеко. И если спросить, о чём он думал в этот момент, то он и не ответит.
Бывает с человеком такое, словно выпадает он из времени. Смотрит в одну точку и ни о чем не думает. Только и делает, что смотрит.
И тут до Ивана дошло сказанное лейтенантом. И он кивнул ещё раз и сказал:
– Вся Европа работает, чтоб нас изничтожить. А уж Гитлер ли, другой ли, главное, чтобы нас не было на этом свете. Мы им как бельмо на глазу.
– Почему так? – удивлённо спросил Сашок.
– Почему, почему, – повторил два раза Иван, не зная, что ответить, а потом сказал: – Бог один, да молитвы разные.
– Ты думаешь?
– Думаю, – заключил как отрезал Иван.
Сашок соглашаясь покивал головой и ничего не добавил. Пристроившись на табурете, прислонившись спиной к стенке окопа, ему невыносимо хотелось спать, но спать нельзя. Может ротный наведаться, а то и батальонный. Так что спать ему днём не положено, а только ночью, когда после прожитого дня уставшее начальство угомонится и уж точно не появится во взводе.
А ветер подул от Волги и принёс запах воды, и наполнил души умиротворением. И ещё сильней захотелось лечь и заснуть. И хотя бы во сне отойти от войны подальше, насколько можно.
В непрекращающихся попытках немцев пробиться к Сталинграду дивизия, обороняясь и наступая, теряла людей и технику.
Горели танки и с той, и с другой стороны. И люди, люди. У войны хороший аппетит.
Казалось, что всё это безуспешно и напрасно. И дивизия таяла день ото дня. Двадцать три человека за один день убиты в батальоне и 24 танка потеряно.
Но не зря бились танкисты. Ведь и у немцев, как у кошек, не семь жизней. И их кладбище росло день ото дня и давно перешагнуло первую ограду, потом вторую. Третью ставить не стали. Их танки тоже чернеют среди воронок.
И на следующий день бои продолжались, и еще 12 танков подбиты нашими танкистами.
Сколько бы еще продолжалось это сражение, сколько бы еще танков с крестами осталось стоять в этих местах, но подошедшие с запада пехотные дивизии сменили танковую армию вермахта. Бои поутихли, но не прекратились совсем.
Да и танков в когда-то большой немецкой танковой армии после этого осталось не более трети. А танкистов только половина. Людей же не восстановишь, как танки. У солдата только две дороги: или в госпиталь, или в рай. А немецкое кладбище всё росло и росло и конца этому не было видно.
Леонид
Вагоны качались вправо-влево, гремели на стыках, выводя мелодию:
– Тратата, тратата…
Ветер, врываясь в открытый настежь проём теплушки, не приносит охлаждения. Солнце застыло в зените. И жарит так, что сводит с ума. Степь, бескрайняя степь. Ничего, за что можно зацепиться взглядом: ни деревца, ни кустика. Редкий полустанок на мгновение оживлял унылую картину, и снова бесконечная степь.
Тридцать человек, третий взвод второй роты третьего батальона энского полка энской дивизии, втиснутые в пропахшую свежей краской новенькую теплушку, утомились от беспрерывной езды.
Эшелон бы вообще не делал остановок, но паровозу нужны уголь и вода. В такие редкие и недолгие остановки удавалось набрать свежей воды вместо теплой жижи, плескавшейся в бачках.
Лейтенант на первой такой остановке, обращаясь ко всем сразу, сказал:
– Если что, я в соседнем вагоне.
И ушел в соседнюю теплушку к своему другу по училищу.
После его ухода откуда-то появились карты, и игра в подкидного началась. То и дело слышались голоса:
– А вальта не хочешь?
– А козыря не желаешь?
– На, получи!
Тягомотная езда, длившаяся уже неделю, выхолащивала не только нервы, но и душу. Слишком маленькое пространство вагона, где тридцать человек не могут жить, ежеминутно не сталкиваясь друг с другом, если не физически, то душевно. А когда всем на круг нет и двадцати, то нужно какое-нибудь развлечение, тем более ждущая впереди неизвестность пугала.
Война уже не была чем-то привлекательным. Там убивают, и на чужое горе они, ещё не нюхавшие пороху, насмотрелись. Но страх перед войной и желание стать героем ещё не сгорело в них.
Каждому казалось, что он, только он совершит что-то героическое и о нем напишут во всех газетах и будет говорить вся страна.
Но до войны ещё надо доехать. А сейчас в вагонной и душевной духоте все стали раздраженными. И как ни старайся не доводить до стычек, обязательно кому-нибудь перейдёшь дорогу. И чем тяжелее была атмосфера, тем чаще вспоминались мама и дом. И до слез хотелось прикоснуться к родному человеку.
Рыжеволосому Леониду нет и восемнадцати. Год он себе приписал. Военком посмотрел в свидетельство о рождении, посмотрел на Леонида, ещё раз посмотрел в свидетельство. Подделка даты бросалась в глаза. До войны бы он этого не спустил, а теперь закрыл глаза на потёртости. Должен же кто-то воевать. Ещё раз посмотрел на Леонида и, протянув ему документ, сказал:
– Иди на комиссию.
Леонид, ожидавший худшего, подскочил и помчался в коридор.
Матери сказал вечером. Она не плакала, не уговаривала пойти и сказать военкому правду, постояла, посмотрела в окно, села за стол и, подперев голову одной рукой, ладонью другой водила по скатерти и молчала.
Леонид ходил по комнате и говорил ей:
– Ма, я должен, понимаешь, должен.
Она молчала. И от этого молчания Леониду становилось не по себе.
– Ма, я вернусь, я обязательно вернусь. Вот увидишь.
Её лоб сморщился, но она продолжала молчать и водить рукой по скатерти. Он не выдержал и спросил:
– Мам, почему ты молчишь?
Утром, глядя на её осунувшееся лицо, на мешки под глазами, Леонид не подумал, что она не спала всю ночь. Он даже слегка обиделся на неё. Ему казалось, она не понимает и не любит его.
В военкомат пошла вместе с ним. Внутрь её не пустили. У ворот стояли такие же, как она.
После обеда переодетых в новенькую форму вывели во двор, построили и сделали перекличку. Строем вышли из ворот и направились к вокзалу.
В зелёной форме и в сапогах, среди сотни ставших похожих друг на друга, она не узнала его. И даже показалось, что его здесь нет. Она хотела вернуться к воротам, но он окликнул:
– Мам…
Нет, форма не шла ему. Она топорщилась на нём. И ноги в широких голенищах сапог болтались, как гвоздь в ведре.
Он шёл и смотрел на неё. Только сейчас он понял, что она самый дорогой человек.
До вокзала дорога оказалась не длинной. На путях стоял состав из одного вагона и теплушек. Многие привыкшие ездить в классных вагонах и не знают о существовании теплушек. А ещё есть платформы, на которых приходится ехать под дождем и снегом.
Колонна встала перед поездом. Человек в звании майора скомандовал:
– Вольно. Разойтись.
Колонна вдруг рассыпалась. Кто заторопился к провожающим, остальные потянулись к папиросам.
Леонид подошел к матери. Он боялся, что она будет плакать и ему будет стыдно за неё. Но её глаза были сухи, только пальцы теребили рукав гимнастёрки.
К майору подошел железнодорожник, приложив ладонь к фуражке и наклонившись к нему, что-то произнёс. Майор кивнул головой и, посмотрев направо и налево, скомандовал:
– По вагонам!
Леонид оглянулся. Майор поворачивал голову направо-налево, смотрел, как выполняется его команда.
Младший лейтенант, их взводный, до этого стоявший в стороне с такими же, как он, молодыми офицерами, встрепенулся. И совсем не командирским, а тоненьким голоском прокричал:
– Третий взвод, по вагонам!
И вторя ему, по перрону понеслось:
– Второй, первый…
Третий взвод зашевелился и медленно, словно нехотя, не бросая дымящихся папирос, пошел к вагону. Леонид двинулся вместе со всеми.
Пальцы, теребившие гимнастёрку, сжались. Леонид шёл, рука матери тянулась за ним, и вдруг гимнастёрка выскочила из её пальцев и рука опустилась и повисла безжизненной плетью.
Он оглянулся. Мать стояла, прижав ладонь к губам. Вот-вот у него брызнут слёзы. Он торопливо залез в вагон, встал у широкого проёма и оглянулся. Только сейчас он пожалел, что приписал себе год.
Но железнодорожник поднял жезл, паровоз свистнул, вагоны качнулись, лязгнули и плавно двинулись и понесли его в новую неизведанную жизнь.
Он махнул, и мать, не отнимая ладони ото рта, свободной рукой махнула в ответ. Сделала несколько шагов вслед уходящему поезду, остановилась и рука, махавшая ему, опустилась вниз.
Поезд, изогнувшись, повернул, и матери не стало видно. У Леонида навернулись слёзы. Но поезд, разогнавшись, выветрил их.
Все в вагоне молчали, для всех расставание было больно. Но наступила ночь, и шинель вместо постели, и вещмешок, а в просторечии сидор, вместо подушки – не самые лучшие условия для сна.
Леонид долго ворочался, и наверное, не он один, но под утро заснул. Сон был тревожный, снилась ему мать, она была чем-то недовольна, наверное, им. С чувством вины перед ней он проснулся. Он лежал и думал о ней.
За ночь вагон остыл. Утренняя прохлада обволакивала спящих. Спавшие вповалку прижимались друг к другу. Вставать было лень.
Леониду захотелось есть. Он пошарил в вещмешке, достал и стал грызть сильно солёный брикет ячменной каши. Потом уже на войне узнал, что эти кирпичи прозвали «кирза».
Вдруг вагон дёрнуло. Все подскочили. Вагон ещё раз дернуло, поезд остановился. Выглянули в степь. Со стороны солнца на поезд летели самолёты.
– Воздух! – крикнул выскочивший первым из соседнего вагона молодой лейтенант. И следом за ним, по составу пронеслось:
– Воздух, воздух…
Все бросились из вагонов и помчались в степь. И снова прозвучала команда:
– Ложись!
И все с разбега плюхнулись в пыльные степные травы и ждали бомбёжки. Немецкие самолеты прошли мимо.
Все, ругая машиниста и глупых командиров, заставивших валяться в пыли, отряхиваясь пошли к вагонам.
И снова набившись в теплушки, смотрели по сторонам в ожидании самолётов, а паровоз, пыхтя и посвистывая, как бы извиняясь за вынужденную остановку, уносил их от первой, хотя и не настоящей, встречи с немцами.
И вдруг неожиданно, словно ниоткуда, возник маленький самолёт и стал пикировать на состав. Из него вытянулись две красноватые нитки и уперлись в теплушки. Пули рвали доски, разбрызгивая щепки, дырявили крышу. И крики, крики. Так кричат не от испуга, так кричат от нестерпимой боли. В их теплушке тоже раздался крик и тут же оборвался.
Леонид успел оглянуться и увидел: вдруг Серёга широко открыл глаза, схватился руками за простреленную грудь и захрипел. Леонид хотел броситься к нему, но что-то больно и его толкнуло в грудь.
– А! – вскрикнул от боли, схватился за это место рукой, согнулся и подумал, что ранен. Он боялся, если уберёт руку, то оттуда хлынет кровь. Боль прошла. Осторожно убрал руку и что-то маленькое блестящее, соскользнув, упало на пол теплушки. Нагнулся и поднял. В руке оказалась пуля. Он долго и внимательно рассматривал помятую пулю. Видно до того, как попасть в Леонида, она зацепила металлическую стойку вагона.
– Во, – показал Леонид на вытянутой руке пулю. Все крутили её в руках, подкидывали на ладони и говорили:
– Повезло тебе.
И только после этого заметили затихшего в углу земляка Леонида. На груди у него уже облепленные мухами были два маленьких красных пятнышка. Попытались растолкать, как всем казалось, спящего или потерявшего сознание, но он оставался недвижим.
А когда подняли, под ним оказалась кровавая лужа. Вот он лежит в центре вагона, врывающийся ветер проносится, едва касаясь его стриженой головы. Руки сложены на груди. Все стараются не смотреть ни на него, ни на то место, где пули самолёта достали его, где ещё алеют свежие пятна.
В теплушке наступило тягостное молчание. И если б не случайность, и Леонид бы лежал рядом. Но, видно, фортуна сегодня улыбнулась ему. Он стоял поникший. Кто-то протянул дымящуюся папиросу:
– Покури, легче будет.
Леонид затянулся. Голова закружилась, он закашлялся и сел на корточки, прислонившись спиной к стене вагона.
– Ничего, привыкнешь.
На очередной остановке пришёл взводный.
За станцией, пока паровоз заправлялся водой и углём, стали копать могилу. Долго долбили, каменную, казалось, землю сапёрками. Железнодорожник принёс нормальные лопаты. Но всё равно толком не выкопали, нет времени. Война не ждёт, надо спешить. Тело завернули в шинель – с гробом возиться некогда, да и негде взять – и засыпали землёй. Без команды сняли пилотки. Леонид едва сдержал слёзы. Прозвучала команда:
– По вагонам.
Пока всё это происходило, взводный писал родителям. Подошел незнакомый капитан и что-то сказал их лейтенанту, склонившемуся над бумагой. Тот, соглашаясь, кивнул и добавил про геройскую смерть. И полетела, понеслась бумага, неся на своих крыльях оборванную судьбу и чужое горе.
Взвод не осознал первой потери. Все забрались в вагон и засыпали песком кровяные пятна. Сначала обходили, боясь наступить, потом забыли и затоптали это место. И ничего не напоминало об убитом, только валявшийся в углу бесхозный сидор.
Вытряхнули. Выпали запасные портянки, полотенце, кусок мыла, брикеты каши, супа, чёрный сухарь, пара чистых подворотничков. Последним выпал латунный крестик на суровой черной нитке. Всё разобрали. Леонид взял никому не нужный латунный крестик, сунул в карман и забыл.
Рукопашный бой
Почему-то в районе 74‑го разъезда не прекращались бои. Немец всё время наседал: то ли место ему понравилось, то ли приказ сверху был – прорвать оборону русских именно здесь. И каждый день они с настырностью бежали в атаку с надеждой, что уж сегодня обязательно прогонят русских от железной дороги.
И все и с той и другой стороны понимали, что рано или поздно это произойдёт. И это произошло. И Иван, и Сашок, и Григорий, и все вместе с ними отступили.
Но теперь наше верхнее начальство, озабоченное потерей разъезда, решило непременно вернуть его себе. А как вернуть, немцы не только не успокоились, а хотят двигаться дальше. И снова бой.
Для солдата каждый бой – главный. Может, последний бой в его жизни. Вот опять…
Короткий отдых прерван, вдруг поднялись фонтаны земли, заволокло гарью, дымом, стало трудно дышать.
Когда все рассеялось, увидели наступающих немцев. Под прикрытием минометного огня они приближались к окопам. Казалось, все будет разбито, уничтожено, подавлено после такого грохота.
Иван и вся рота подпустили немцев поближе и встретили их прицельным огнем. Падали немцы, убитые и раненные. И в грохоте не слышно, как они кричали, ещё живые, прижимая ладони к раненому месту и изгибаясь от нестерпимой боли, катались по земле. Начался боевой счет. Не выдержав, немцы отступили.
На лицах товарищей Ивана появились улыбки – осознание того, что ты одержал победу и остался жив. Все спешат закурить, просыпая махорку, сворачивая самокрутку дрожащими от не прошедшего напряжения руками.
Но нормально, неторопливо, наслаждаясь каждой затяжкой, покурить не удалось. Немцы, как очумелые, несколько раз поднимались в атаку, но нахлебавшись крови убитых, убирались восвояси.
К вечеру всё стихло. Стало слышно, как кричал от боли и звал на помощь недостреленный фашист. Но охотников с немецкой стороны, пока светло, спасать чужую шкуру, подставляя свою, не находилось. Через полчаса немец затих. И не ясно, затих насовсем или сил кричать от боли не осталось.
Утомлённый Иван смотрел на запад и удивлялся, сколько от нашего артогня на поле лежит убитых немцев. А они, сволочи, не унимаются, прут и прут.
Наши потери пока очень незначительны. Принесли ужин, а в глотку ничего не лезет: страшное зловоние идет от трупов. Иван даже подумал: «Хорошо бы продвинуться вперёд, чтобы быть подальше от этого места».
И он поделился своими мыслями со взводным, но тот напустился на него, объясняя, что наступать сейчас, когда немцы капитально окопались, равносильно смерти. Так и сказал:
– Смотри, Иван, накаркаешь.
И утром пришёл приказ.
– Ну вот, – возмутился взводный, косо поглядывая на Ивана, словно он виноват в этом приказе.
Иван дёрнул плечами, не помня вчерашних слов. А Сашок покачал головой и, глядя на Ивана, сказал с горечью:
– Этого нам только не хватало.
А после вздохнул, сожалея, что ничего изменить нельзя. И пошел бродить по окопу, как маятник, туда-сюда. Иван пожал плечами, не чувствуя своей вины. Не он же приказ писал.
Каждый приказ указывал им только направление, куда следует наступать или отступать. Есть задача, и её надо выполнить, а выполнить придется ценой чьей-то жизни.
И сидя в окопах, ругая все штабы сверху донизу, собираясь в атаку, надеялись, что сегодня повезёт и они останутся живы.
А все еще только изготовились. Те несколько секунд, пока ты еще закрыт землёй, пока не подставил грудь свинцу, кажутся мгновением, потому что подняться и бежать навстречу пулям против человеческих сил.
Накануне перед атакой удачно провели артподготовку. Командиры вермахта даже на второй год войны были еще слишком уверены в себе. Обстреливая наши позиции, они выдали расположение своих батарей. И из пренебрежения к нам, «Иванам», не удосужились сменить позиции своей артиллерии.
Огонь наших трехдюймовых пушек и небольшого числа гаубиц казался сокрушающим. Взрывы гремели непрерывно, на вражеских позициях вспыхивало пламя, что-то горело.
Иван смотрел на всё это и радовался. Все поле боя было в воронках, воздух пропитался порохом и смрадом трупов. Но по цепи от ротного поступила команда:
– Приготовиться к атаке.
И радость сменилась унынием, а потом страхом. И пока немецкие окопы кромсала артиллерия, все ползли к немецким траншеям.
Вдруг огонь артиллерии затих и немцы очухались. Их офицер, выскочив первым на воздух, выгоняя солдат из блиндажа в окопы, кричал визгливым голосом.
– Шнель, шнель!
И немецкий пулемёт проснулся, и фонтанчики пыли, как чёртики, выскакивали из земли перед ротой. Немец грамотно поступил, напугал ползущих – и давай полосовать остановившуюся роту.
До траншеи метров пятьдесят. Но пулемёт гремел так, что подниматься сил не было. А если продолжать лежать, всех перестреляют, как куропаток. Но кто поднимет? Кто? Ведь надо не только дать команду, но и встать самому.
А пулемёт не умолкал, и из ствола выскакивали красные смертельные огоньки.
Рядом с Иваном ранило бойца. Из его спины сочилась кровь, лицо перекосилось от боли. Ткнулся лицом в землю кто-то из сержантов и затих. Комроты тоже лежит и молится, куда ему людей поднимать. Сашок тоже, как червяк, в землю вжался. Страх званий не разбирает, а смерть тем более.
Политрук огляделся и, приподняв голову, громко крикнул:
– Рота, слушай мою команду!
Немцы тоже услышали его и усилили огонь. Замполит посмотрел на Ивана, кивнул и, поднимая наган над головой, неуклюже привстал, потом поднялся в полный рост и закричал рвущимся голосом:
– В атаку!
Но рота, понесшая первые потери, лежала неподвижно. И немцы на секунду замолчали. Пулемёт не тарахтел.
Топтался лишь политрук, не опуская руки с наганом, поглядывая то направо, то налево.
– В атаку! – снова закричал он.
Кажется, ударил одиночный выстрел, а может, короткая очередь. Иван был слишком напряжен и не понял. Пуля попала политруку в живот, он упал, но, пересилив боль, зажимая рану рукой, снова поднялся. Следующая пуля угодила ему в лицо и сразила наповал.
Иван оглянулся: никого, кто бы мог дать команду, рядом не было. А лежать и ждать, когда по твоей спине пройдёт пулемётчик, не стоило.
Иван скомандовал громко и четко, словно от того, что он сейчас скажет, зависит его жизнь:
– Рота, слушай команду! Подготовить гранаты!
Залегшая цепь зашевелилась, готовя гранаты к бою. Следом не менее громко он прокричал:
– Рота, встать!
Команда, которой учили бойцов до автоматизма, сработала.
Красноармейцы поднялись, держа винтовки с примкнутыми штыками. Подниматься самому было тяжело, страшно, ноги стали ватные, бросало в жар и холод. Но когда поднялись, озверели.
Иван не оглядываясь побежал вперёд и крикнул:
– В атаку!
И ему повезло. Если б пуля пулемётчика срезала бы его, то все бы опять залегли и остались бы лежать навечно. Но пулемётчик опешил от неожиданно вставших перед ним бойцов.
А немецкий офицер, ругаясь, не сразу привел его в чувство. Первая очередь прошла поверх голов, другая в землю и только с третьего раза хлестанула по наступавшей роте.
«Главное чтобы не залегли. Если залягут – все, хана», – думал Иван, спеша как можно быстрее преодолеть расстояние до немецких окопов.
Вместе со всеми встал и Гришка. Все бежали, торопясь одолеть эти последние десятки метров. Над полем неслось:
– А…а…а!
Немцы стреляли почти в упор. Но сотня человек бежала, не останавливаясь, тоже стреляя на ходу. С флангов тарахтели «максимы», не давая немцам расслабляться.
Иван бежал, а вокруг него один за другим падали люди.
Боец впереди вздрогнул, свалился ничком. Ещё один упал, схватившись за ногу. Пулемет в упор срезал троих, но рота уже прыгала в немецкую траншею.
И Иван прыгнул и полетел, словно у него за спиной выросли крылья. Приземлился.
Перед ним стоял крепкий, высокий немец в сером френче, с чёрными квадратными усиками, выставив вперед карабин со штыком. У Ивана трехлинейка, владеть которой он учился по нескольку часов в день. Поймав шейкой штыка рукоятку штык-ножа немецкого карабина, вышиб его из рук у немца. Второй удар – прямо в грудь. Выдернув штык, начал искать глазами очередного врага.
Наверное, Ивану следовало командовать, а не искать рукопашной. Но бой уже вступил в такую фазу, где никто никого не слышал и сам выбирал свою цель.
Вдруг перед ним возник немец с карабином, возник неожиданно, и внутри Ивана всё похолодело, потому что он не был готов к этой встрече. Секунду они смотрели друг на друга. Иван успел подумать: «Это конец».
Еще мгновение, и фашист вонзит в него свой штык. Вдруг над самым ухом раздался выстрел. И немец, получив пулю в лоб, откинув назад голову, не выпуская карабин, свалился под ноги Ивану. Он оглянулся, за спиной стоял Гришка с выпученными глазами. Но бой еще не кончился. В горячке Иван и спасибо не сказал.
Пять-шесть немцев, прячась в стрелковых нишах, вели беглый огонь. Роте повезло, что автомат оказался только у одного. Он успел ранить несколько бойцов, но остановить остальных был не в силах. Люди, сумевшие преодолеть простреливаемое поле, оставившие позади убитых товарищей, переступили порог страха.
У автоматчика опустел магазин, и его, как жука иголкой, прикололи штыком к стенке траншеи, он дёрнулся, вскрикнул и затих навсегда.
Лихорадочно дергающий затвор карабина унтер стоял до последнего, но прикладом размозжили ему голову и втоптали в землю. Остальных добили штыками.
Двое пулеметчиков разворачивали пулемет на треноге вдоль траншеи. В них стрелял из нагана в упор один из комвзводов, и пуля попала одному фашисту в руку. Он дёрнул пулёмёт на себя и этим на мгновение помешал пулемётчику.
Если б они сумели переставить пулемет, то неизвестно, как бы всё пошло дальше, но и их смяли подоспевшие бойцы.
Десятка два немцев, перескочив через бруствер, отступали. Грамотно, перебежками, прикрывая друг друга огнем.
За ними сгоряча кинулись наши. Упал, напоровшись на пулю, боец. Иван поймал за обмотку другого:
– Куда? Стреляй отсюда…
Время преследования упустили, но еще несколько немцев остались лежать на поле. Остальные нырнули в овражек и исчезли. Хотя противника выбили из траншей и заставили отступить, рота тоже понесла потери.
После схватки все тело Ивана дрожало. Григорий находил силы молиться. И Сашок куда-то запропастился.
«Не убит ли?» – подумал Иван.
Отдышавшись, стали собирать с поля бойцов. Убитых в одну сторону, раненых в другую. Двое – в живот. Они не выживут. И становится страшно от того, что на твоих глазах два человека уходят в небытиё и ты ничем им не поможешь. И всё внутри тебя болит, словно ты сам ранен или виноват в их страданиях.
Садишься на землю и куришь, стараясь не смотреть в сторону тех двух. Им больно, они в памяти, полны надежды и просят пить.
Им смачивают губы. Гришка, что бы их подбодрить, говорит мечтательно:
– В госпитале отдохнёте. В госпитале хорошо.
И они верят его словам. А во что ещё верить? Солдат без веры не жилец. И они представляют себе госпиталь, где тишина и покой и не стреляют, и улыбаются молоденькие медсёстры в белых халатах.
Один просит покурить. Ему дают. Он затягивается и кашляет, и кашель вызывает нестерпимую боль. Он стонет, как будто поёт заунывную песню.
Нет сил, но надо копать могилу. Воронки по близости нет. Три на три и полтора вглубь, этого хватит. Медленно опускают и укладывают убитых на дно.
Пока всё это происходит, раненые в живот умирают. Умирают беззвучно, просто перестают дышать и всё, один за одним, словно торопятся к своим убитым товарищам.
Их, ещё тёплых, кладут рядом, место ещё есть. Всех накрывают шинелями. Земля падает беззвучно и наполняет могилу.
Даже грохот войны умолк. Эти похороны в тишине и покое кажутся всем странными.
Но немцы очухались, и мины, как дождь, падают сверху. Фрицы знают, где их окопы, и несколько штук разрываются там.
Все прячутся в не до конца засыпанной могиле. Это спасает. Грохот затих. Торопливо выскакивают из могилы, сыплют туда последнюю землю. Обрамлять холм нет ни сил, ни желания, ни времени: немцы могут всё повторить.
И все ползком торопятся в окопы. Отряхиваться отвыкли, так, махнёшь рукой сверху вниз по обмундированию по привычке, но тут же одёрнут:
– Не пыли.
А кто-нибудь добавит в шутку:
– И дома не пыли.
Взводу повезло, немцы, убегая, оставили всё: рыбные консервы, тушёнку, чай, сыр, колбасу. Воды оставили мало, видно, не только у них, но и у немцев воды негусто.
Поругивая немцев и похваливая немецкую еду, первый раз наелись до отвала. Григорий есть не стал. Никто и не настаивал. С дармовыми харчами расправились быстро.
Но надо уходить. Сидеть в чужих окопах и ждать, когда накроют мины, не стоило. Немцы опомнились, и Иван, и другие не успели сообразить и вытереть губы от халявной еды, как пришлось хвататься за оружие.
Фрицы наступали бегом, и даже отсюда, из окопов, Иван почувствовал, что им страшно. И их единственное желание припасть к спасительной земле и, отстреливаясь, отползти назад.
Оставленный пулемёт здорово помог. То ли немцев напугал собственный пулемёт, то ли они утомились бегать туда-сюда. Но вернулись назад, угомонились и до утра не мешали взводу жить.
Но всё равно и Ивану, и Григорию, и всем, всем страшно в чужих окопах. Только и ждёшь, залетит снаряд или мина – и каюк.
Но жить надо, тем более ещё убитые немцы валялись под ногами. Но это были обыкновенные люди, правда, уже мертвые.
Для начала выбросили убитых немцев за бруствер. Правда, перед этим сняли часы и проверили карманы. Фотографии жен и детей полетели туда же, за бруствер, и бумажники за ними, кому они нужны, как и немецкие деньги.
Только на мгновение задержал Иван в руке фото немца с женой и подумал, что он мог лежать в могиле вместе с остальными, а немец мог бы жить. Но вышло, его жене безутешные слёзы лить, а он, Иван, пока жив. Жив не сам по себе, а благодаря Григорию.
Иван, вдруг вспомнив рукопашную, сказал Григорию, кивнув в сторону могилы:
– Спас ты меня. Если б не ты, тоже, наверное, закопали.
Но лицо Григория осталось невозмутимым, он старался не думать об убитом в упор немце. Может, и хорошо, что не накопилось в человеке столько ненависти и злобы, чтоб убить другого за то, что он враг, и не думать, и не вспоминать об этом.
Ведь война рано или поздно кончится. И с этим придётся жить. Это ж какие же надо иметь нервы, чтобы после всего остаться человеком.
Григорий что-то бормотал едва слышно, и никто не сомневался, он молится. Но о ком его молитва: о себе, об Иване, о похороненных или об убитом им немце – никто не знал да и не спрашивал. А он, отбормотав, смотрел на небо и радовался ещё одному дню, который, как он считал, послал ему бог.
Сашок, бежавший вместе со всеми, когда до смерти схлестнулись с немцами, куда-то пропал. И вдруг объявился, словно ниоткуда. Только теперь впервые близко увидел лица врагов, мертвые немцы лежали в окопах. Он всматривался в них, словно пытаясь найти что-то особенное, и подойдя ближе, первое, что он спросил:
– Пожрать не найдётся?
Но все только дёрнули плечами. Всё немецкое съели подчистую.
Ивана даже подмывало спросить: «Где ж ты, голубчик, шлялся?»
Но теребить начальство расспросами себе дороже, поэтому промолчал.
А Сашок, пометавшись по окопу, уже подумал, что спать ему на голодный желудок, как явился старшина с термосом, так что добавка не помешала. И даже после немецких харчей есть никто не отказался. Кто знает, может, завтра и этого не будет. Наелись впрок.
Следующий день на этом месте прошел почему-то спокойно. И все смогли отдохнуть: и они, и немцы. Но где-то справа и слева грохотало, и там происходили те же события, что и здесь вчера. К вечеру всё затихло.
Посыльный принёс приказ:
– Отступить.
Первым делом выпустили по немцам всё, что осталось с немецким пулемётом. А после Иван со всего размаху ударил им о край окопа, тот слегка согнулся. А Иван кинул его в ту сторону, в которую уходили.
Вернулись к себе и успокоились. Как не крути, а свои окопы надёжнее.
Иван прошелся взад, вперёд, пытаясь оценить, нужно что-либо поправлять или оставить до завтра. Не тронутые артиллерией окопы стоят долго. Так что жить можно.
Григорий с блаженной улыбкой смотрел вдаль. Но что можно увидеть вдали? Сталинград? До него ещё далеко. А родная ему Брянщина в другой стороне. И ни того, ни другого не увидишь, хоть все глаза просмотри.
Иван ободряюще сказал Григорию:
– Не грусти, будет и на нашей улице праздник.
Тот в ответ лишь глупо улыбнулся и дёрнул плечами. Собственно, Иван и не ожидал ответа. Просто за последнее время Григорий ходил сам не свой, и Ивану казалось, что тот заболел. И он даже спросил его об этом, но тот отмахнулся. И то правда, чего приставать, надо будет, сам скажет. И у самого на душе было тоскливо.
Время двигалось медленно. Ивану хотелось, чтоб скорей пришел следующий день, но вечер словно замер на одном месте. И когда Ивану стало казаться, что время совсем остановилось, наступила ночь.











