Читать онлайн Роковое время
- Автор: Екатерина Глаголева
- Жанр: Историческая литература
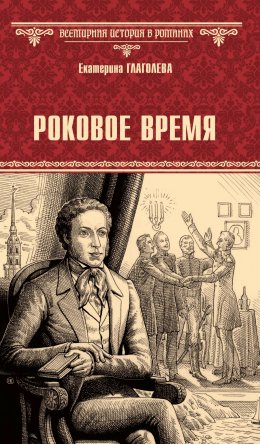
Всемирная история в романах
© Глаголева Е., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Дипломированный переводчик Екатерина Владимировна Глаголева (р. в 1971 г.) начала свой литературный путь в 1993 году с перевода французских романов Александра Дюма, Эрве Базена, Франсуа Нурисье, Фелисьена Марсо, Кристины де Ривуар, а также других авторов, претендующих на звание современных классиков. На сегодняшний день на ее счету более 50 переводных книг (в том числе под фамилией Колодочкина) – художественных произведений, исторических исследований. Переводческую деятельность она сочетала с преподаванием в вузе и работой над кандидатской диссертацией, которую защитила в 1997 году. Перейдя в 2000 году на работу в агентство ИТАР-ТАСС, дважды выезжала в длительные командировки во Францию, используя их, чтобы собрать материал для своих будущих произведений. В тот же период публиковалась в журналах «Эхо планеты», «History Illustrated», «Дилетант», «Весь мир» и других. В 2007 году в издательстве «Вече» вышел первый исторический роман автора – «Дьявол против кардинала» об эпохе Людовика XIII и кардинала Ришелье. За ним последовали публикации в издательстве «Молодая гвардия»: пять книг в серии «Повседневная жизнь» и семь биографий в серии «ЖЗЛ». Книга «Андрей Каприн» в серии «ЖЗЛ: биография продолжается» (изданная под фамилией Колодочкина) получила в 2020 году диплом премии «Александр Невский».
Книги автора, вышедшие в издательстве «ВЕЧЕ»:
Дьявол против кардинала. Серия «Исторические приключения». 2007 г., переиздан в 2020 г.
Путь Долгоруковых. Серия «Россия державная». 2019 г.
Польский бунт. Серия «Всемирная история в романах». 2021 г.
Лишенные родины. Серия «Всемирная история в романах». 2021 г.
Любовь Лафайета. Серия «Всемирная история в романах». 2021 г.
Пока смерть не разлучит… Серия «Всемирная история в романах». 2021 г.
Битвы орлов. Серия «Всемирная история в романах». 2022 г.
Огонь под пеплом. Серия «Всемирная история в романах». 2022 г.
Нашествие 1812. Серия «Всемирная история в романах». 2022 г.
Пришедшие с мечом. Серия «Всемирная история в романах». 2023 г.
Маятник судьбы. Серия «Всемирная история в романах». 2023 г.
Последний полет орла. Серия «Всемирная история в романах». 2023 г.
Приключения Оффенбаха в Америке. Серия «Всемирная история в романах». 2024 г.
- Друзья младые! Вставайте разом!
- Счастье всех – наша цель и дело.
- В единстве мощь, в упоенье разум.
- Друзья младые! Вставайте смело!
- Блажен и тот на дороге ранней,
- Чье рухнет в битве юное тело,
- Другим оно служит ступенью в брани.
- Друзья младые! Вставайте смело!
- На скользких срывах по кручам этим
- Сила и слабость на каждой грани.
- На силу силой, друзья, ответим,
- А слабость сломим в юности ранней!
- Когда в мирах былой полунощи
- Вражда стихий пировала бурно,
- Одно ДА БУДЕТ господней мощи
- Обосновало закон природы,
- Запели вихри, помчались воды,
- Возникли звезды в тверди лазурной,
- Так и сейчас еще ночь глухая,
- Все человечество в алчных войнах.
- Чтобы любовь благая воскресла,
- Встанет из хаоса Дух полыхая;
- Пускай зачнет его юность во чреслах,
- А дружба взрастит в объятьях стройных.
- Ломают льды весенние воды.
- С ночною свет сражается тьмою.
- Здравствуй, ранняя зорька свободы!
- Солнце спасенья грядет за тобою![1]
Пролог
О юный праведник, избранник роковой,
О Занд, твой век угас на плахе;
Но добродетели святой
Остался глас в казненном прахе.
(А.С. Пушкин. «Кинжал»)
Стук был настойчивый, громкий, тревожный. Стекло дребезжало под набалдашником трости. Отбросив одеяло, Карл пробежал босыми ногами по холодному полу, подгибая пальцы, и открыл окно.
– Казнь перенесли на пять утра, его скоро повезут, – быстро проговорил незнакомый студент в черном берете, со шрамом на правой щеке, и поспешил дальше.
– Спасибо, друг! – крикнул Карл ему вслед.
Де Ветте тоже проснулся и тер лицо обеими руками, сидя на постели. Пока он умывался над тазом, Карл уже оделся.
– Я пойду, отец? – спросил он полуутвердительно.
– Да, иди, я догоню.
Несмотря на раннее утро, по улицам бежали люди, по большей части молодежь; Карлу оставалось только влиться в поток, стремившийся к Гейдельбергской дороге. Если власти надеялись избежать стечения народа, ускорив казнь на целых шесть часов, то они просчитались. Впрочем, они и сами это поняли: на перекрестках стояли патрули из вооруженных солдат.
Всю ночь шел дождь, и тучи еще не рассеялись: небо готовилось пролить новые слезы. Все лица казались бледными и сумрачно-сосредоточенными. От стылой мороси по телу пробегала дрожь; у Карла сводило челюсти.
Внезапно молчаливая толпа заволновалась, над человеческим морем чайками носились крики: «Везут! Везут!» Потом вдруг настала тишина.
По раскисшей дороге трусили несколько конных драгун, прокладывая путь открытой коляске; по обе стороны от нее шли тюремные служители с черным крепом на рукаве; замыкала кортеж карета с городскими чиновниками. В коляске сидел начальник тюрьмы, поддерживая приговоренного, который полулежал на его плече.
– Прощай, Занд!
Над толпой взметнулся белый платок. Потом еще один и еще; выкрик повторялся, менялись только голоса.
Пробившись как можно ближе к дороге и вынув из кармана платок, Карл ждал своей очереди; у него стучали зубы. Медленно вышагивали понурые лошади, стражи по бокам коляски прятали глаза. Говорили, что после объявления приговора ни один каретник в Мангейме не пожелал продать или сдать внаем экипаж тюремным властям, поскольку все в городе знали, для кого он предназначался; пришлось купить его в Гейдельберге через частных лиц. Вот он уже рядом; вытянувшись на цыпочках, Карл впился взглядом в землистое лицо, обрамленное длинными черными кудрями: запавшие глаза, обведенные густой тенью, ввалившиеся щеки, сомкнутый рот между редкими усиками и отросшей бородой… Осужденному было двадцать пять лет, но выглядел он гораздо старше. Из задних рядов вылетел букетик цветов, попав точно в коляску. Приговоренный подобрал букет; Карл увидел, что его темные глаза наполнились слезами.
– Прощай, Занд! – крикнул он сорвавшимся голосом и взмахнул над головой платком.
Их взгляды встретились: целый миг Карл Бек смотрел в глаза Карлу Людвигу Занду.
Коляска и карета проехали мимо; толпа зашевелилась и потекла следом за ними.
Эшафот было видно издалека: его поставили на высоких столбах слева от дороги. Вокруг выстроился батальон солдат, державших ружья с примкнутыми штыками; ближе к помосту разместились парами конные драгуны в шлемах с черными султанами, положив обнаженную саблю на правое плечо. Говорили, что из Карлсруэ прислали еще и четыре пушки с артиллерийской ротой – на случай, если возникнут беспорядки.
Пробившись в первые ряды за оцеплением, Карл смотрел, как директор тюрьмы и еще один чиновник помогали Занду выбраться из коляски. Теперь бедняге предстоял подъем по довольно крутой деревянной лестнице. Поддерживаемый с обеих сторон, он преодолевал ступень за ступенью, скрючившись от боли и подволакивая левую ногу. Наверху Занд выпрямился и огляделся. Вероятно, с высоты эшафота он мог охватить взглядом луг, дорогу, Мангейм… На осужденном был черный приталенный сюртук и светлые панталоны, заправленные в короткие сапоги; повязанный бантом галстук не закрывал шеи, торчавшей из отложного воротника белой сорочки. Тучи слегка раздвинулись, пропустив солнечный луч, который упал на эшафот. Занд поднял голову к небу, улыбнулся и сел на приготовленный для него стул.
С того места, где стоял Вильгельм Де Ветте, было видно эшафот, но и только. Занд снова встал, опираясь на директора тюрьмы, чтобы заново выслушать вынесенный ему приговор, который зачитывал секретарь суда; до задних рядов толпы не долетало ни единого слова, но все и так знали, что Занд приговорен к смертной казни через обезглавливание за убийство Августа фон Коцебу – известного литератора и советника российского императора Александра, вернее, царского клеврета, клеветавшего на все, что дорого немцу-патриоту. Де Ветте напрягал зрение, пытаясь разглядеть своего пасынка – он должен быть в первых рядах. В глазах рябило от мужских беретов и женских шляпок. Студентов можно было узнать по длинным волосам, старо-немецкому костюму, как у Занда, а берлинцев – еще и по сильным, широким плечам гимнастов. Сколько их здесь! Когда Де Ветте с Карлом приехали вчера в Мангейм, все постоялые дворы были уже заняты, пришлось снять комнату в ближайшем к городу поселке. Как бы в самом деле не вышло беспорядков…
Занд поднял правую руку, желая что-то сказать, но ему не позволили. Он снова сел, достал платок, утер им лицо, потом скомкал в тугой комок и швырнул поверх голов солдат в толпу. Несколько рук протянулись навстречу, платок поймали, расправили и тотчас разорвали на несколько клочков… Там ли Карл? Тревога за него царапала нутро Де Ветте.
К осужденному приблизился палач. Они о чем-то поговорили, потом палач состриг ножницами несколько прядей на затылке Занда, стянув остальные волосы в пучок на макушке. Юноша сложил вместе руки, их обмотали веревкой и положили ему на колени, чтобы он мог держать голову прямо. Палач завязал ему глаза. Его так и будут казнить – на стуле? Наверное, у него просто не получилось бы лечь на плаху. Убив Коцебу, Занд распорол себе грудь кинжалом; когда его подобрали, он был при смерти и едва мог пошевелиться, однако в больнице его выходили – чтобы предать смерти по приговору властей.
Чиновники отошли к краю эшафота и сняли шляпы. Палач с длинным мечом в руках встал сбоку, примерился и махнул своим оружием; из сотен уст разом вырвалось «ах!». Голова Занда резко упала на грудь, выпустив фонтанчик алой крови, но не скатилась на помост, а осталась висеть на лоскуте кожи. Палач рубанул по нему и отсек заодно левую руку… Де Ветте почувствовал дурноту.
Стискивавшая его с боков толпа вдруг резко дернулась вперед. Черный гроб с телом казненного спустили вниз и грузили в карету; в это время зрители прорвали оцепление, устремившись к эшафоту. Мужчины и женщины вытирали своими платками кровь мученика, капавшую с помоста; самые дерзкие вскарабкались по ступеням, разломали стул и разделили между собой, другие отрезáли перочинными ножиками щепки от окровавленных досок. Де Ветте вертел головой, высматривая Карла. Вон, вон он! Встав под эшафотом, несколько студентов пели хором:
- Посев созрел, не медли, славный жнец!
- В мече твое последнее спасенье!
- Вонзи же в сердце верное копье,
- Придай свободе вольное теченье!
- Омоет кровь твоя отечество твое!
Послышались громкие отрывистые команды военных; всадники поворачивали коней, пехота выполнила какое-то движение – сотни ног топнули одновременно, так что вздрогнула земля. Нужно уходить отсюда немедленно! Даже если потом и удастся доказать, что стихи Кёрнера не под запретом, власти найдут множество других причин для ареста, а они с Карлом и так под наблюдением. Де Ветте решительно схватил сына за руку и потащил за собой, не обращая внимания на его протесты.
Всю дорогу до Дармштадта они молчали, сидя рядом в наемной бричке, но глядя в разные стороны. Утреннее зрелище не располагало к разговорам, к тому же за последний год они не раз вели долгие споры, оставаясь каждый при своем мнении. Сегодня двадцатое мая 1820 года, со дня убийства Коцебу прошло четырнадцать месяцев. За это время погиб Карл Лёнинг – молодой аптекарь из Нассау, пытавшийся убить советника фон Иделя (который путал казну с собственным карманом) и покончивший с собой в тюрьме, – а множество людей по всей Германии были арестованы, ошельмованы, высланы… И какие люди! Умные, талантливые, образованные, настоящие патриоты! Фридриха Людвига Яна, участника боев с Наполеоном и учителя гимнастики, который помогал немецкому духу обрести здоровое тело, посадили в Шпандау, гимнастическую площадку в Берлине закрыли: в основанных Яном гимнастических союзах усмотрели клубы вольнодумцев. Эрнста Арндта, чей «Дух времени» и патриотические песни несколько лет вдохновляли немцев на борьбу с захватчиками, арестовали, отправили под суд (который, кстати, признал его невиновным) и запретили преподавать, как раньше, в университете Бонна: прусским властям не нравились его критические замечания и требования реформ. Йозеф Гёррес, бывший редактор «Рейнского Меркурия», которому сам Гёте, будучи в Кобленце, счел нужным засвидетельствовать свое почтение, был вынужден бежать в Страсбург, когда узнал, что ему грозит арест: в Пруссии запретили его брошюру «Германия и революция», в которой Гёррес, осуждая убийство Коцебу, призывал тем не менее оставить народу право свободно выражать свое мнение. Да и самого Вильгельма Де Ветте уволили из Берлинского университета – за то, что он написал письмо соболезнования к матери Карла Людвига Занда. В своем письме он сожалел о том, что Занд неверно истолковал свой долг патриота и христианина. Правление университета обратилось к властям с петицией в защиту своего профессора богословия, но у Де Ветте все равно отняли кафедру и приказали ему покинуть Пруссию; он уехал в Веймар. Ну ладно еще его поколение: они все уже люди с опытом и, скажем без ложной скромности, с солидной репутацией, они найдут себе применение, а как же юношество, начинающее свой жизненный путь? Де Ветте женился на матери Карла, когда мальчику было восемь лет, и всегда относился к нему как к родному, стараясь дать ему самое лучшее образование. В Берлине, учась в гимназии, Карл приобщился к гимнастике и добился больших успехов, потом он изучал богословие в Гейдельберге, защитил докторскую диссертацию в Тюбингене, и вот теперь, в двадцать два года, в Германии перед ним закрыты все пути, потому что он был активным членом студенческих союзов и не скрывал своих республиканских убеждений. Что ему остается? Изгнание? Жалкая жизнь эмигранта где-нибудь в Швейцарии или даже во Франции?
Справедливости ради надо сказать, что в сложившемся положении есть вина и наставников юношества. С кафедр университетов Гейдельберга и Йены, где впервые отказались от землячеств в пользу всеобщего союза студентов, говорили о будущем единой Германии, повторяя вслед за Арндтом, что родина – не Пруссия, Бавария, Тюрингия, Саксония, Тироль, Гессен, Баден, Австрия или немецкая Швейцария, а вся великая страна, говорящая на одном языке и верующая в единого Бога, – новый Рим в эпоху расцвета Республики. Все это было бы хорошо, но лекторы распаляли молодежь, жаждавшую действия, подсказывая ей простые решения, вместо того чтобы смирять ее дух, кропотливо воспитывая любовь к познанию через сомнение. Рассказывая студентам о республиках древности, их приучали восхищаться Тимолеоном, Сцеволой и Брутом и утверждали вслед за Цицероном, что убийство тирана – благодеяние для человечества! Коцебу был в чем-то прав, обличая со страниц своего «Литературного еженедельника» академическую свободу, которая сводилась к разнузданности, и «неразумных профессоров», побуждающих зеленых юнцов преобразовать отечество. Однако обе стороны совершали одну и ту же ошибку: позволяли чувствам командовать разумом. Они забывали, что их полемика – не просто ученый диспут, состязание в красноречии, дуэль на шпагах иронии; разум студентов еще не оделся броней скептицизма, их обнаженная душа кровоточит от язвительных уколов, взрываясь безрассудной яростью.
Де Ветте украдкой взглянул на Карла, заметил первые морщинки на лбу… После того как Карл уехал из Берлина в Гейдельберг, они редко виделись и мало говорили о действительно важных вещах. Вильгельм, похоже, упустил тот момент, когда отец должен сделаться другом своему сыну, а не просто поставщиком житейских советов и денег на карманные расходы…
Всем людям нужна вера, а юным – в особенности. В Бога, в Отечество, в науку, в искусство, в свое предназначение… Посвятив свои ученые занятия критическому разбору Библии как памятника истории, Де Ветте усомнился в своей вере, как только понял, что все сказания Пятикнижия суть мифы. О, как тяжело ему было тогда! Его спас Шлейермахер, объяснив, что основа догматического богословия – религиозное чувство, а не буква Писания или рациональное ее истолкование. В самом деле, так ли уж важно, существовал ли Авраам на самом деле, если история о нем исполнена глубочайшего смысла и укрепляет веру в Господа? Умный, добрый, честный Шлейермахер! Рядом с ним все становились… человечнее. Он горячо ратовал за единство протестантской церкви, но, когда Прусскую унию 1817 года навязали силой, Шлейермахер запретил связывать с ней свое имя. Его обвинили в «демагогической агитации» наряду с поэтом Арндтом… Так вот, Шлейермахер ни за что бы не позволил себе облекать чувства в лозунги. А Якоб Фриз – тот самый кантианец Фриз из Йены, строивший свою «философскую антропологию» на принципах знания, веры и наития, – призывал для искоренения общественных пороков изгнать из Германии евреев, полностью уничтожить «иудейскую касту», преследовать «космополитический сброд»! Богослов Фридрих Ян утверждал, что причина несчастий Германии – поляки, французы, попы, аристократы и евреи! (Студенты бросали в лицо Де Ветте эти фразы, когда он говорил им о важности изучения древнееврейского языка для более глубокого постижения Писания.) Неужели эти достойные люди не сознавали, что сами создают устойчивый миф, порождающий ложную веру? Единство сплетенных рук на глазах превращалось в единство пальцев, сжатых в грозящий кулак. Но Коцебу не придумал ничего лучшего, чем больно щелкать по костяшкам этих пальцев! Он называл гимнастику («новую религию») занятием глупцов, смеялся над увлечением демократией и конституцией – «детской болезнью, исцеляемой опытом», а самое главное – твердил немцам о том, что они победили Наполеона благодаря России. Он говорил это юношам, служившим добровольцами в корпусе Лютцова! Знавшим наизусть стихи Карла Теодора Кёрнера, который геройски погиб в 1813 году, на заре своей жизни! Карл Людвиг Занд записывался в добровольцы, слушал лекции Фриза и носил с собой томик Кёрнера «Лира и меч»…
Если бы Коцебу умер своею смертью, о нем бы довольно быстро забыли. Да, он наводнил своими пьесами театры нескольких государств, но немецким Вольтером его называли лишь потому, что, не имея достоинств французского философа, он обладал всеми его пороками: тщеславием, корыстолюбием, неуважением к религии. Вернер упрекал его в бесстыдстве, Шлегель называл позором немецкой сцены, Гёте признавал его творчество гнусным вздором, однако поставил в Веймаре не меньше восьми десятков его пьес, ведь во времена войн с Наполеоном Коцебу плодил патриотические сочинения и ругал французов так же громко, как те, кого ныне заклеймили «демагогами». Де Ветте не смотрел этих пьес, не читал он и многотомную «Историю германского государства» – одно из «антигерманских» сочинений, которые студенты символически сожгли на фестивале в Вартбурге. Карл Занд (разумеется, бывший на этом фестивале) тоже не читал их. Ему было довольно «Литературного еженедельника», чтобы вынести свой приговор автору «казацких песен и башкирских пьес», навязывавшему немцам волю России.
Все могло бы ограничиться битьем окон в домах, которые Коцебу приходилось неоднократно менять. Если бы он сразу уехал в Митаву, то остался бы жив и посвятил себя своему многочисленному семейству, а добронамеренный, но недалекий юноша не погубил бы навеки свою бессмертную душу. Но Коцебу совершил еще один опрометчивый поступок: он выступил в защиту другого иноземца на российской службе – грека Александра Стурдзы, который сочинил «Записку о современном состоянии Германии» для участников Ахенского конгресса. В этой записке он назвал немецкие университеты «готическими обломками Средневековья», государством в государстве, где юношество, избавленное от власти законов, предается бесчинствам и вкушает плоды вольнодумства в студенческих обществах – настоящих «бунтовских союзах». Чтобы вырвать зло с корнем и предотвратить революции в сердце Европы, Стурдза предлагал отменить университетские привилегии, назначать профессоров «сверху», утверждать учебные планы, следить за посещаемостью лекций и ввести цензуру. Стоит ли говорить, какую бурю вызвал этот документ, который должен был остаться тайным, но был предан огласке кем-то из патриотов! Профессор естествознания Лоренц Окен из Йены изливал свой гнев на страницы журнала «Изида»: людям, приученным к рабству турками и русскими крепостниками, не понять значения гражданских свобод, дорогих сердцу европейцев! Немцы не позволят учить себя народам, которые сами должны благодарно принимать свет знаний, льющийся на них из Германии! В тихом Веймаре на воротах домов вывешивали объявления, чтобы предотвратить битье стекол: «Господин Стурдза здесь не проживает». Грек получил два вызова на дуэль. И вот тогда Август фон Коцебу решил помочь Стурдзе, намекнув в своем еженедельнике на то, что пресловутую записку тот написал не по своему почину, а «по высшему повелению». Сам Стурдза, сбежавший из Веймара в Дрезден, подтвердил эти слова, напечатав в местной газете ответ своим преследователям: он, чиновник Министерства иностранных дел, всего лишь исполнял приказ российского императора, а потому не может отстаивать высказанные им суждения ни пером, ни шпагой. Оба студента, бросившие ему вызов, забрали свои слова обратно, поскольку свободные немцы не станут требовать удовлетворения от холопа – от «пишущей машины». Не таков был Занд. Обладая неповоротливым умом фанатика, он решил, что и записку Стурдзы составил Коцебу, и поклялся не дать «предателю» уехать из Германии безнаказанным, чтобы наслаждаться нечестно нажитым богатством в России…
На почтовой станции под Дармштадтом Де Ветте сказали, что лошадей придется ждать не меньше двух часов. Вильгельм и Карл расположились на постоялом дворе, заказав себе обед. Когда они уже сидели за столом, к ним подошел жандармский унтер-офицер, из-за спины которого выглядывал почтмейстер, и попросил предъявить паспорт. Бросив предупреждающий взгляд на Карла («Молчи! Молчи!»), Де Ветте достал бумажник. Жандарм внимательно разглядывал обоих. Коротко остриженные волосы, бритое простодушное лицо и белый галстук, обхватывавший худую шею Де Ветте, не вызывали подозрений, зато русые кудри Карла, спадавшие на плечи, усы и борода а-ля Генрих IV казались вызовом общественному спокойствию. Но документы были в порядке, путников оставили в покое.
– Я тоже за единую Германию, но в настоящее время рад, что в каждом княжестве свои порядки и насолившие прусскому королю могут искать защиты у герцога Саксен-Веймарского, – попытался пошутить Де Ветте после ухода жандарма.
Карл невесело усмехнулся:
– Надолго ли? Карл Август тоже подписал Карлсбадские соглашения.
Гнусный, трусливый союз! Все то, что возмущало немцев в писаниях Стурдзы и Коцебу, теперь, с подачи князя фон Меттерниха, обрело силу закона и воплощалось на практике. Австрия и Пруссия, Бавария и Ганновер, Саксония и Вюртемберг, находившиеся в разных лагерях во время Наполеоновских войн, объединились между собой и принудили примкнуть к ним другие княжества, чтобы вместе душить свободное слово ради сохранения своей «политической и моральной неуязвимости». Занд пытался устрашить гонителей свободы неминуемостью возмездия – власти поступают точно так же с ревнителями вольности. Царь как будто ни при чем – он даже не был в Карлсбаде, когда принимали закон о цензуре, однако за напечатанную критику в адрес России или других «дружественных государств» издателю отныне грозит штраф, автору и распространителю – тюрьма. Многие лидеры студенческих союзов арестованы. Сплотившись между собой, враги Германии хотят разобщить и рассеять ее детей, ее спасителей! О Занд, неужели твой подвиг был напрасен?
Достав из своего бумажника клочок белого платка, Карл благоговейно прижал его к губам и бережно убрал обратно – а потом перехватил встревоженный взгляд отчима. Но Де Ветте ничего не сказал, потому что им принесли жареную говядину под зеленым соусом и тушеный картофель. Они молча принялись за еду, и, лишь когда тарелки и бокалы опустели, Вильгельм покашлял в кулак, собираясь говорить.
– Карл, ты уже взрослый и волен поступать, как тебе вздумается, – начал он. – Я верю в то, что ты никогда не пойдешь против своей совести, и в то, что у тебя чистая душа, но заклинаю тебя: не поддавайся химерам, не повтори ошибки Занда!
– Да, отец, – просто ответил Карл. Но, прежде чем тот облегченно вздохнул, добавил: – Занд изломал хворостину, которой нас секли, а надо было отрубить руку, которая ее держала!
Де Ветте всплеснул руками, досадуя на упорство пасынка и отчаявшись добиться понимания.
– Карл! – почти простонал он. – Как ты не понимаешь! Кинжал – оружие рабов, это средство получить нового хозяина, а не избавиться от оков! Разве в Турции, Швеции, России убийство государя привело к серьезным переменам для народов? Занд возомнил себя вершителем Высшей воли, позабыв о том, что гордыня – смертный грех, а он впал в этот грех, поставив себя вровень с Тем, кто один может даровать жизнь и отнимать ее. Господь уже послал вам знак, что Ему это неугодно: Занд не сумел лишить жизни себя. А чем кончилось покушение в Париже три месяца назад? Некий шорник, желавший извести Бурбонов под корень, пырнул шилом герцога Беррийского – последнего принца в роду, не имевшего наследника, и что же? Тогда же выяснилось, что герцогиня, которую он сделал вдовой, носит под сердцем дитя! Этот… Лувель совершил тяжкое преступление, не достигнув своей цели, как и Занд! Убив тирана, с деспотией не покончить, убив одного предателя, измены не искоренить! Злые, подлые, продажные люди будут всегда, их не истребить поодиночке – тем более ценой собственной жизни!
– Но что же вы предлагаете, отец? – нетерпеливо перебил его Карл. – Осуждать легко, а вот…
– Делать так, чтобы честных людей стало больше, чем подлых корыстолюбцев! Творить добро, внушать любовь, просвещать разум! Исполнять свой долг пастыря и проповедника! Идти по пути строителей соборов – создавать на века, воспитывать себе смену, передавая ей бесценные знания, не надеяться увидеть свой труд завершенным при жизни, но завещать его плоды потомкам!
Карл скривился.
– Кёльнский собор строят почти семь веков, и, может статься, что, когда его, наконец, закончат, он будет пустовать или его снесут вовсе!
– Да, так и будет, если толпы решат, будто им все позволено! – с горячностью подхватил Де Ветте. – Так было во Франции, когда народ оказался не готов к дарованной ему свободе! Вы думаете, что вас много и что весь народ рассуждает так же, как вы, но вы ошибаетесь. Вы – капля в море, но, с другой стороны, капля точит камень. Пойми, сын мой: можно долго и терпеливо пробивать в скале тоннель день за днем, год за годом, а можно взорвать скалу, чтобы побыстрее, но тогда камни обрушатся тебе на голову! Крайности притягивают крайности, тебе это скажет любой философ; самолюбивые последователи утопистов совершают злодейства, прикрываясь именами мучеников!
Почтмейстер сообщил, что лошади готовы.
Карл уже не раз давал себе слово не вступать в споры с отцом: он – человек старой эпохи, привыкший говорить, а не действовать, он предпочтет уступить, коли сила не на его стороне, но она и не будет на его стороне, если склонять голову под ударами, а не отвечать на них! С другой стороны, он прав в том, что настоящих патриотов все же мало по сравнению с безвольной массой, повинующейся властям, а вербовать себе сторонников нужно прежде всего убеждением. Если он, Карл, не способен переубедить собственного отчима, как сможет он повести за собой народ?
– Есть вещи, отец, которые нельзя откладывать на потом: железо куют, пока горячо, – сказал он негромко, когда они снова устроились в бричке. – Германия находится на переломе истории; если она сейчас не устремится ввысь, она покатится вниз.
Де Ветте молчал, не глядя на него, – вероятно, продумывал новую линию аргументов.
– Хорошо, чего вы хотите? – спросил он наконец.
– Свободы!
Вильгельм взмахнул рукой: опять за свое!
– Что ты понимаешь под этим словом?
Как бы ему объяснить?
– Видите эту птицу? – Карл указал рукой на стрижа, пронесшегося над дорогой. – Она может лететь куда угодно, не испрашивая себе паспорт. Она может жить там, где ей приглянется. Она может чирикать и свистеть обо всем, что ей вздумается. А когда настанет пора улетать в жаркие страны, эти птицы собьются в стаю и выберут – выберут! – себе вожака из числа самых опытных, сильных и разумных. Этой же стаей они прогонят тех, кто посягнет на их гнезда, зато вожак, какие бы личные выгоды ему ни сулили, не заставит их нападать на беззащитных, не сделавших им ничего дурного…
В снова наступившем молчании не звучало согласия.
– И что же вы намерены делать? – поинтересовался Де Ветте.
– Требовать конституции.
– Требовать? Каким образом?
– Как подполковник Риего в Испании.
Тучи опять заволокли все небо; солнце уже не пыталось пробиться сквозь них, да и зачем? Скоро ночь.
– Тебе известно, что царь приветствовал присягу короля Фердинанда испанской конституции и положительно отозвался о ней? И что он сохранил конституцию завоеванной им Финляндии? И даровал конституцию Царству Польскому, включив его в свою империю? Герцоги Саксен-Веймарский и Саксен-Кобургский ввели в своих владениях конституции, чтобы угодить императору Александру; покойный герцог Баденский, принявший, пожалуй, самую либеральную конституцию из всех, был родным братом российской императрицы…
– К чему вы все это говорите, отец?
В сумерках Де Ветте казался старше, чем при ярком свете; его изборожденное ранними морщинами лицо выглядело усталым, но умные серые глаза смотрели живо и проницательно.
– Вам не кажется странным, что самодержца не пугают конституции, утвержденные государями, по принуждению или без? Разумеется, нет. Пока конституция не выражает волю народа, лишь от монарха зависит, соблюдать ее или нет, сколько бы раз в ней ни упоминалось слово «свобода».
– Но мы и есть народ, отец! – горячо возразил ему Карл. – Вы же видели сегодня утром! И мы будем добиваться истинного освобождения…
– Как? Еврейскими погромами?
Заметив, что возница перестал напевать себе под нос и как будто прислушивается к их разговору, Де Ветте приложил палец к губам. Но потом все же добавил на латыни:
– Прошлое чудовищно, настоящее скверно, но будущее, которое вы нам готовите, – пугающе.
Глава первая
(А.С. Пушкин. «Деревня»)
- Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
- Надежд и склонностей в душе питать не смея.
Вечером собрались на квартире Яфимовича. Денщик принес все стулья, какие только были; хозяин устроился на слегка продавленном диванчике, облокотившись о потертый зеленый валик и закинув ногу на ногу, Муравьев-Апостол – у секретера, рассеянно листая «Сын Отечества», остальные – кто где. Вадковский, примостившийся на круглом стульчике у небольшого пианино, начал было наигрывать что-то одной рукой, но Казнаков попросил его перестать. Ермолаев снова вскочил и начал ходить по комнате, скрипя рассохшимся паркетом; Щербатов, сидевший верхом на стуле, положив руки на спинку, а голову на руки, молча следил за ним взглядом; Казнаков поморщился. У него опять разболелась голова: напоминала о себе пуля, полученная при Пирне; полковник уже испросил себе отпуск для лечения. Перед гравюрой императора Александра в мундире Семеновского полка Ермолаев остановился.
– Божился! – воскликнул он. – Образ хотел со стены снять! Сей же час, говорит, готов присягнуть на Евангелии!
– Но нам-то ты веришь? – устало спросил Платон Рачинский.
– Вам – верю! – резко повернулся к нему Ермолаев. – Но у меня в голове не укладывается! Как, зачем? Ведь он честь свою… Нам-то что делать?
– Пойти к нему всем вместе и объясниться, – предложил Муравьев. – Либо он прекращает свои оскорбления и удерживает себя в рамках приличия, хотя бы перед строем, либо…
– Зачем же всем? – не согласился с ним Яфимович. – Я полагаю, достаточно батальонных командиров. Полковник – человек у нас новый, характера неровного, в визите всех офицеров он может усмотреть демонстрацию… фрондёрства. Пойду я с Казнаковым… хотя лучше с Вадковским и с Обресковым. Кстати, где он?
– Мимо театра ехал, долго ли заблудиться? – ехидно вставил Кашкаров, с трудом втиснувшийся в кресло.
Тухачевский усмехнулся: все знали, что это неказистый Кашкаров прижил дочь с актрисой Асенковой, тогда как Обресков, полковой донжуан, остепенился, женившись на дочери генерала Шереметева. Однако от ядовитых замечаний воздержался: капитан Кашкаров был самым старшим по возрасту из всех присутствующих, только ему да Яфимовичу перевалило за тридцать.
В прихожей послышался шум, потом дверь распахнулась, и появился Обресков – высоченный, прямой как палка, с темной тучей волос вокруг бледного лба и взглядом жестокого красавца.
– Bonsoir, Messieurs[2], – произнес он небрежным и слегка удивленным тоном, словно не ожидал увидеть здесь целого собрания.
Ермолаев встал рядом с Щербатовым, не переменившим своей позы. Яфимович поднялся навстречу вновь пришедшему, поискал глазами свободный стул и сам перенес его поближе.
– Я вижу, что вы уже приняли некое решение, – заговорил Обресков, когда уселся и обвел медленным взглядом гостиную. – Прежде чем сообщить его мне, соблаговолите узнать причину моего опоздания.
Он выдержал паузу, чтобы завладеть всеобщим вниманием.
– По пути сюда я случайно встретился с генералом Бенкендорфом.
Новая пауза, исполненная значения.
– Он взял меня в свою карету, и мы имели довольно продолжительную беседу.
«Ну говори же, не тяни!» – было написано на лицах Вадковского и Ермолаева. Муравьев отложил журнал, Щербатов выпрямился.
– Начальник штаба осведомился, каковы настроения в полку. Я не счел нужным скрывать от его превосходительства неудовольствие среди офицеров моего батальона, вызванное… вспыльчивостью полковника Шварца, подчеркнув, однако, что сообщаю ему об этом частным образом. Александр Христофорович с большим сочувствием отнесся к тому, например, что после майского парада, в тот же день, когда полк удостоился высочайшей похвалы от его высочества, объявленной в приказе, полковой командир отчитал нас за слабо скатанные этишкеты и неровные ранцевые ремни…
– А сто ударов чуть запоздавшему рядовому, чьей ошибки больше никто и не заметил? – не выдержал Вадковский.
– Я в тот же день пошел к нему, и он отменил свое приказание, – вмешался Ермолаев, – но можно ли верить, когда он божится, что не говорил, а все слышали, что говорил!
Обресков приподнял в недоумении правую бровь; ему пояснили, что Ермолаеву не дает покоя давешнее происшествие с подпоручиком князем Мещерским, на которого полковник Шварц закричал перед строем: «Лентяев не терплю!», чем, конечно же, оскорбил и князя, и всех его товарищей, но этого мало: тем же вечером он поклялся Ермолаеву, что вовсе не говорил таких слов, и просил его выяснить и донести, кто из офицеров утверждает противное! Сначала он роняет достоинство офицера в глазах его подчиненных, затем возводит поклеп на других, обвиняя их в клевете, наконец, требует сделаться доносчиком – разве совместимо это с представлениями о чести? Долг офицера – исполнять приказы своего командира, но если приказы эти исходят от человека заведомо бесчестного, каждый поставлен перед нелегким выбором: либо не исполнять свою должность, что тоже против законов чести, либо стать палачом по воле начальника, не достойного уважения.
– Либо подать в отставку, – подал голос Щербатов.
– Vous allez trop vite, prince[3], – ответил ему Обресков снисходительным тоном. – Вы позволите мне продолжать, господа? Его превосходительство спросил меня, происходит ли равное неудовольствие и в других батальонах; я ручался ему, что все полковники подтвердят мною сказанное.
Он по очереди обернулся к Яфимовичу и Казнакову, те кивнули.
– Так вот, господа полковники: я имею честь передать вам приглашение генерал-адъютанта Бенкендорфа пожаловать завтра в три часа пополудни к нему домой. Его превосходительство желает выслушать нас, дабы подать нам совет и разрешить затруднительную ситуацию наилучшим образом.
Денщик Яфимовича объявил, что самовар готов. Офицеры прошли гуськом в тесную столовую; английские напольные часы прозвонили три четверти восьмого. За столом могли разместиться только шесть человек, остальные пристроились у подоконника и у самоварного столика. Яфимович сам разливал чай; денщик разносил чашки на блюдцах и тарелки с закусками. Разговор крутился возле малозначащих предметов. После чая Казнаков попрощался, сославшись на нездоровье; Обресков вызвался его проводить, Кашкаров и Тухачевский тоже ушли; прочие вернулись в гостиную.
– Месяц прошел, а не верится! – сказал Ермолаев.
Все невольно вздохнули.
Заканчивалась среда, двенадцатое мая[4] 1820 года. Месяц назад, вскоре после Пасхи, полковник Шварц был назначен новым командиром лейб-гвардии Семеновского полка вместо всеми обожаемого генерала Потемкина. О грядущем увольнении Якова Алексеевича узнали в начале апреля, когда Шварца перевели в полк из лейб-гренадеров. Офицеры тогда явились все разом в полной форме на квартиру генерала; Шварц тоже прибыл, чтобы представиться ему. Высокий, худощавый, с подкрученными нафабренными усами и чернеными волосами, с напряженным лицом усердного служаки, он вошел, не поздоровавшись и не поклонившись, и встал в сторонке. По обычаю, он сам должен был познакомиться с новыми сослуживцами, однако даже попытки такой не сделал; к нему тоже никто не подошел. Грудь Шварца была увешана крестами и медалями, но этим в Семеновском полку никого не удивишь. Зато молва, свободно летавшая из казармы в казарму, уже донесла, что Федор Ефимович Шварц – чистый аракчеевец, фанатик фрунта, из книг читавший только Устав и Писание, немец, родившийся в России и не знавший даже языка своих дедов. Начальствуя Калужским гренадерским полком, он мучил солдат с воистину нечеловеческой изобретательностью: заставлял, к примеру, проходить церемониальным маршем босыми по стерне. Погост, где хоронили забитых до смерти, назвали его именем…
Потемкин вышел из кабинета – и словно повеяло теплом. Будучи двумя годами старше своего преемника, выглядел он много моложе – может быть, потому, что не носил усов. В заботе природного красавца о своей внешности не было ни капли кокетства, язык не поворачивался приписать стройность его фигуры корсету; окутывавшее его ароматное облако было не столь велико, как его обаяние. Все, кроме Шварца, бросились к нему; генерал благодарил офицеров за службу и любовь к нему, потом напомнил о многих милостях государя к любимому им полку, заслуженных мужеством и беспорочной службой, пожелал сохранить их навсегда и ушел опять к себе, не сказав ни слова Шварцу. Не объяснялись они друг с другом и позже, когда, после официального назначения, в три дня нужно было передать все дела и представить квитанцию государю как шефу полка. Казначей Василий Рачинский сновал челноком между старым и новым командирами.
Шварца не было и на проводах Потемкина, хотя на прощальный обед явились даже бывшие семеновцы, вышедшие в отставку или получившие новые назначения. Три батальонных командира преподнесли генералу подарок от всего полка: бронзовую пирамиду, увенчанную орлом, на малахитовом пьедестале с оградой в виде поставленных вертикально и соединенных цепью бронзовых пушек с горящими на них гранатами. На трех сторонах пирамиды были списки офицеров по батальонам, а на четвертой надпись: «Генерал-лейтенанту Потемкину признательные офицеры Лейб-гвардии Семеновского полка». По четырем сторонам пьедестала мастер выгравировал золотыми буквами: «Люцен, Лейпциг, Кульм, Париж». Лилось шампанское, пили за здоровье генерала, кричали «ура!». Песенники из всех рот грянули дружно:
- Когда лились ручьи кровавы
- И мы, сияющим штыком,
- Исторгли знамя из рук славы —
- Потемкин нашим был Вождем.
Эти куплеты сочинил Николай Анненков, выпущенный в Семеновский полк из Пажеского корпуса поручиком и через восемь лет, в семнадцатом году, покинувший его полковником.
- Когда же громы замолчали
- И мы как будто б отчий дом
- В дружине ратной обретали —
- Потемкин нашим был Вождем.
Солдаты пели, а по их щекам катились слезы.
- Друзья! Годов свинцово бремя
- На нас падет, тогда вздохнем
- И скажем, вспомнив старо время —
- Потемкин нашим был Вождем.
Потемкин тоже плакал и не стыдился своих слез. Офицеры еще дважды требовали повторить куплеты и последний пропели вместе с хором:
- Тогда, покрыты сединами,
- Согбенные над костылем,
- Гордиться будем пред сынами —
- Что нам Потемкин был Вождем…
– О чем говорить Бенкендорфу? – спросил Вадковский.
Не сговариваясь, братья Рачинские, Ермолаев и Щербатов посмотрели на Муравьева. Тот немного подумал.
– Говорить надо о том, на что подчиненным не подобает указывать своему начальнику, однако начальствующий над ним самим мог бы поставить ему на вид. К примеру, у полковника есть привычка обращаться: «Я прошу вас», а после выражать свое неудовольствие, если было сделано не так, как ему хотелось. Однако не снизойти к просьбе – одно, а не исполнить приказ – иное. Да и приказы его часто противоречат друг другу. То отменит что-то, заведенное Потемкиным, то разрешит поступать, как прежде, то придумает, чего и вовсе нигде не видывали. Объяснить же толком не умеет.
– Да и кому он объясняет? – перебил Сергея Щербатов. – Созывает к себе фельдфебелей по три-четыре раза за день и толкует с ними. А после я командую на учениях – он мне при всех делает замечание, что он иначе распорядился. Я своим фельдфебелям приказал давать мне знать каждый раз, как их потребуют к полковнику, и стал являться вместе с ними – опять неисправность: меня он не вызывал! Указания дает не мне, а требует с меня!
– Это он нарочно! – лицо Муравьева осветилось внезапным озарением. – Он хочет оторвать ротных командиров от своих рот. Чтобы солдаты знали только одного начальника, который волен карать и миловать, а ротных командиров, которых полковник выставляет в их глазах пустым местом, перестали уважать и не видели более в них своих защитников.
– Ну, за своих ребят я уверен и сам за них всегда горой стоять буду! – горячо возразил Ермолаев. – Бить их не дам! И артельная казна у меня на сохранении находится: доверяют они мне.
– Кстати, полковник запретил солдатам тратить личные деньги на амуницию, однако на смотрах требует, чтобы все было по форме, вынь да положи, как говорится, – добавил Платон Рачинский.
Ермолаев взвился со стула:
– А на церковном параде в прошлое воскресенье? Я был дежурным офицером; нас трое было всего, никто из штаба не присутствовал и подтвердить не сможет. Вывели людей на плац за час до обедни; полковник у каждого осмотрел одежду, все ли пуговки начищены; потом пошли церемониальным маршем, пошереножно. Он одну шеренгу остановил – плохо идут, заставил маршировать учебным шагом. Потом снова тихим. Наземь бросился и смотрел, хорошо ли тянут носки! Взводами несколько раз прогнал, потом колонной, отделениями, рядами – в церковь поспели только к Херувимской! А еще клянется крестом и на иконах!
– Хорошо, что к Александру Христофоровичу все это понесем, – лицо Яфимовича было серьезно. – Он поймет, не отмахнется и придумает, как нам быть.
За генералом Бенкендорфом, бывшим в милости у государя и великих князей, еще тянулся шлейф славы лихого командира партизанского отряда, который по собственному почину захватил Амстердам и Бреду, приблизив триумф русского оружия. При всех его недостатках, честность его не вызывала сомнений. По возвращении в отечество Александр Христофорович снискал уважение одних и ненависть других, расследовав по приказу императора дело об убийстве двух крестьян помещиком Сенявиным. Богатый и знатный дворянин, Сенявин приходился родным братом госпоже Нарышкиной, в доме которой Бенкендорфа много лет принимали как своего, и дядей графу Михаилу Воронцову, его лучшему другу. Дело уже считали улаженным, однако Бенкендорф представил доказательства жестокой расправы барина над своими крепостными, случившейся много лет назад, Сенявина отдали под суд, император забрал все его состояние под опеку. Начальником штаба Гвардейского корпуса Бенкендорфа назначили прошлой весной, вместо графа Сипягина, внезапно впавшего в немилость из-за каких-то придворных интриг.
– Эх, жаль, что не к Милорадовичу, – отозвался Василий Рачинский.
Да уж, подумали все. Михаил Андреевич был любим всею гвардией. Фрунта он терпеть не мог; раз на полковом учении у павловцев приказал им пройти мимо себя церемониальным маршем, взяв ружье на руку, потому что привык их видеть идущими в штыки на неприятеля. Однако год назад графа уволили от командования Гвардейским корпусом, сделав генерал-губернатором Петербурга, и заменили генералом Васильчиковым 1‑м – человеком неглупым и храбрым в бою, но патриархального воспитания, привыкшим к беспрекословному повиновению младших старшим. При этом в Главном штабе он слывет либералом…
Из столовой вновь донесся перезвон часов – пора расходиться. Рачинские и Вадковский поехали к себе на квартиры, три капитана двинулись пешком в Семенцы.
Солнце заблудилось между тучами, брезгуя нырнуть с маковкой в грязно-серую накипь над остывающей землей и цепляясь желтыми лучами за темнеющий небосвод с багряным облачным подбрюшьем. Скоро эта борьба закончится и ночь начнет притворяться днем, вот только солнцу хватит сил лишь на то, чтобы превратить мглистый мрак в серые сумерки, одинаковые вечером и утром.
Шагая с товарищами к Обуховской площади, Сергей Муравьев не смотрел по сторонам. Он думал о том, что в служебных перестановках последних лет наличествует четкая система, хотя она и не бросается в глаза. На первый взгляд, храбрые (не только против неприятеля) и любимые солдатами генералы получают повышение и знаки доверия от государя, но на самом деле их попросту убирают подальше, заменяя капралами в золотых эполетах. Где, например, генерал Раевский, герой Салтановки и Бородина, раненный пулей в грудь под Кульмом и получивший «георгия» за бои под Парижем? Командует 4‑м пехотным корпусом в провинциальном Киеве, а Михаил Орлов, который составил условия капитуляции французской столицы, – там же, при нем, начальником штаба. Мишель Фонвизин, получивший к Кульмскому кресту прусский орден «Pour le Mérite»[5], переведен в далекий Тульчин вместе со своим егерским полком, где он запретил палки. Умный неутомимый Сипягин, бывший начальником штаба при Милорадовиче, теперь начальник 6‑й пехотной дивизии в Ярославле, и у него больше нет собственной типографии для издания «Военного журнала» с описанием подвигов русских воинов. Благородный граф Воронцов, запрещавший палочное ученье и насаждавший ланкастерские школы, отправлен в отпуск, а его корпус, за три года пребывания во Франции напитавшийся «либеральными идеями», расформирован. Потемкин сам просил государя уволить его от командования Семеновским полком, но кого он ввел этим в заблуждение? Его принудили подать такую просьбу, действуя исподволь и по испытанной методе: государь брал своего адъютанта в заграничные вояжи, прошлым летом утащил в Варшаву, когда смотрел там войска западных губерний, после чего оказал ему честь, назначив командовать Второй гвардейской пешей дивизией, в которую не входит Семеновский полк, а затем, через штабных генералов, начал пенять ему за то, что управление полком расстроилось. Однако дисциплина в полку нисколько не страдала от того, что офицеры по вечерам читали газеты и книги или играли в шахматы (вместо того чтобы варить жжёнку или резаться в карты), а солдаты все поголовно были грамотны и в свободное время занимались каким-нибудь ремеслом, приносившим прибавку к скудному жалованью. Придирались к мелочам, суть же была такова: Потемкин напрасно решил, что может ввести в своем полку свои порядки, – порядок должен быть один.
И этот порядок теперь деятельно вколачивали в головы и спины братья царя: Николай Павлович, получивший командование Первой гвардейской пешей дивизией, и Михаил Павлович, командир Первой гвардейской пешей бригады. Первый был всем доволен в строевом отношении, зато усмотрел много упущений в ведении полкового хозяйства и требовал отчетов по любым расходам; второй, напротив, входил во все подробности обмундирования, выправки и щегольства, сделал своей Библией уставы и был беспощаден перед фрунтом. Оба еще не видали настоящей войны, воспитывались бездушным немцем Ламздорфом – любимцем императора Павла и цесаревича Константина, двух великих экзерцисмейстеров, – и в свои двадцать с лишним лет продолжали играть в солдатиков, искренне убежденные, что у тех нет ни чувств, ни мыслей.
Самым обидным было то, что на окраинах великой империи дышалось вольготней, чем в сердце ее. Александр Павлович поддержал желание эстляндского дворянства освободить крестьян, примеру Эстляндии последовали Лифляндия и Курляндия, поляки получили конституцию, а русские – только обещания. В шестнадцатом году, воодушевившись примером эстляндцев, помещики Петербургской губернии пожелали обратить своих крепостных в вольных хлебопашцев и начали собирать подписи; из этого ничего не вышло: царь выразил им свое неудовольствие. Два года спустя, после варшавской речи Александра, князь Вяземский составил проект русской конституции и переслал в Петербург Николаю Тургеневу (ученику славного Генриха фон Штейна, отменившего крепостное право в Германии), прося его «завербовать несколько высокопревосходительств», которые, по меньшей мере, могли бы произвести разведку боем во дворце. Тургенев принялся за дело: сочинил записку, доказав в ней, что рабство в России не было водворено законом, а приписание крестьян к земле свершилось постепенно по праву сильного, стало быть, покончить с этим нетерпимым положением должно правительство, и государю вручил ее граф Милорадович. Император прочитал, одобрил, пообещал «сделать что-нибудь». Потом граф Воронцов с князем Меншиковым подали ему записку об учреждении общества, которое занялось бы рассмотрением важнейшего государственного вопроса об освобождении крестьян. Эта записка держалась в тайне; даже Карамзин не знал, что Вяземский, его воспитанник, в числе подписавших.
Общество! Это слово пугает царя больше всего. В Европе он хочет казаться либералом, а в России поступает как самодержец. Первый после Бога! Слово «общество» для него равносильно слову «заговор».
Наверное, ему является по ночам призрак отца, убитого гвардейскими офицерами. Иначе с чего было запрещать артели наподобие семеновской, в которых не было ничего крамольного? Офицеры совместно нанимали квартиры, питались в складчину, помогали друг другу деньгами, ведь на одно жалованье в столице не прожить, особенно если ты гвардеец. За последнее время гвардия разрослась в несколько раз, аристократию разбавили «бурбонами» – офицерами, выслужившимися из унтеров во время Заграничных походов. Экономя на всем, они набивались вшестером в квартиру, предназначенную для двух человек, обедали пустыми щами и кашей, а по вечерам сидели дома, вместо того чтобы ездить в театр или в собрания, – берегли мундир… Голодными повелевать легко.
Есть и еще одно страшное слово – просвещение. Засвети в темноте лампу – и вещи предстанут тебе совершенно иными. Слепой сделается зрячим, ему уже не нужен будет поводырь. Потому-то ценители игры носков при маршировке не любят игры ума. И если бы в потемках пребывало только простонародье! Множество дворян, не имея состояния, лишены средств к образованию. Не зря Фонвизин завел училище для своих подпрапорщиков и нанимает для них учителей…
Месяц назад павловские гренадеры подали жалобу на офицера, который отнимал у них деньги и хотел бить, когда они их требовали. Об этом случае заговорили не потому, что офицер, дворянин, обкрадывал солдат – это дело обычное, и даже не потому, что нижние чины посмели жаловаться – осмелели, погуляв по Европе. Всех поразил итог этой истории: полковое начальство получило выговор, виновного перевели из гвардии в армию, а для солдат все закончилось благополучно – даже Николай Тургенев удивился тому, что их не наказали палками. Да просто полк этот входит во Вторую гвардейскую дивизию, которой командует генерал Потемкин! Получается, что и один в поле воин! Прав, тысячу раз прав Павел Пестель, настаивая на том, чтобы оставаться на службе, а не…
– Всем вместе подать в отставку, – сказал Ермолаев.
Сергей очнулся и посмотрел на него. Верно, он так глубоко ушел в свои мысли, что не слыхал важного разговора. Щербатов покачал головой.
– Всех не уговоришь. Были б с нами, как раньше, Трубецкой, Нарышкин, Шаховской, Якушкин, тогда иное дело.
Гранитные башни Обухова моста рисовались черными клетками на светлом фоне Обуховской больницы – «желтого дома», как называли ее в Петербурге. На темной маслянистой воде Фонтанки тихо покачивались лодки, привязанные к вбитым в песчаный берег колышкам. Почти неслышные на каменной мостовой шаги вдруг сменились громким топотом по деревянному настилу. Муравьев взглянул на толстые железные цепи разводного механизма, перевел взгляд на полосатую караульную будку на том берегу и вдруг ясно вспомнил несчастное, страдающее лицо старшего брата с застывшими в глазах слезами.
Матвей приезжал к нему на Пасху из Полтавы, где второй год служил адъютантом князя Репнина, генерал-губернатора Малороссии. Ему надавали поручений, он целый день колесил по городу, встречался с прежними товарищами и добрыми знакомыми, был весел, разговорчив и улыбчив – оттого-то Сергея так и потрясла внезапная в нем перемена. Рассказ брата все объяснил. Было утро, Матюша шел через длинный Исаакиевский мост, должно быть, так же деревянно звеневший под его сапогами. Нева сонно дышала, мост слегка колыхался на ее могучей груди; ясное безоблачное небо окрашивало воды трепетной лазурью. Стучали колесами извозчичьи дрожки, спешили куда-то верхом адъютанты, торопились пешком штатские с озабоченными лицами. И в этом мельтешении он заметил гренадера, остановившегося у перил на середине моста, меж двух понтонов. Солдат снял кивер, расстегнул амуницию, аккуратно сложил на помост… Матвей бросился к нему, чтобы удержать от рокового шага. Правая нога, долгих пять лет не слушавшаяся его после ранения при Кульме, все еще плохо ему служила, он ковылял изо всех сил, задыхаясь от напряжения; солдат увидел офицера, испугался, поскорее перелез через перила, перекрестился и спрыгнул в воду…
Покойная мать воспитывала братьев в любви к отечеству, хотя юные годы Муравьевы-Апостолы провели в Париже и французскому языку обучились раньше, чем родному. Она же сообщила им страшную правду, когда они, наконец, миновали пограничный столб, возвращаясь на родину: «В России вы найдете рабов». Если бы они с рождения знали то, что им впервые довелось увидеть, когда Матвею было семнадцать лет, а Сергею четырнадцать, вероятно, они привыкли бы… хотя можно ли привыкнуть к варварству? Через два года после их возвращения началась Отечественная война. Низкорослый худосочный Матвей тогда уже был подпрапорщиком Семеновского полка, прежде Сергея бросив учебу в институте при Корпусе инженеров путей сообщения; он так и не окончил курс, а Сергей все-таки сдал потом все экзамены, но, вернувшись в пятнадцатом году из Франции с гренадерами Паскевича, тоже стал семеновцем. Тогда его ждало новое потрясение: в России ничего не изменилось! Народ, явившийся встречать своих героев, разогнали палками, чтоб не мешал прохождению войск, самих же героев вновь наказывали шпицрутенами! Сергей однажды вступился за солдата, которого приказали высечь, наказание отменили; после учений Матвей поцеловал ему руку, чем сильно его смутил…
– Кого мы напугаем своей отставкой? – спросил Муравьев приятелей. – Только не начальников наших. Иван прав: всех не уговорим, нас и так считают чудаками; только рады будут, что вакансия освободилась.
– Но как же можно служить…
– Им будем служить! – оборвал Сергей Ермолаева. – Солдатам нашим! Они в мороз нам место у костра уступали, делились кашей, а мы что же – бросим их на произвол всяких шварцев ради своего спокойствия?
Щербатов громко продекламировал:
- Пока свободою горим,
- Пока сердца для чести живы,
- Мой друг, отчизне посвятим
- Души прекрасные порывы!
Запоздалый прохожий взглянул на них испуганно и шарахнулся в сторону.
– Чьи это стихи? – спросил Муравьев, хотя уже знал, каким будет ответ.
– Пушкина. Это он написал Петру Чаадаеву, когда его назначили адъютантом к Васильчикову.
Кого в адъютанты, кому командование только что созданными частями – семеновцев нарочно разлучают, снова подумал Сергей. Скоро уже некому будет вспоминать «Люцен, Лейпциг, Кульм, Париж», беседы с немецкими офицерами о конституции. Только Общество – Союз Благоденствия – еще удерживает вместе боевых товарищей. Хотя князь Шаховской приметно отдалился от него после женитьбы на княжне Щербатовой – сестре Ивана, а безнадежно влюбленный в нее Якушкин скрылся в деревню… Лишь бы он там руки на себя не наложил… Хотя не такой человек Иван Якушкин, чтобы лишить себя жизни без пользы. Будь он здесь – вызвал бы Шварца на дуэль.
– Ты не видал его перед отъездом? – спросил Щербатов.
Кого? Ах да. Муравьев покачал головой: нет, его рота накануне была в карауле в Галерном полку, ночью явился Михаил Павлович – выискивать неисправности, был раздосадован тем, что не нашел… Сергею тогда было не до Пушкина. К тому же и знакомы они не коротко.
– Ему сейчас, пожалуй, даже лучше быть подалее от Петербурга, – сказал он. – Николай Раевский как раз едет к отцу, станет попутчиком до Киева.
Александра Пушкина гвардейцы знали еще с тех лет, когда он учился в Царском Селе. L'inévitable lycée[6], как говорили придворные дамы, перед вечерней зарей можно было встретить у дворцовой гауптвахты, где в этот час обычно играла полковая музыка. Молодые офицеры брали под свое крыло лицеистов, которых, по желанию государя, обучали артиллерии, фортификации, тактике и верховой езде. Пушкин мечтал сделаться новым Денисом Давыдовым – гусарским полковником и поэтом; генерал Киселев поощрял его в этом намерении, но так и не похлопотал за него, и Пушкин, не согласившись на службу в пехотном полку, поступил в Коллегию иностранных дел. Однако связь не прервалась, гвардейские офицеры переписывали друг у друга стихи Александра и заучивали их наизусть; он позволял себе говорить вслух то, о чем другие только думали про себя, а иные и подумать боялись.
Когда прошлой весной Александр Стурдза, затравленный германскими студентами, явился в Петербург, столицу облетела эпиграмма Пушкина:
- Холоп венчанного солдата,
- Благослови свою судьбу:
- Ты стоишь лавров Герострата
- И смерти немца Коцебу.
Перед Стурдзой закрылись многие двери, которые прежде были для него открыты; не пытаясь опротестовать вынесенный ему приговор, он уехал в свое имение и заперся там.
Пушкин мог бы сыграть большую роль в распространении здравых политических идей, на что и рассчитывал Николай Тургенев, когда затеял свое журнальное общество. Но было в его характере нечто такое, что препятствовало полной с ним откровенности, не позволяло доверить тайну. В Александре оставалось еще много от избалованного ребенка: все должны были дивиться ему, потакать его желаниям; он хотел первенствовать во всем, легко обижался, зато сам не задумываясь переступал ту грань, за которой шутка становится оскорблением; покровительственная улыбка Александра Чернышева или других генералов, царивших в высшем свете, побуждала его с усердием забавлять их своими остротами, хотя он не встретил бы в них сочувствия к мыслям, высказанным в его лучших стихах; даже чувство благопристойности порой изменяло ему, когда он, после «Деревни» или «Вольности», вдруг принимался кропать скабрезные вирши, вставляя в них такие словечки, какие офицеры-семеновцы изгнали из своего обихода. Вот почему ни Тургенев, ни Федор Глинка – собрат Пушкина по перу и полковник Главного штаба, состоявший при Милорадовиче для поручений, – не предложили ему вступить в Союз Благоденствия, хотя несколько бывших лицеистов туда приняли.
К Глинке перепуганный Пушкин прибежал, когда получил повеление явиться к генерал-губернатору, но Федор успокоил его и посоветовал положиться на благородство души Милорадовича. И не ошибся. Услышав, как полицмейстеру приказали ехать на квартиру Пушкина и опечатать все бумаги, Александр сказал, что это лишнее: он все бумаги сжег, однако может прямо сейчас восстановить все то, что надеялась найти у него полиция. Ему дали перо и бумагу, он трудился несколько часов, воспроизводя по памяти свои крамольные вирши. «Ah, c’est chevaleresque![7]» – воскликнул Михаил Андреевич, пожал ему руку и отпустил домой, велев ожидать там решения своей судьбы, а на другой день сам явился на аудиенцию к государю и сообщил, что простил вольнодумца от имени императора. Только это и помешало сослать Пушкина в Сибирь: царь распорядился выдать ему прогоны и, сохранив за ним чин коллежского секретаря, отправить в Екатеринослав к генералу Инзову – будто бы по службе.
– Не понимаю, что он станет делать в Попечительском комитете, – пожал плечами Щербатов. – В колонисты к нам едут главным образом немцы, а Пушкин, насколько мне известно, немецким не владеет.
– Вот и выучит. Все не без пользы. И генерал Инзов – доброй души человек. Он французов пленных щадил, что уж говорить про своих.
– Юг – не Сибирь, – согласился Ермолаев. – А могли ведь, как Радищева, за соболями отправить.
Дежурный в офицерском доме вскочил и отдал рапорт: все благополучно. Приятели расстались; Муравьев поднялся в свою квартирку. В прихожей, служившей камердинерской, сидел его денщик у кенкетной лампы и, ловко орудуя иглой, подшивал обтрепавшийся обшлаг рукава. Капитан сделал ему знак рукой, чтоб не вставал.
– Спрашивал меня кто-нибудь? – спросил он, по очереди вставляя ноги в машинку для снятия сапог.
– Никак нет. Фельдфебель заходил только; я сказал, что вы у батальонного, он и ушел.
Сергей вдруг вспомнил, что пропустил почтовый день, не написав ни брату в Полтаву, ни папеньке в Хомутец, и мысленно побранил себя за это.
Перекусив зубами нитку, денщик отложил свою работу, встал, помог его благородию снять мундир, аккуратно повесил в шкаф; капитан сказал, что ему больше ничего не нужно. «Отдыхай, Лука».
Он лежал на узкой железной кровати с закрытыми глазами, но сон не шел. В голове крутились каруселью мысли; извилистая синяя жилка на виске Шварца сменялась светлой улыбкой Потемкина, вместо вытаращенных глаз Ермолаева появлялись печальные глаза Матюши, а из-под них всплывали круглые очки и суровый взгляд отца… Отставка! Да, это было бы хорошо – бросить службу, удалиться в имение; Матвей тоже мечтает возделывать свой сад, но отец не позволит; все офицеры не согласятся – на что жить? У Ермолаева всего сто душ, за матерью Вадковского числятся три тысячи; ну и что: папенька прожил два миллиона, а денег на учение в Гейдельберге не дал, на отставку не благословил; у Якушкина сто с лишним душ, он хотел их всех освободить, они не пожелали без земли; папенька уже пятнадцать лет отлучен от службы и томится этим, в столицах бывает только по делам литературным, недавно взялся переводить Аристофана; Матвей сердит на него: зачем он снова женился; брат и у Германа курса не кончил – уехал лечить рану на Кавказ; Пестель учился у Германа в Пажеском корпусе и ничего нового из частных лекций не почерпнул, но для свежего человека познавательного было много…
Статистика – средоточие всех политических наук, доставляющее им доказательства. Вот бы подсчитать, сколько солдат погибло за войну от руки неприятеля, а сколько забито в мирное время рукой палаческой, – подсчитать и опубликовать! Карл Федорович, правда, говорил, что обладание знаниями не гарантирует употребление их для общего блага, но это не значит, что знания не нужно распространять. Иначе так и будем veluti pecora[8], как папенька скажет, и никакая конституция сама собой не зародится. Пестель как будто пишет свою конституцию, хотя, по тому же Герману, общественный договор не должен быть писаным, но проистекать из общих нужд общества – благосостояния и безопасности. Благосостояния и безопасности… Разве не видно, что благосостояние одних основано на нищете других, которые, по той же причине, не чувствуют себя в безопасности? Герман говорил, что государства зиждутся на силе и что все они, в их нынешнем виде, происходят из бунтов, мятежей и революций с последующим заключением мирного договора. Отец же считает, что в России революции вовеки не было и вовек не будет, потому что народ наш от добра добра не ищет, философию заменяет здравым смыслом, а воспаленные мозги в нескольких горячих головах – предмет завозной, не домашний, никакой точки соединения с целым обществом они не найдут…
Но получилось же в Испании! Сколько раз за время последней войны испанцев уподобляли россиянам: крепко веруют в Бога, искренне любят своего монарха, особа которого священна и неприкосновенна, не потерпят ноги чужеземца на своей земле. Но испанцы-то приняли конституцию! И заставили своего короля ей подчиниться! Генерал Квирога, в свое время сражавшийся против Наполеона, был брошен в тюрьму после того, как поверженный император французов вторично отрекся от престола. Революция освободила его; Квирога захватил остров Леон и принудил ненавистного генерала Фейра зачитать народу конституцию 1812 года; подполковник Риего, командовавший Астурийским батальоном, в январе выступил из Лас-Кабесаса под Севильей к Мадриду и в марте достиг своей цели, хотя его колонну считали истребленной. Мадридский гарнизон перешел на сторону инсургентов; в столицу привезли генерала Бальестероса, заточенного в Вальядолиде, и он убедил короля, что принять волю народа – единственный способ избежать кровопролития. С инквизицией покончено навсегда, Бальестерос возглавил армию, Квирога и Риего теперь королевские генерал-адъютанты, в монастырях присягают на верность конституции, в разных провинциях составились общества по распространению просвещения и общеполезных знаний, учреждаются народные училища и библиотеки… Возможно ли такое у нас? Кто станет нашими Квирогой и Риего?
На собрании Коренной управы этой зимой, на квартире у Глинки, долго спорили, что лучше – монархия или республика. Даже когда закончили прения и стали собирать голоса, каждый подробно объяснял причину своего выбора, только Николай Тургенев выпалил: «Le président, sans phrases»![9] Глинка единственный говорил в пользу монархии, однако предлагал не кого-либо из братьев царя, а императрицу Елизавету Алексеевну. Иван Якушкин, Никита Муравьев, Иван Шипов, Павел Пестель – все были за республику. Пестель, может быть, прочит в президенты себя…
Профессор Герман утверждал, что при демократии неизбежны раздоры и бунты; хитрые демагоги вкрадываются в любовь народную и делают еще хуже монархов, народ же может опрокидывать существующие учреждения, но не умеет поставить на их место лучшие, изнуряется в слепых порывах своих, а там кто угодно явится и вновь наденет на него оковы. Все это, может, и верно, зато монарх (или монархиня), имея своим предшественником сурового отца, нелюбимого мужа или брата, может не удержаться от искушения и уничтожить все, созданное ненавистным родственником, не думая о пользе государственной. Далеко ли ходить за примерами!
Папенька знал о готовившемся свержении императора Павла, но царской кровью рук своих не обагрил, однако и о заговоре не донес. Александр сперва был к нему милостив: позволил унаследовать фамилию Апостол от деда по материнской линии и вместе с ним – громадное состояние бездетного Михаила Апостола. Где теперь те миллионы… Да и милость царская…
Отца Пестеля года полтора как уволили от должности сибирского генерал-губернатора из-за участившихся доносов; ревизовать его в Сибирь поехал Сперанский, которого царь в одиннадцатом году в одночасье снял с поста государственного секретаря и выслал в Нижний Новгород под конвоем, а теперь снова приблизил к себе. Чтобы не споткнуться на служебной лестнице, надо вовремя подставить ножку другому… Пестель не любит об этом говорить; он сейчас хлопочет через Витгенштейна о своем повышении, готов даже перевестись из гвардии в армию, лишь бы в скором времени получить под свою команду полк, а немилость государя к отцу может порушить все его планы. Отец же его виновен лишь в том, что, будучи сам честен и не корыстолюбив, предполагал подобные качества в других и позволял своим именем творить произвол. Жалобы, доходившие до Петербурга, рассматривались при его же содействии; граф Аракчеев уверял Ивана Борисовича, что император имеет выгодное о нем мнение, да и сейчас сенатор Пестель посещает заседания Государственного совета и придворные праздники. Возможно, он все еще верит кротким глазам и сладким речам Александра Павловича…
Зато Аракчеев, процветавший при Павле, и при Александре не обижен. «В столице он – капрал, в Чугуеве – Нерон; кинжала Зандова везде достоин он». Так сказал о нем Пушкин, когда граф подавил бунт военных поселенцев в Слободско-Украинской губернии, запоров насмерть двадцать человек и четыреста отправив на каторгу. Как будто навязанное поселенцам житье – не каторга! Причем сам Аракчеев как военный министр не видел никакой пользы в устройстве поселенных полков, но – государю виднее. Делай, что велено. А ведь государь – всего лишь человек, он не безгрешен. Сатана один столько бед не наделает, сколько сотни его нерассуждающих подручных…
Папенька философствует о том, что человеку свойственно любить разрушение: оно дает ощущение бытия, сильной воли, все преодолевающей, потому и воин пристрастен к своему ремеслу, хотя смерть грозит ему на каждом шаге. Привыкнув к сильным потрясениям, человек уже не мыслит без них своей жизни; отними их у него – он впадет в сомнение или в отчаяние, в злую душевную болезнь, источник несчастий. Во время войны мечтают о мире, воображая себе счастливую жизнь среди полезных трудов и родственной любви, а возвращаясь с полей сражений, находят скуку, пошлость, раздоры, разврат от праздности… Спасение в одном: иметь твердую, непоколебимую цель – быть полезным. К ней нужно всечасно стремиться, только достигнуть ее нельзя, ибо мы сотворены, чтобы желать, а не чтобы иметь… чтобы желать иметь…
Когда Лука слегка потряс капитана за плечо, чтобы разбудить его, самовар был уже готов, а от аромата свежих булок текли слюнки. Чисто выбритый, причесанный, подтянутый, Муравьев-Апостол явился в свою роту в половине девятого одновременно с десятком солдат, только что вернувшихся со смотра у полковника. Они были бледны и измучены, у Савельева колено распухло так, что вот-вот лопнут панталоны, – Шварц заставлял их подолгу стоять на одной ноге, вытянув другую, добивался правильного угла и изящества, хлопая линейкой по колену, голени или пятке. Освободив мучеников от учения и приказав им отдыхать, Сергей отправился на плац, внутренне клокоча. Эти люди уцелели в жестоком сражении при Кульме, и спасло их отнюдь не умение вытягивать ногу в струнку при ходьбе! Неужели ранами, принятыми за Отечество, они не заслужили лучшего к себе отношения? Он непременно высказал бы все это Шварцу, однако тот, вопреки обыкновению, за все три часа эволюций и деплояд на плацу не появился. Вадковский где-то разузнал, что полковника вызывал к себе Васильчиков; от генерала он вернулся тихий и заперся у себя. Неужели Бенкендорф начал действовать?
Послеобеденные часы в ротах отводились под словесность. Солдаты теперь были грамотны и уже не повторяли «Артикул воинский» за чтецом, а сами читали хором вслух по книжке – так распорядился Шварц.
– Если кто подданный войско вооружит, или оружие предприимет против его величества, или умышлять будет помянутое величество полонить или убить, или учинит ему какое насильство, тогда имеют тот и все оные, которые в том вспомогали или совет свой подавали, яко оскорбители величества, четвертованы быть, и их пожитки забраны, – доносилось до Муравьева. – Такое же равное наказание чинится над тем, которого преступление хотя к действу и не произведено, но токмо его воля и хотение к тому было, и над оным, который о том сведом был, а не известил…
Мысли Сергея вернулись к январским спорам. На другой день после голосования о республике собрались у подполковника Ивана Шипова в Преображенских казармах. Цель была ясна, теперь требовалось договориться о средствах. Никита Муравьев и Павел Пестель твердо стояли за цареубийство и вооруженное восстание; Илья Долгоруков резко им возражал и тогда же сложил с себя обязанности блюстителя Общества. Сергей тоже был против, доводы Пестеля о том, что анархию можно предотвратить, назначив наперед временное правительство, его не убеждали. Солдаты, которые сейчас прилежно разбирают «Артикул», в бою готовы были заслонить его своей грудью, но станут ли они защищать убийцу царя-батюшки? Убить царя значит убить доверие народа.
В Англии на днях казнили злоумышленников, вздумавших истребить сразу весь кабинет, бросив бомбу во время обеда у премьер-министра. «Покушение» готовилось с ведома правительства, поскольку главный помощник вожака заговорщиков был полицейским агентом. Это был способ и устранить одновременно всех людей, способных к решительным действиям, и проверить настроение в обществе. Толпа, собравшаяся на казнь, вела себя мирно и наказание заговорщиков одобрила, хотя среди зрителей и раздавались возмущенные голоса: «Где предатель Эдвардс? Казнить и его тоже!» А ведь нынешнее правительство в Англии не любят, в последние месяцы то в одной провинции возмущение, то в другой; один из казненных, Тистлвуд, еще прежде отсидел год в тюрьме за то, что вызвал на поединок министра внутренних дел. Однако граждане не пожелали быть облагодетельствованными путем убийства… Нет, на крови ничего прочного не построить.
Английских заговорщиков приговорили к четвертованию, как того требовал закон, но, рассудив, что это казнь средневековая, заменили ее повешением с последующим отрубанием головы. В Париже гадалка Ленорман предсказала Сергею, что его повесят…
– Кто фельдмаршала или генерала бранными словами поносить, или в компаниях и собраниях прочих предосудительные слова, их чести касающиеся, говорить будет, тот имеет телесным наказанием наказан быть или и живота лишен, – продолжалось хоровое чтение.
В половине пятого Ермолаев, Щербатов и Муравьев-Апостол, измучившись от ожидания, отправились к Вадковскому на Фонтанку; тот как раз вернулся.
– Слышали, что Царскосельский дворец сгорел? – огорошил он их с порога.
– Как сгорел?!
– Вчера днем дворцовая церковь занялась, а оттуда огонь перекинулся на галерею. От Лицея одни стены остались, покои государевы тоже пострадали, вплоть до Янтарной комнаты. Сегодня только потушили.
Офицеры подавленно молчали.
– Государь сильно огорчен, – продолжал Вадковский, – он… я надеюсь, господа, мои слова не выйдут за пределы этой комнаты? Будучи мнителен, он принял пожар за дурное предзнаменование.
Возразить на это было нечего.
– Ну а с нашим-то делом как? – не выдержал нетерпеливый Ермолаев.
Вадковский вздохнул.
– С Александром Христофоровичем поговорили хорошо, по душам. Не знаю, кто кому больше жаловался – мы ему или он нам. В штабе интриги, одни наушничают царю, другие – великому князю Константину… Бенкендорф сказал, что положил себе за правило четко исполнять приказы высшего командования, чтобы, по меньшей мере, совесть его была чиста, и нас призывал к тому же. Служебное рвение – единственный способ заслужить благоволение императора и доказать ему свою преданность. Если начальство будет уверено в нашем послушании, к нашей просьбе прислушаются и полковника заменят; надо лишь набраться терпения и дождаться выхода в Красносельские лагеря, приема у государя. А прежде того просил нас сообщать ему обо всех важных происшествиях, какие могут вызвать неудовольствие начальства.
На обратном пути Ермолаев кипел. Да что же это такое? Все ждать, молчать да кланяться! Семеновцам выходить в лагеря еще не скоро – в самом конце июня. Месяц пробудем там, оттуда на праздник в Петергоф. Вот уж где потребуется наука носки тянуть! А Шварц расстарается! Михаил Павлович им премного доволен! Заменят его, как же!
Сергей не отвечал: его встревожила внезапная и острая боль в горле. Неужели опять ангина? Голос искусителя нашептывал: «Отпуск по болезни!» Нет, пустяки, пройдет. У него уже так бывало: как захандришь, наваливается недуг, а если бодр и уверен в себе, так никакая хворь не берет. Придя домой, капитан послал Луку к аптекарю за шалфеем для полоскания.
Глава вторая
(А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила»)
- О дружба, нежный утешитель
- Болезненной души моей!
- Ты умолила непогоду;
- Ты сердцу возвратила мир;
- Ты сохранила мне свободу,
- Кипящей младости кумир!
– Доктор, доктор! Идемте скорее со мной! Я нашел здесь моего друга, он болен, ему нужна ваша помощь.
Рудыковский взглянул на Николая Раевского с нескрываемым неудовольствием. Дорога из Киева была утомительной; доктор успел только умыться и мечтал о том, как напьется горячего чаю, переменит белье, ляжет отдыхать… Но молодой человек разве что не топал ногой, подобно гусарскому коню. Вздохнув, Евстафий Петрович вновь натянул еще не вычищенный дорожный сюртук, покрыл лысину фуражкой и взял свой несессер.
Они вышли на Большую улицу, которая вполне оправдывала свое название: бесконечно длинная и настолько широкая, что на ней могли разъехаться несколько экипажей, да еще и разойтись небольшие стада гусей и коз – незаменимых сожителей екатеринославских обывателей. Каменных домов было мало, зато деревянные усадьбы окружали себя садами и огородами. Миновав большой почтовый двор, обнесенный чугунной оградой с кирпичными столбиками, свернули влево. Обшитое шалёвкой двухэтажное здание с мезонином и портиком на четырех оштукатуренных колоннах оказалось городской гимназией. По этой улице степенно шествовали дамы под руку с солидными мужьями; красный доломан Раевского с золотыми шнурами заставлял их долго смотреть ему вслед. Оставив в стороне фабрику с примыкавшими к ней строениями, стали спускаться к Днепру между хуторами казачьей Половицы; перешли по ненадежному каменному мостику через глубокую балку с ручьем и очутились под горой, напротив казенного сада, позлащенного лучами заходящего солнца. Это была Мандрыковка: приземистые беленые хатки, крытые камышом, казались еще ниже по соседству с раскидистыми вековыми деревьями; по склону горы вскарабкались несколько бараков; обнесенный высоким забором острог стоял на усыпанном валунами берегу супротив лесистого Станового острова, который, словно дразнясь, вывалил из зеленой пасти длинный песчаный язык. Раевский уверенно направился к небольшому домику у самого берега; в дверях стоял и кланялся хозяин – чернявый носатый еврей. Потолок был такой низкий, что Рудыковский невольно пригнулся, проходя под притолокой. На дощатой лежанке сидел в одном исподнем щуплый курчавый молодой человек с бледным небритым лицом – это и был друг Раевского.
– Вы нездоровы? – строго спросил Рудыковский, глядя на него поверх очков.
– Да, доктор, немножко пошалил – купался; кажется, простудился.
Голос был сиплый, рука – горячей, пульс слегка учащен. Подведя больного к окошку, Евстафий Петрович велел ему раскрыть рот и высунуть язык. Глотка воспалена, на языке белый налет, а зубы ровные, здоровые.
– Лихорадка, – объявил врач, обращаясь к Раевскому, – но ничего страшного нет.
Потянувшись за своим несессером, который он не глядя поставил на стол, Рудыковский увидел чернильницу с торчавшим из нее обкусанным пером и лист бумаги, покрытый рисунками и мелкими, часто зачеркнутыми строчками.
– Чем это вы тут занимаетесь?
– Пишу стихи, – просипел больной и улыбнулся.
– Нашли тоже время и место. А вот это долой! – указал доктор пальцем на запотевший кувшин с квасом, наверняка ледяным. – На ночь – теплое питье, и если завтра лучше не станет, то хины.
Стоявший в углу человек, которого он прежде не заметил, метнулся вперед и забрал кувшин.
– Премного благодарны! – сказал он, пытаясь поцеловать Рудыковскому руку. – Уж вы, батюшка, вразумите их! Вас-то они послушают! Говорил ведь им, что вода холодная, – куды там! Им жарко, они купаться желают! Им забава, а мне перед барином ответ держать!
– Никита! – прикрикнул на слугу больной и скривился от рези в горле. – Ступай вон!
Раевский еще немного задержался и нагнал доктора, когда тот уже сердито шагал вверх по тропе. Весь обратный путь до губернаторского дома они молчали; у лестницы на второй этаж Рудыковский сухо пожелал Николаю доброй ночи.
Поздним утром, когда Евстафий Петрович наконец-то показался обществу, он был неприятно удивлен, увидев давешнего больного, который выглядел теперь вполне здоровым. Доктору радостно сообщили, что генерал Инзов отпускает своего подчиненного лечиться на Кавказ по ходатайству генерала Раевского – вместе поедем!
За обедом гость без умолку болтал с Николаем по-французски и то и дело громко смеялся. Сидевшие напротив них младшие Калагеорги в разговор не вступали, больше перешептываясь между собой, – они были еще юны и конфузились, зато губернаторские дочки на другом конце стола забрасывали вопросами девочек Раевских, которые, напротив, старались держать себя чинно под строгим взглядом гувернантки-англичанки и учителя-француза. Рудыковский сидел рядом с учителем, генерал Раевский ухаживал за хозяйкой дома. Губернатор выйти к столу не мог: полгода назад его хватил удар. Николай Николаевич не знал об этом, когда ехал сюда, иначе не стал бы доставлять лишних хлопот почтенной Елизавете Григорьевне.
Губернаторша, впрочем, была сама любезность. Она расспрашивала генерала о том, как ему показался Екатеринослав. Раевскому не приходилось кривить душой, когда он отвечал ей, что места здесь прекрасные, и город, хотя и не обширный, являет собой весьма приятную картину: улицы и дома чистые, везде сады с роскошными деревьями – просто оазис среди степей. Жаль только, что большая церковь, заложенная при императрице Екатерине, так и не построена, а великолепный дворец князя Потемкина разваливается…
– Был у нас однажды великий князь Николай Павлович, осмотрел дворец и сказал: «Сей человек все начинал, да ничего не кончил», – с ноткой обиды ответила Елизавета Григорьевна. – Должно, повторил за кем-нибудь; не может быть, чтобы сам выдумал.
Между черными бровями Раевского резче обозначилась двойная суровая складка.
– Светлейший князь Потемкин заселил обширные степи, распространил границу до Днестра, сотворил Екатеринослав, Херсон, Николаев, флот Черного моря, уничтожил опасное гнездо неприятельское внутри России приобретением Тавриды! А не закончил только круга жизни человеческой, умер во всей силе ума и тела!
Глуховатый Раевский говорил так громко, что все остальные притихли. Губернаторша слушала, благодарно кивая почти каждому слову. Доктор не удержался от искушения вглядеться в ее круглое, довольно заурядное лицо с коротковатым носом и двойным подбородком: ходили упорные слухи, что Елизавета Григорьевна – плод тайного брака, заключенного императрицей Екатериной с Потемкиным, когда тот еще не был ни светлейшим, ни Таврическим, и что будто бы в молодости она была копией своего отца. Теперь уж ей минуло сорок пять, и многочисленные роды усугубили природную склонность к полноте, которую более нельзя было назвать здоровой.
Раевский справился о старших сыновьях хозяйки, учившихся в Кадетском корпусе; оказалось, что они уже выпущены офицерами. Две старшие дочери здоровы, с мужьями, слава Богу, живут дружно; собирались приехать на Троицу навестить родителей, да отца вряд ли застанут: хоть и трудно, и боязно, а надо везти его на Железные воды, про них просто чудеса рассказывают. Лицо хозяйки опечалилось.
– Я ведь зимой не хотела его отпускать, как сердце чувствовало! Да разве можно было не поехать… Вот и теперь сердце не на месте. Знаете ведь, что у нас творится.
Грек по рождению, Иван Христофорович воспитывался вместе с великим князем Константином, которого великая бабка хотела посадить на возрожденный византийский трон. Вместо этого он стал наместником в Царстве Польском. На Рождество Калагеорги отправился к старому приятелю в Варшаву, где цесаревич готовил большой парад, продрог на зимнем ветру, а потом, в жарко натопленном дворце, вдруг лишился ног и языка. Врачи только руками разводят, делами пока заправляет вице-губернатор Шемиот… Это Раевскому было уже известно, но почему опасно ехать на воды?
– Бунт, батюшка, – сказала Елизавета Григорьевна, понизив голос. – Говорят, что похуже пугачевского! В степях, на Дону. Из Петербурга генерала прислали с войском и с пушками, а то и не сладить с разбойниками.
– Какого генерала? – удивился Раевский.
– Как будто Чернышева.
– Александра Ивановича? Ну, тогда не тревожьтесь понапрасну: опасность не столь велика.
После обеда непоседливый гость вновь задал доктору хлопот: у него начался жар, озноб, налицо были все признаки пароксизма. Рудыковский достал из кармана записную книжечку с карандашиком и принялся выписывать рецепт.
– Доктор, вы мне дайте чего-нибудь получше, дряни в рот не возьму! – предупредил его курчавый.
Евстафий Петрович пожал плечами: как угодно!
– На чье имя писать? – спросил он.
– Пушкин.
В голубых глазах больного промелькнуло озорное выражение, губы сложились в насмешливую улыбку, словно намекая: «Ну а на это что скажешь?» Военный лекарь точно знал, что во всем Четвертом корпусе нет ни одного офицера с такой фамилией, и среди высшего начальства тоже, поэтому он равнодушно отдал Пушкину рецепт на слабенькую, сладкую микстурку.
Пушкин остался ночевать в губернаторском доме, чтобы завтра рано поутру отправиться в путь; его человек побежал в Мандрыковку собирать вещи. Николай Николаевич объяснил Рудыковскому, что это давний друг его младшего сына, еще по Царскому Селу, служит по статской, нашалил в столице и прислан в канцелярию Инзова для исправления.
После завтрака больной уселся в открытую коляску рядом с другом-капитаном, учитель перебрался в карету к генералу и доктору, другую заняли Машенька и Сонечка с мисс Маттен, няней и татаркой Зарой (крестницей Раевского, звавшейся теперь Анной Ивановной), люди тоже разместились, кто где. Выслали вперед курьера, захватили кухню и тронулись.
Утро было свежим, ясным, бодрящим. Выехав из Екатеринослава, покатили по Мариупольскому тракту, вдоль берега Днепра. Скучать в дороге не приходилось: тракт был изрезан балками и оврагами, экипажи то летели вниз, то тащились вверх, и тогда седоки выбирались наружу, чтобы сделать облегчение лошадям, Днепр же шумел и пенился на порогах, пробивая себе путь среди огромных валунов и каменных заслонов.
К обеду стало жарко и пыльно. Вторую остановку для перемены лошадей сделали в Нойенбурге, там и обедали. Генерал завел с немцем-трактирщиком экономическую беседу; хозяйские дочки в наглухо закрытых платьях, белых чепцах и передниках любезно улыбались посетителям и делали книксен, разнося миски с едой и кружки с пивом; вопросы на русском или французском языке ставили их в тупик. Пушкин игриво подмигивал им, вертел головой, разглядывая мебель, утварь, немцев в темных сюртуках и круглых шляпах, потягивавших пиво в углу, но со вниманием выслушал доктора, когда тот объяснил, что немецкие колонии в Екатеринославской губернии существуют уже тридцать лет и населены меннонитами, подвергавшимися гонениям в Пруссии и приглашенными в Россию императрицей Екатериной. Им позволили исповедовать свою веру, освободили от службы – гражданской и военной, обязав за это содержать в исправности дороги и мосты, принимать на постой войска и платить поземельную подать. Меннониты отвергают насилие, поэтому у них нет даже судов и тюрем. Все свои дела они решают на общем сходе. Долгое время их колонии управлялись иноземцами; с недавних пор этим занялись русские, и с нынешнего года въезд в Россию новых поселенцев приостановлен.
– Впрочем, вы это знаете лучше меня, – добавил Рудыковский. – Вы, кажется, служите в Комитете по делам колонистов?
– Кажется, – улыбнулся Пушкин, и его серьезность мгновенно сменилась весельем.
За порогами места сделались еще живописнее: посреди реки высились скалистые острова со стройными рядами сосен, поросшие лесом берега будили воображение, напоминая слышанные в детстве сказки о богатырях и разбойниках. У селения Айнлаге, которое ямщики по привычке называли Кичкасом, Днепр сужался до двух сотен шагов; там устроили переправу. Лошадей выпрягли, экипажи вкатили на плоты. Стоя на высоком правом берегу и глядя на песчаную отмель левобережья, к которой уже устремились первые лодки, генерал Раевский сказал, что именно здесь печенеги устроили засаду на войско князя Святослава, пытавшееся преодолеть пороги в ладьях. Здесь оборвалась жизнь великого воина! Ноздри Пушкина раздувались, глаза блестели – должно быть, ему слышались крики, свист стрел, плеск воды, конское ржание… Николай Николаевич спросил его с усмешкой, уж не сочиняет ли он поэму о киевском князе; тот ответил ему в тон, что в этом особом случае согласен с Карамзиным: Святослав был великим полководцем, но не великим государем, ибо славу побед уважал более государственного блага. И тут же начал рассказывать, как видел своими глазами побег двух разбойников из екатеринославского острога: они утопили стражника, а сами, хоть и были скованы друг с другом, сумели доплыть до острова, дружно плеская ногами.
На переправу ушло часа два. Когда лошадей снова впрягли и все расселись, ямщики собрались ехать по дороге к Александровску, но генерал приказал им свернуть в степь.
Ужинали в Камышевахе, где почти не оказалось мужиков – только бабы, старики да дети малые. На расспросы генерала нехотя отвечали, что мужики в поле, при табунах, уехали по другим делам. Все больше хмурясь, Николай Николаевич решил не останавливаться на ночлег и ехать дальше.
Заходящее солнце вызолотило окоём и высеребрило степь, в сгустившейся небесной синеве проклюнулись первые звезды. Тяжелая поступь уставших лошадей и скрип колес не заглушали степной музыки – пересвиста сусликов, стрекота кузнечиков, цвиньканья каких-то птах, редкого уханья филина. Спали сидя, обложившись подушками. Поутру, когда остановились позавтракать, оказалось, что Пушкин снова дрожит в ознобе. Учитель вернулся в коляску. У кареты больного ждал Рудыковский со стаканом мутной жидкости в руке.
– А ну, пейте, Пушкин!
Тот повиновался от неожиданности и тотчас сморщился: это была хина.
Небольшой караван пробирался по ровному, бескрайнему травяному морю, переливавшемуся волнами ковыля; ни дерева, ни креста, ни колокольни – взгляду зацепиться не за что. Сам того не заметив, Рудыковский начал тихонько подпевать вторым голосом ямщику, который завел протяжную малороссийскую песню; генерал упросил его петь погромче.
- Сестра меньша, сестра меньша выпытуе:
- Колы, брате, з войска прыйдешь?
- Возьми, сестро, возьми, сестро, песку в жменю,
- Посей його на каменю;
- Колы, сестро, колы, сестро песок взыйде,
- Тоды брат твой з войска прыйде!
Несмотря на бодрую мелодию, песня звучала уныло.
Изредка по пути попадались селения: Омельчик, Орехов, Конские Раздоры; там останавливались, чтобы дать отдых лошадям и напиться; на расспросы генерала жители отвечали неохотно. Наконец вдали заблестела большая вода – Азовское море.
Мариуполь был населен почти одними греками, но генералу Раевскому устроили торжественную встречу на Базарной площади и поднесли хлеб-соль; русский чиновник произнес приветственную речь в честь героя незабвенной храбрости, одушевляющего своим примером юношество и восславленного пиитами. «Почитай-ка им свою оду», – сказал Раевский вполголоса Пушкину, оглядывая ряды чиновничьих вицмундиров и купеческих сюртуков, за которыми теснилась толпа в домотканой одежде, постолах и поярковых шапках. Рудыковский догадался, что в словах генерала заключался какой-то намек; Пушкин промолчал.
Раевского упросили остаться ночевать, предоставив ему «царский дворец» – помещение греческого суда, отделанное два года назад для отдохновения императора Александра. Следующий день пришелся на воскресенье; базар гомонил гортанными голосами, пытавшимися перекричать друг друга, мычание и блеянье скота; Николай Николаевич подивился дешевизне пшеницы – шестнадцать рублей за четверть[10]; сушеная и вяленая рыба, наваленная большими скирдами, тоже была сказочно дешева. Над городом, состоявшим из шестисот с лишним дворов с редкими фруктовыми деревьями при них, плыл колокольный звон: там оказались целых три каменные церкви и один собор, зато ни одной школы, даже приходской, аптеки или больницы, не говоря уж про театр или библиотеку; казенный сад тоже сочли ненужной роскошью. Позавтракали в небольшом глинобитном домике почтового двора, где уже третьи сутки куковала жена таможенного чиновника из Феодосии: ей не давали лошадей, приберегая их для его высокопревосходительства.
Дорога шла теперь вдоль известковых утесов над бурливым Кальмиусом, а степь рассекали ручейки конных казаков с ружьями и пиками, пеших мужиков с косами и дрекольем. Раевского это тревожило не на шутку, сыну он посоветовал держать под рукой заряженные пистолеты, но женщинам улыбался как ни в чем не бывало. Когда тракт спустился к самому морю, девочки выскочили из кареты и побежали к воде. Пришлось остановиться и остальным.
Море шумно дышало, то всасывая воду, то извергая ее обратно. Не слушая упреков гувернантки и увещеваний няни, чернокудрая Машенька в светлом платьице гонялась по плотному влажному песку за отступавшими прозрачными языками и с визгом убегала, когда они вдруг вспучивались зелеными валами и мчались к берегу с сердитым шумом, словно желая схватить ее и утащить с собой.
– Промочит ноги, озорница! Будет вам еще новая забота, доктор, – сказал Николай Николаевич, не отрывая взгляда от дочери.
Пушкин тоже смотрел на нее во все глаза; с его лица сошло насмешливое выражение, и теперь оно даже не казалось некрасивым – столько в нем было нежности.
Таганрог не имел пристани, как и Мариуполь. Из-за мелководья суда не могли подойти близко к берегу, товары с них разгружали на телеги, загоняя лошадей в воду по самое горло. Сам же город, построенный на красивой возвышенности, казался куда более пестрым – как по нарядам обывателей, принадлежавших к самым разным народностям, так и по архитектуре: каменные дома здесь соседствовали с хижинами, крытыми соломой. Семейство Раевского вновь принял «дворец» – дом губернатора на Греческой улице. Ушлый генерал-майор Папков купил его с торгов, отремонтировал и перепродал правительству вчетверо дороже, после чего поселился в нем уже как градоначальник, а перед приездом в Таганрог государя пристроил к зданию за казенный счет кордегардию, кирпичную оранжерею и плацдарм, выкрасив дом снаружи палевой краской с белыми карнизами. Гостям отвели верхний этаж; долго обременять хозяина своим присутствием они не собирались, но после ужина Николай Николаевич все же расспросил подробно Петра Афанасьевича о том, что заботило обоих. Рудыковскому разрешили присутствовать при разговоре: он главный военный лекарь и состоит при штабе.
Папков только сегодня отправил рапорт министру внутренних дел о том, что мятеж в Лакедемоновке подавить опять не удалось, восстание перекидывается с одной слободы на другую, точно горящие головешки при пожаре в ветреную погоду, и сам Таганрог находится в опасности. Помещики в страхе бегут в города, Чернышев не дал им казачьих команд для охраны. Больше месяца в тревоге пребываем! В Мартыновке, что в Сальских степях, злодеи создали даже «общественную канцелярию» и рассылают оттуда подстрекателей в окрестные селения; крестьяне бросают работы, вожаки приводят к присяге всех желающих быть вольными. Одни идут своею охотою, а тех, кто не хочет сражаться, пугают Чернышевым, плетьми и Сибирью.
С минуту Николай Николаевич хранил мрачное молчание, обдумывая услышанное, потом спросил: «С чего же все началось?» Из путаных объяснений Папкова, то и дело утиравшего платком вспотевшее лицо и лысину, складывалось впечатление, что началось, как всегда, с обмана.
С незапамятных времен все знали присловье о том, что с Дону выдачи нет; беглые стремились сюда в надежде стать вольными казаками, но донская старшина, захватившая войсковые земли еще при императрице Екатерине, в каждую ревизию записывала новоселов своими крепостными. Два года назад, когда государь проезжал здесь, несколько крестьян сумели подать ему жалобы, в которых говорилось, что помещики лестью и обманом поприписывали к себе вольнозашедших людей разного звания, а теперь изнуряют их барщиной и оброком, продают поодиночке друг другу и в рекруты – торгуют бедным людом, как скотом, тогда как они и на землю-то прав никаких не имели. Царь повелел учредить в Новочеркасске Комитет об устройстве войска Донского, дабы собрать воедино все узаконения и соотнести их с настоящим порядком вещей, и прошлой весной прислал туда генерал-адъютанта Чернышева, который в свое время успешно предводительствовал донскими казаками в сражениях против Наполеона. А этой зимой Андриан Денисов, ставший войсковым атаманом по смерти Платова, получил высочайший рескрипт с приказанием употребить все вверенные ему способы для искоренения зол и рассмотрения спорных вопросов в Комитете. Денисов сразу объявил о том во всеуслышание, вызвав большой переполох. Двух ходоков из Городищенской, подававших прошения императору, их господин посадил в острог. Вот тогда-то среди крестьян и поползли слухи о том, что царь издал бумагу о воле, а атаманы с помещиками хотят ее спрятать. Мужики перестали выходить на господские работы, а тех, кто повиновался барам, самовольно сдавали в рекруты.
Денисов бунт усмирять отказался. В феврале Чернышев вызвал к себе двенадцать доверенных человек из волновавшихся слобод и два дня уговаривал их покориться, доказывая им, что они-де ввели царя в заблуждение: дерзнули утверждать, будто разорены своими помещиками, тогда как хутора их изобильны, стада и житницы богаты, а многие ведут торговлю на собственные значительные капиталы. Это лишь подлило масла в огонь – запылала Лакедемоновка.
Бывшее имение секунд-майора Алфераки у Миусского лимана, пожалованное ему Екатериной Великой за подвиги в боях с турками, лет семь как было переименовано в Варвацино новым хозяином, тоже греком и чесменским героем, – Иваном Варвацием, но его по-прежнему называли Лакедемоновкой, хотя вместо греков там жили теперь по большей части малороссы: у Местечка – казаки, у Беглицкой косы – беглые. На этой косе Варваций, наживший миллионы на торговле осетровой икрой, устроил большой рыбный промысел, переведя туда свои лодки из Астрахани. Когда бунтовщики отказались выходить на них в море, подожгли рыбный завод и господский дом, старый грек, полвека назад наводивший страх на турок, запросил помощи у командира Симбирского полка. Однако в устье лимана имелась хотя и древняя, но крепость с земляным валом и рвом; присланную полковником роту солдат мятежники разбили. Комитетским чиновникам отказывались отвечать, прежнего атамана заменили на нового, своего. Выведенный из терпения, Чернышев стал карать непокорных своею властью, без всякого суда. Окружил Орловку, Несмеяновку и Городищенскую тремя казачьими полками при четырех пушках, перепорол всех мужиков, а три десятка отправил под конвоем в Сибирь на каторгу и поселение. Эх, сюда бы эти полки…
Пожелав хозяину спокойной ночи (хотя какое уж тут спокойствие!), гости отправились отдыхать. Обдумав все как следует, Раевский решил не сворачивать с намеченного пути, хотя он и вел в сторону мятежных слобод, а в Новочеркасске разузнать все толком у атамана Денисова, которого он знал еще по Польскому походу тридцатилетней давности.
В полутора верстах от деревянного ростовского форштадта при крепости Святого Димитрия оказался целый армянский город – Нахичевань, обширный, многолюдный, не похожий ни на что, виденное прежде. Крытые черепицей дома были в восточном вкусе, в кофейнях сидели мужчины в архалуках и шароварах, с серебряными поясами и с овчинными папахами на головах; по улицам семенили женщины в узорчатых атласных накидках, из-под девичьих фесок спускались мелкие косички, замужние же прятали волосы под платком, закрывая даже подбородок и рот. В лавках и магазинах шла бойкая торговля. Закупив, что нужно в дорогу, поехали дальше – мимо заводов, мельниц, множества армянских же хуторов, разбросанных вдоль берега Дона, – и к ночи добрались до станицы Аксайской. Оттуда Раевский послал с нарочным письмо в Новочеркасск, извещая атамана Денисова, что завтра со всей гурьбой будет у него обедать.
Андриану Карповичу было под шестьдесят, окладистая борода посивела, но выглядел он молодцом – силен и крепок. Коротко остриженные, посеребренные временем волосы не скрывали больших, упругих ушей, тонкие нос и губы были аристократически красивы, а карие глаза смотрели то строго, то весело. К обеду он вышел при всех регалиях: с красной анненской лентой, белым мальтийским крестом, позолоченной звездой прусского ордена Красного орла и звездой Святого Владимира цвета пепла и крови; на георгиевской ленте висела золотая медаль с портретом императрицы Екатерины. Пир удался на славу – щедрый, обильный. Безмолвно сновавшие казаки приносили то миски с черной икрой, то супницы с наваристой ухой, то блюда с целым осетром, стерлядями, молочными поросятами, истекавшими жиром гусями. Хозяин потчевал гостей, поддерживал разговор, с легкостью переходя на французский; Пушкин и девочки смотрели на него во все глаза. Николай Николаевич беспокоился о жене и двух старших дочерях, ехавших через Сальские степи в Крым, где семья должна соединиться месяца через два; Денисов ободрял его с такой уверенностью, что усомниться было невозможно. На десерт подали бланманже прямо с ледника. «Пушкин, воздержитесь!» – бросил через стол Рудыковский. Куда там… После обеда гостям предложили отдохнуть; Раевский улучил момент для разговора, хозяин провел его в кабинет.
При имени Чернышева Денисова передернуло. Николай Николаевич поклялся, что ничего из услышанного не перейдет на его язык.
– Приехал землю у нас отнимать – должен я был о том общество предупредить или нет? – сердито пыхтел Андриан Карпович. – А он давай поклепы слать в Петербург! Составил какую-то комиссию из чиновников, сокрыто от меня. Мужики бунтуют – я же в том оказался виноват, а почему? Я доныне не знаю. А государь мне пишет…
Денисов отомкнул ключиком ящик письменного стола, вынул оттуда бумагу, развернул и стал читать, держа ее в вытянутой руке:
– Огласка в непристойном виде, – он со значением поднял указательный палец, – указа моего на имя ваше от десятого декабря, вопреки прямого смысла моих повелений и словесных советов, до вас дошедших, снова палец вверх, – была главной причиной столь необычайного разлития духа неповиновения и своеволия между помещичьими крестьянами на Салу и в миусском начальстве.
Он сложил бумагу и снова убрал ее в ящик.
– Явился сюда, думал помыкать мною, ан не на того напал! Вот и мстит. Завел амуры с женой почтмейстера, она со всех важных писем ему копии снимает, я уж знаю. Свои только с нарочными шлю. Колет мне глаза винными откупами, а сам? С полицмейстером сговорился, чтоб на Песчаную улицу никого из мужского пола не пускали, когда он ходит туда баб брюхатить. Позавчера осрамился: отправил к Мартыновке Атаманский полк, а мужики-то не промах – выставили разъезды и караулы, вовремя подняли тревогу и нападение отразили; одна только сотня в слободу и ворвалась, а потом едва спаслась вплавь через реку. Он думал, что я за него всю работу делать стану, а он будет свои белы ручки лишь чернилами марать, о победах рапортуя, – нет уж, пусть сам потрудится. Донской казак честь не кинет, хоть головушка сгинет.
В Аксайскую вернулись к ночи; Пушкина снова трясло в лихорадке.
– Доктор, помогите! – просипел он, жалко взглядывая на Рудыковского блестевшими от жара глазами.
– Да как же вас лечить, если вы меня не слушаетесь!
– Буду слушаться!
Новый стакан с хиной заставил его содрогнуться всем телом. Больного закутали в шинели и уложили спать.
Разлившиеся во всю ширь Дон и Аксай отличались друг от друга только цветом воды: аксайская была светлее. Пользуясь оказией, генерал Раевский захотел осмотреть Старочеркасск – колыбель донского казачества; Пушкин тоже напросился в шлюпку, хотя был еще бледен и слаб после давешнего приступа. «Вот уж охота пуще неволи!» – неодобрительно подумал про себя Рудыковский.
Лодки неспешно скользили по воде. От красоты одетых свежей зеленью берегов сердце замирало в сладкой истоме: хотелось упасть навзничь в траву на холме и смотреть в бесконечное небо с караванами облаков, отражавшимися в зеркале Дона.
Старочеркасск был залит водою; жилых домов, теснившихся на кривых улочках и в переулках, осталось не больше семисот. Казацкую столицу разжаловали в станицу, чиновники перебрались в Новочеркасск, но кое-кто из старожилов остался в старинных усадьбах на косогорах, выглядывавших из-за разросшихся садов. Нетронутыми стояли только старинные церкви, хранительницы памяти о былом: Ратная – в том самом месте, откуда казаки с давних пор отправлялись в походы, и Воскресенский собор на майдане, сверкавший золотыми крестами на девяти маковках. Позолоченный резной иконостас из трех приделов поражал своей огромностью и тщательностью письма. Путешественники помолились, поставили свечки, думая каждый о своем, и двинулись к выходу, стараясь ступать как можно легче по чугунным плитам, которыми войсковой атаман Ефремов полвека назад вымостил собор вместо сгоревших в пожаре дубовых полов. Внук его, вызвавшийся в провожатые, подвел Раевских к западному входу и указал на вмурованные в стену, по обе стороны от дверей, кандалы и железную цепь. Этими цепями был прикован здесь разбойник Стенька Разин, разбитый под Кагальницким городком войсковым атаманом Корнилой Яковлевым и выставленный на позор.
Полтора века минуло с тех пор, а земля и поныне сочится кровью, стонет по ночам эхом воплей замученных. Велики были злодеяния разинцев, бесстыдно обманутых своим предводителем, чтобы грабить господ и купцов (впрочем, народ всему верит, лишь бы бесчинства свои оправдать), но и царские казни внушали ужас своею жестокостью. Три месяца продолжалось кровопролитие, пока князь Долгорукий не укротил буйство разбойников, перевешав, изрубив и посадив на кол одиннадцать тысяч человек – и правых, и виноватых. Корнила же Яковлев, находившийся тогда в Москве, первым принес присягу на верность царю Алексею Михайловичу: прежде казаки ему в крестном целовании отказывали. Прибежав на Дон, он клятву свою исполнил – Разина полонил и отправил в Москву на расправу. Через девять лет после того преставился и здесь же, в соборе, упокоился…
Обратно плыли в задумчивости, только девочки, как сороки, стрекотали между собой по-итальянски.
Ладные деревянные дачи манили к себе, суля отдых и прохладу. У одной из них, не удержавшись, сошли на берег. Она принадлежала вдове атамана Василия Орлова, и оказалось, что брат покойного, Алексей Петрович, тоже здесь, с час как приехал. Обрадовавшись, Раевский пошел с ним повидаться.
Все еще черноволосый, круглолицый и густобровый, Орлов не производил впечатления больного, хотя и объявил, что едет лечиться на воды. На толстом пальце красовался перстень с литерой А в круге; это можно было бы принять за вензель, если не знать, что круг Орлов вычертил сам, дабы уничтожить римскую единицу: перстень был ему подарен Александром I, которому командир лейб-гвардии Казачьего полка служить не пожелал и вышел в отставку «по старости», хотя только-только разменял тогда пятый десяток. После взаимных расспросов о здоровье и общих знакомых Раевский осторожно спросил, чтó Алексей Петрович думает о нынешних делах.
– Разврат! – махнул рукой Орлов. – Разврат, помноженный на нашу дикость! При Павле Петровиче такого не было бы. Трепетали бы!
Николай Николаевич ждал пояснений.
– Зачем учредили лейб-гвардии Казачий полк? Чтобы казаки в столице пообтесались, приучились к дисциплине и приличному обхождению и принесли потом все это на Дон, а они что переняли? Везде роскошь азиатская, карточная игра до безумия, пьянство, срам! Разве что по-французски брехать научились. И тут вдруг оказалось, что за богатством-то в далекие походы, как прежде, ходить и не надо, все под боком – матушка-земля щедро родит. Мужиков сперва покупали без земли, на вывод, а затем и покупать перестали: раз сами прибегают, значит, Бог послал; подсунуть ему «гумагу», он, ничего не ведая, крестик выведет – сам ярмо себе на шею наденет. Только легкие-то деньги развращают больше всего, потому что так же легко утекают, и нужно их все больше и больше. Приноровились, помимо пшеницы и коней, еще и водкой торговать, которую сами гнали, – ан Денисов ввел винные откупа!
– Так царь с этим покончить желает? – догадался Раевский. – Ввести, как везде, монополию, подати, пошлины? О воле речи нет?
Орлов покрутил головой.
– Мужиков учат-учат, а все не впрок. До Бога высоко, до царя далеко. Им бы прежде Денисову поклониться, а они все выше головы прыгнуть хотят. Так пусть знают теперь: упадешь в ножки царю – получишь себе в заступники Чернышева.
На берегу Рудыковский воевал с упрямым больным:
– Пушкин, наденьте шинель!
– Жарко, мóчи нет!
– Потерпите! Все лучше, чем лихорадка.
– Нет, уж лучше лихорадка!
– Ну как знаете!
За Доном снова сели в кареты и пустились в путь по Кавказскому тракту. Раевский проезжал здесь впервые четверть века назад, ничего теперь не узнавал и очень этому радовался: вместо безводной и безлюдной степи с редкими землянками путешественники встречали большие селения с колодцами и прудами и почтовые станции с постоялыми дворами. Уездный город Ставрополь оказался густо населенным, с казенными и купеческими домами из ракушечника; в темной зелени плодовых садов алыми искрами сверкали вишни. Там, впрочем, задерживаться не стали и к вечеру прибыли в село Саблинское, лежавшее в продуваемой ветром глубокой балке с неширокой и неглубокой, но шумной речкой. До Георгиевска оставалось верст тридцать пять, но все небо затянуло черными грозовыми тучами, вдалеке уже погромыхивал гром, поэтому решили заночевать здесь.
Село было казенное, с волостным правлением, помещавшимся в избе-пятистенке; в сарае стояли две бочки с водой и насос – на случай пожара. Женщин оставили на постоялом дворе, где имелись две комнатки с кроватями, мужчины же разошлись по избам. Едва успели выпрячь лошадей и развести их по сараям, как треснула небесная твердь, распоротая лезвием молнии; от грохота голова сама втянулась в плечи. Огня не зажигали, только лампадки светились у темных ликов в красном углу; хозяева стояли перед ними на коленях и крестились, творя молитву; каждая новая вспышка заставляла их вздрагивать и креститься чаще. Наконец громовые раскаты начали удаляться, зато хлынул гремучий ливень.
– Доктор, я болен!
Пушкин сидел на лавке; потемневшие от пота каштановые пряди прилипли ко лбу, на щеках играл нездоровый румянец. Рудыковский вздохнул и спросил воды, чтобы развести порошок. Хозяин, помявшись, сказал, что его благородие здешнюю воду пить побрезгует: не больно хороша. Евстафий Петрович осторожно отпил из кружки. Вода, действительно, имела неприятный железистый привкус; не хватало еще вызвать расстройство желудка вдобавок к лихорадке! Подумав, он послал человека за бутылкой вина; смешал вино с остатками родниковой воды из фляжки, подогрел и дал выпить повеселевшему Пушкину.
Утром больной казался здоровым, но послушно надел шинель. Небо все еще хмурилось; давешняя речушка превратилась в бурный ревущий поток, дорогу развезло… а ехать надо. Пушкин вновь перебрался в коляску к младшему Раевскому (на открытом воздухе не так укачивает). Лошади с трудом пробирались по грязи, карабкаясь на косогоры и спускаясь в балки; дважды нужно было переезжать по хлипким мостам через взбесившиеся после ливня речки, и тогда седоки выходили из карет.
– Смотрите! – ликующе вскричал Пушкин и вскинул руку вправо.
В дымчатые облака упирался острый зубец Бештау, возвышавшийся над соседними горами. Город, смиренно павший ниц перед исполинами, казался скопищем букашек.
Георгиевск не мог похвастаться чем-либо примечательным, разве что скромным бревенчатым домом под железной кровлей, где был подписан трактат о покровительстве Российской империи Грузинскому царству. С облегчением узнав, что шестидневный карантин для всех выезжающих на воды давно отменен, путешественники тотчас покинули столицу Кавказской губернии и двинулись в Горячеводск.
– Саша! – воскликнул Николай Раевский, на ходу выпрыгивая из коляски.
На крыльце, прислонившись к одной из толстых оштукатуренных колонн под треугольной крышей, стоял высокий и худой молодой человек с крупными чертами лица, но маленькой головой, в фуражке и шинели; младший брат заключил его в объятия.
– Познакомьтесь: мой друг Пушкин, твой тезка. Мой брат Александр.
Из-за спины у полковника Раевского выскочил маленький мальчик в черкеске и круглой овчинной шапке, дернул его за полу, глядя вверх темными, точно маслины, глазами. Александр подхватил малыша на руки, поцеловал в смуглую щечку.
– А это твой тезка – Николашка. Абрек!
Николай Николаевич вышел из кареты, широко улыбаясь; старший сын холодно пожал ему руку, поприветствовал сестер сдержанным «bonjour», а Рудыковскому лишь коротко кивнул. На правах хозяина Александр пригласил всех в дом – нанятую им усадьбу надворного советника Реброва, который был в отъезде по делам. После изб и куреней внушительный портик высотой в два этажа и балкон с балюстрадой над ярко-желтым фасадом с высокими окнами поражали своею роскошью – настоящий дворец! Особенно в Горячеводске – небольшом поселке из двух пересекающихся улиц и шести десятков домов и домишек.
Комендант сам явился к генералу Раевскому, а затем прислал ему книгу, куда все посетители вод должны были вписать свое имя и звание. Книгу прежде с интересом изучили, выискивая знакомых; потом Пушкин завладел ею, сказав, что заполнит ее сам.
На следующий день вся компания отправилась на Горячую гору, сочившуюся целебной водой, где у Александровского источника были устроены деревянные ванны; Рудыковский же облачился в мундир и пошел представиться доктору Цеэ, главному врачу Кавказских минеральных вод.
– Здравствуйте, здравствуйте!
Остатки пепельных волос, зачесанных с обеих сторон на розовую плешь, доктор смочил одеколоном; он тоже был в парадном мундире, с крестом ордена Св. Владимира в петлице, сам вышел встречать гостя и улыбался почтительно, хотя и с достоинством. Рудыковский немного опешил от такого приема.
– Вы лейб-медик? Приехали с генералом Раевским?
– Последнее справедливо, но я не лейб-медик.
– Как не лейб-медик?
Евстафий Петрович пожал плечами со смущенной улыбкой – мол, не удостоился.
– Вы так записаны в книге коменданта, бегите скорее к нему, из этого могут выйти дурные последствия!
Рудыковский похолодел. Он вспомнил, как видел вчера Пушкина во дворе, на куче бревен, – писал что-то в книге и хохотал, подлец! Жди от него какой-нибудь каверзы! Задыхаясь в жестком мундирном воротнике, военный лекарь поспешил к коменданту. Тот принял его любезно, велел подать книгу, хотя и удивился этой просьбе. Так и есть! «Сего июня 6‑го числа: генерал от кавалерии Раевский 1‑й, с ним сыновья его: полковник гвардии Раевский 2‑й и капитан гвардии Раевский 3‑й, дочери Мария и София, 14 и 13 лет, профессор Фурнье, леди Маттен, лейб-медик Рудыковский и недоросль Пушкин».
Наморщив лоб от напряжения мысли, комендант выслушал повторенную несколько раз взволнованную речь Рудыковского о том, что в записи ошибка, ее необходимо исправить: сам он не лейб-медик, Пушкин не недоросль, а титулярный советник! В оловянных глазах промелькнул испуг: что же делать? Выдрать страницу и переписать набело нельзя – все листы пронумерованы, да и с другой стороны все исписано! А вымарывать – только внимание привлекать. Одна беда не легче другой; и так худо, и этак нехорошо! Насилу Евстафий Петрович уговорил его все-таки вымарать «лейб» и «недоросль».
Он не счел нужным скрывать это происшествие от генерала. Николай Николаевич вызвал к себе Пушкина в большую залу на первом этаже; его рокочущий голос гулко звучал в пустых стенах.
– Слышим, слышим от вас: «Мы, мол, не ребяты, дела хотим!», а дали вам дело – только озорничать и умеете!
– Это была шутка! – оправдывался Пушкин.
– Знать надо, с кем шутить и над чем шутить! Мало тебе в Лицее уши драли! Это ведь не школьная тетрадь, которую можно изодрать да выбросить, это документ! Захочет какой-нибудь кляузник подложить доктору свинью – счастью своему не поверит: Рудыковский присвоил чужое звание!
– Да кому какое дело…
– Донос накатать всегда кто-нибудь сыщется! Не из корысти даже, из трусости – как бы на него самого вперед не написали, из чрезмерного усердия, да просто чтобы покуражиться…
– Нельзя же жить с оглядкой на дураков!
– О, а ты, милостивый государь, умен? Что же тебе в столице-то не сиделось?
Лицо Пушкина приняло злобно-упрямое выражение, он весь покраснел, но сдержался: знал, что Раевский хлопотал за него. Все еще красивое лицо генерала вдруг сделалось усталым, карие глаза потухли, резче проступили морщины, мешки под глазами, седина в мягких черных волосах.
– Когда мы с Инзовым говорили об тебе, – продолжил он уже тише, – Иван Никитич сказал, что ты добрый малый, только слишком скоро кончил курс наук: одна ученая скорлупа так скорлупою и останется.
Пушкин молчал.
– Недоросль! – усмехнулся Николай Николаевич. – Я за тебя поручился перед Инзовым, тот – перед Каподистрией[11]. А знаешь, кто в итоге окажется виноват? Директор Лицея, которому доверили превращать шалунов в чиновников, а у него выходят недоросли – des bons à rien![12] Государь уж вымыл голову Энгельгардту за тебя. Лопнет его терпение – Лицей закроют вовсе.
Пушкин невольно провернул на пальце кольцо в виде сомкнутых дружеских рук. Такие кольца из осколков чугунного колокола, шесть лет сзывавшего лицеистов на занятия и разбитого после экзаменов, надел каждому из первых выпускников сам Энгельгардт с пожеланием сохранить чистую совесть и доброе имя…
– В Англии, если принц Уэльский не выучивал урока, при нем за то пороли другого мальчишку, – говорил между тем Раевский. – Для чего? Чтобы знал свою безнаказанность? Нет! Чтобы видел, что его леность, шалость, глупость отзовется чужой болью и слезами!
– Тяжело, должно быть, прививалась в Англии любовь к просвещению! – не выдержал Пушкин.
Выкрикнув эти слова, он вышел из залы сердитыми шагами, не спросив разрешения.
На другой день поехали в Константиногорскую крепость, распластавшуюся морской звездой с шипами бастионов на крутом обрыве поверх речки и болот.
Горячеводская долина походила на нечто среднее между военным лагерем, цыганским табором, сельской ярмаркой и дачным пикником. Между зеленеющим Машуком и величественным Бештау, разделенными журчащим Подкумком, выстроились полукругом казаки и егери возле пушек, на уступах Горячей горы засели пикеты, за линией егерей расположились у костров калмыки и ногайцы, сдававшие свои кибитки внаем «господам посетителям вод», сама же долина была уставлена кибитками, балаганами и палатками: не всем было по карману нанимать за большие деньги неказистые дома, сложенные из тонких кривых бревен, под камышовыми крышами. Кабардинских аулов поблизости уже не осталось: генерал Ермолов приказал спалить их дотла за укрывательство абреков, забрав в казну табуны и скот, зато в слободке под крепостью был устроен меновой двор, куда горцы пригоняли баранов и коней, привозили мед, сало, сукна домашней выделки, горшки и другие нужные вещи. Молодежь сразу отправилась туда, а генерал Раевский пошел потолковать с полковником Максимовичем – командиром Тенгинского полка, стоявшего в крепости. В Горячеводск вернулись, полные впечатлений, только Пушкин все еще дулся на Рудыковского.
Наутро доктор, выправив себе подорожную, собрался ехать обратно в Киев, захватив с собой письма Раевских, чтобы отправить их в Гурзуф из Ставрополя. Генерал с чувством пожал ему руку, пожелал счастливого пути.
– Кланяйтесь от меня генералу Орлову, и ежели он, паче чаяния, получил какую-нибудь весточку от Софьи Алексеевны или Катеньки с Аленушкой, не сочтите за труд, сообщите мне сюда.
Рудыковский обещал.
– Надеюсь, вы еще не дали своего согласия? – спросил Александр Раевский отца, когда доктор уехал.
– Согласия? На что?
Александр досадливо дернул щекой.
– На брак Мишеля и Катрин.
– Он не просил у меня ее руки официально.
– Fort bien[13]. Я понимаю, что годы идут, розы вянут, а жених еще не совсем изношен, хотя и плешив, однако прошу вас не торопиться и дозволить мне прежде переговорить с ним. Я должен задать ему прямой вопрос и получить честный ответ.
– Вопрос? О чем?
– Это мое дело.
Несколько мгновений отец и сын смотрели друг другу в глаза, потом Александр отсалютовал, сделал налево-кругом и ушел, слегка прихрамывая.
Глава третья
(П.А. Вяземский. «Уныние»)
- В душе моей раздался голос славы:
- Откликнулась душа волненьем на призыв;
- Но, силы испытав, я дум смирил порыв,
- И замерли в душе надежды величавы.
«Я, наконец, назначен дивизионным командиром. Прощаюсь с мирным Киевом, с сим городом, который я почитал сперва за политическую ссылку и с коим не без труда расстаюсь. Милости твоего батюшки всегда мне будут предстоять, и я едва умею выразить, сколь мне прискорбно переходить под другое начальство. Но должно было решиться. Иду на новое поприще, где сам буду настоящим начальником».
Перечитав написанное, Михаил Орлов представил себе усмешку Александра Раевского, проницательный взгляд его ореховых глаз: «Ну, ну, договаривай. Впрочем, я наперед знаю, чтó ты скажешь».
Да, он мечтал командовать дивизией; убедил друзей в Петербурге не хлопотать за него, когда, после отставки Сипягина, открылась вакансия начальника штаба Гвардейского корпуса. Назначенный на эту должность Бенкендорф достоин жалости: занимать ее можно лишь по милости, оставить – только вследствие опалы, врагов же имеешь столько, сколько начальников… Нет, уж лучше быть начальником самому, иметь за спиною опору, а не висеть между небом и землей. Однако государь пять раз отказывал в командовании для Орлова, который прежде считался его любимцем.
А все из-за предательства Васильчикова. Испугался, прокукарекал раньше времени! Сначала согласился подписать вместе со всеми просьбу императору не приводить в исполнение его намерение образовать Литовский корпус в польских мундирах и с литовскими знаменами, поскольку это нанесет вред России, а потом побежал к царю, который еще ни о чем не ведал, и со слезами просил прощения за свой злой умысел, назвав всех своих сообщников. Конечно, можно представить все дело так, что государь наказал Орлова за упорство и ложь, поскольку, вызванный в Царское Село, Михаил Федорович твердил, что ничего не знает и против государя ничего не умышлял. Смирение же и раскаяние получило свою награду: Васильчиков из генерал-адъютантов стал начальником Гвардейского корпуса. Ах, если бы эту должность получил Орлов! Но он ни о чем не жалеет. Будь возможно повернуть время вспять и вновь оказаться в тот день в царском кабинете, он все равно не выдал бы своих товарищей. А Литовский корпус все-таки создан, да еще и под командованием француза Довре…
Много воды утекло с тех пор, как Михаил Федорович вел переговоры о капитуляции Парижа и об уступке Данией Норвегии Бернадоту, чтобы оградить Финляндию, завоеванную Россией, от притязаний Швеции. Душа требовала дел равноценных – великих; generosi animi et magnifici est juvare et prodesse[14], как учит Сенека. То же страстное желание находил Орлов и в близких друзьях, но их прекрасные рассуждения не приводили ни к чему материальному, расходясь легкой рябью по поверхности глубоких, сонных вод; обширное поле деятельности, которое следовало бы перепахать и засеять, постепенно зарастало бурьяном, а те семена, которые все же дали всходы, пожирали черви, привыкшие пресмыкаться в навозе. Не было общей цели, общей связи, того union qui fait la force[15]. Рвение одиночек к добру угасало на просторах пустыни, препятствовавшей распространению знаний и движению умов, – гордиться громадностью страны вошло в привычку, в бездумном существовании находили удобство. Журналы теряли издателей, не обретая читателей; никто не хотел знать даже о том, что делается у него под носом, а кто знал, тот помалкивал. Как остроумно выразился князь Вяземский, «в обширной спальне России никакие будильники не допускаются»…
Лишившись доверия императора, Орлов оказался «на подозрении». В Киеве каждое письмо его, каждое слово, каждое дело подлежало цензурному присмотру, а дойдя до Петербурга, перетолковывалось вкривь и вкось. Недавно он с изумлением узнал, что скончался: слух об этом дошел до самой Варшавы, и убитый горем Асмодей успел сочинить надгробное слово на смерть Рейна[16]. Гораздо менее забавным был слух о цели его прошлогодней поездки в подмосковную графа Дмитриева-Мамонова: государю донесли, что они пишут конституцию для России.
Поездка эта оставила по себе тяжелое впечатление: граф Матвей душевно болен, и тяжело. Живет затворником, не видя даже прислуги своей, все распоряжения отдает в письменном виде; отпустил бороду, носит русское платье. Дубровицы превратил в настоящую крепость с пушками, выучив роту солдат из своих дворовых; хранит у себя знамя князя Пожарского и окровавленную рубашку царевича Димитрия. Себя мнит прямым потомком Рюриковичей, Романовым же отказывает в правах на престол как иноземцам: Александр Павлович и его братья – внуки немки и голштинца, дети вюртембергской принцессы, к тому же царь постоянно разъезжает по заграницам, вместо того чтобы сидеть на троне предков.
Первые признаки помешательства проявились еще в «Пунктах учения, преподаваемого в Ордене русских рыцарей», которые Матвей набросал после возвращения Орлова из-за границы. Там были здравые мысли об ограничении самодержавия, упразднении рабства и запрете перемещать суда бурлаками, об улучшении положения солдат и суровых наказаниях за лихоимство. Вместе с тем граф призывал обратить не только Польшу, но и Пруссию с Австрией в российские губернии, присоединить к России Венгрию, Сербию, все славянские народы, а также Норвегию, переселить гренландцев в Сибирь, а евреев обратить в православие, рассеять донских казаков, покорить Персию и вторгнуться в Индию, упразднить университеты, заменив их ботаническими садами, публичными библиотеками, обсерваториями и зверинцами… Вряд ли этот документ мог попасть в чужие руки, но поди узнай, о чем вральманы доносят государю.
Он все же подписал приказ о новом назначении Орлова, но куда! В Кишинев! На край света, в тридесятое царство, к молдаванам и грекам! С одной стороны, командование 16‑й пехотной дивизией, стоящей близ государственных рубежей, – знак высокого доверия, но с другой… Изящно очерченные губы Раевского, возникшего перед мысленным взором Орлова, вновь сложились в усмешку.
Да, Александр, ты прав: я не могу не думать о ней! Я люблю ее со всем пылом неутоленной страсти и с глубиной зрелого чувства! О, если бы я получил дивизию в Нижнем Новгороде или в Ярославле, какая была бы разница! Женщина таких достоинств, умная, светская, образованная стала бы там королевой со своим двором, а что я смогу предложить Катеньке в Кишиневе?
Однако довольно строить из себя Иеремию. Не место красит человека, а человек место, и неважно, где делать дело, лишь бы делать. Про 16‑ю дивизию говорят, что она плохо выучена, – вот Орлов и займется ею. Время сейчас неспокойное.
Во Франции деспотизм Наполеона ныне кажется временем свободы; уцелевшие якобинцы подают руку уцелевшим бонапартистам, чтобы вместе противостоять вошедшим в силу ультрароялистам, которым повсюду мерещатся ростки революции, и они глушат их цензурой, ограничивая законами личные права. В апреле за две недели арестовали полсотни сочинителей и издателей; в начале июня охрана Тюильри застрелила студента, пришедшего ко дворцу вместе с толпой протестовать против нового закона о выборах, по которому «представителями народа» могут стать только самые богатые. За гробом студента шли шесть тысяч человек, открылась подписка на памятник ему. А в день его похорон казнили Лувеля – убийцу герцога Беррийского. Казнь перенесли с утра на вечер, до последнего надеясь, что преступник покается и выдаст сообщников, но добились от него лишь пророчества о том, что через годы его станут славить как избавителя отечества от тиранов, подобно тому, как Шарлотту Корде, убившую Марата, ныне величают героиней. Вся Гревская площадь, набережная перед ней и два ведущих к ней моста были забиты народом: маленькие люди благоговеют перед всем великим, даже если это великие злодеяния. В газетах намекали, что Лувель до последней минуты ждал спасения от своих друзей. В стране множатся масонские ложи, венты карбонариев по примеру итальянских, отделения Общества филадельфов[17], в армии наверняка есть свои тайные общества, тем более что в Париже казармы размещены даже в Латинском квартале, и солдаты пьют вино в одних кабачках со студентами. Генерал Лафайет, Бенжамен Констан и Антуан Манюэль, избранные депутатами, наверняка не ограничиваются выступлениями в Палате, газетными статьями и записками правительству, это люди действия, и у них есть опыт революций…
Да и поближе можно ожидать скорых потрясений. Князь Ипсиланти, приезжавший в Киев на могилу отца, теперь уже, должно быть, добрался до Одессы. Официально он следует на лечение за границу, но от Орлова давний товарищ по кавалергардскому полку таиться не стал: его избрали генерал-эфором Гетерии – тайного общества, имеющего целью сбросить с Греции османское иго. Иоанн Каподистрия дважды отказался от этой чести: они с Александром Стурдзой предпочитают заниматься устройством греческих школ и типографий через Общество друзей муз в Вене, на средства от европейских правительств. Граф даже слышать не хочет о восстании, полагая, что составители подобных проектов готовят Греции погибель. Все заговорщики в его глазах – мошенники, разорившиеся купцы и приказчики, собирающие деньги у простодушных во имя Отечества, тогда как сами прекрасно устроились в другой стране; российский генерал-майор Александр Ипсиланти, потерявший правую руку под Дрезденом, нужен им лишь как ширма, чтобы успешнее обирать простофиль. Но Каподистрия ошибается. Греки жаждут действия, жаждут свободы! Все Балканы покрыты сетью тайных комитетов, от Пелопоннеса до Дуная христиане готовятся поднять восстание, им нужен только вождь и поддержка сильной державы. В Одессе гетеристы хранят свою казну – пожертвования московских и таганрогских греков, более пяти миллионов франков. Князь Александр хочет употребить эти деньги на закупку оружия. Ах, как было бы славно, если бы ему удалось заручиться поддержкой государя и 16‑ю дивизию послали освобождать христиан! Вот оно – настоящее дело!
…По пути к новому месту службы предстояло заехать в Тульчин, представиться новому начальнику – генералу от кавалерии Витгенштейну, главнокомандующему 2‑й армией.
За Васильковом дорога сделалась отвратительной, лошади тащились еле-еле. На третий день, за переправой через Буг, дормез[18] всполз на крутой холм, за которым простиралась обширная равнина – «королевство Потоцких».
Столица этого королевства была даже не городом, а большим селом, совместно обитаемым поляками, евреями и русскими военными; доминиканский монастырь соседствовал с синагогой и православной церковью. Зато в Тульчине имелись целых два дворца и роскошный парк с пирамидальными тополями, спускавшийся к Сильнице. Левое крыло огромного Большого дворца, сверкавшего на солнце медною крышею, занимал Витгенштейн с адъютантами, Малый отвели под штаб. Подумав, Орлов решил сначала разыскать Киселева – начальника штаба и своего давнего приятеля.
Павел Дмитриевич искренне ему обрадовался. Улыбка необычайно красила его и без того приятное, подвижное лицо. Он сразу распорядился о квартире для гостя, сам поехал с ним туда и, пока Орлов приводил себя в порядок, рассказал ему все важные новости. Затем вместе отправились к главнокомандующему. Киселев предупредил, что у Петра Христиановича горе: второй его сын, Станислав, поручик Кавалергардского полка, упал с лошади, расшибся и умер. Зато старший, Лев (которого в семье и штабе называли Людвигом), назначен флигель-адъютантом.
Постаревший Витгенштейн обрюзг и потускнел, в нем было трудно узнать храброго генерала, нареченного молвой «спасителем Петербурга». Он тоже обрадовался Орлову, обнял, оставил у себя обедать. Из намеков Киселева Орлов понял, что службой главнокомандующий почти не занимается, переложив все заботы на начальника штаба, а забот немало, ведь 2‑я армия состоит из пяти пехотных дивизий, одной драгунской и девяти казачьих полков – шестьдесят тысяч человек, разбросанных по пяти южным губерниям и Бессарабской области! Смотр этого года прошел не слишком хорошо, император остался недоволен, но графа это, похоже, не заботило сверх меры.
Стол был накрыт в роскошной оранжерее с мраморным полом, в центре которой шумел водопад, освежая своими струями июльский воздух. Вдоль стен выстроились изящные статуи вперемежку с капризными южными растениями в кадках. Все это нимало не смущало графских адъютантов лет двадцати с небольшим, которые вели себя непринужденно; застольная беседа вмиг сделалась шумной и оживленной. Из ровесников Орлова и Киселева здесь были только генерал-майор Фонвизин, командовавший пешей бригадой, и генерал-интендант Юшневский – поляк, прежде служивший по дипломатической части. Высокий, чистый лоб Михаила Фонвизина был словно силой надвинут на слегка раскосые темные глаза под тонкими бровями вразлет; говорил он мало, но испытующе вглядывался в Орлова. Михаил Федорович тоже с интересом его рассматривал: он был наслышан о подвигах этого человека, который, попав раненым в плен уже под Парижем, поднял восстание в Ренне, где держали узников, и захватил арсенал. Бледный и серьезный Юшневский почти не улыбался – впрочем, это можно было объяснить нехваткой нескольких зубов. Витгенштейн завел с ним разговор о хозяйстве и земледелии; с пашен перескочили на лошадей, адъютанты стали сравнивать стати донских и горских пород, спорить о том, какие лучше подходят для строя, а какие для манежной езды; Киселев, встревожившись, заговорил о театре: в Тульчине выступала заезжая польская труппа. После обеда граф отправился отдыхать, намереваясь вечером выехать в свое имение. Киселев проводил Орлова до квартиры и простился с ним до утра: у него еще оставались кое-какие дела в штабе.
Дорожную усталость сняло как рукой, невеселые думы растаяли облачками в высоком васильковом небе. «Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles[19]», – говорил себе Орлов: пусть он окажется «на краю света», зато не один – среди друзей, среди единомышленников!
С Киселевым они знали друг друга уже пятнадцать лет, с тех самых пор, как начинали службу «архивными юношами», продолжив ее в кавалергардах. Обоим переезд из Москвы в Петербург дался непросто: Михаил, не унаследовавший графский титул своего отца (который умер, считаясь холостяком), упорно отвоевывал положение в свете, на какое мог бы претендовать по одному лишь праву рождения, если бы союз его родителей был узаконен; Павел, незнатный и небогатый, пробивал себе дорогу умом и трудолюбием, к тому же природа наделила его ценным даром – располагать к себе людей. Оба побывали в жарких сражениях, оба обратили на себя высочайшее внимание и сделались флигель-адъютантами, оба исполняли важные и ответственные поручения, и обоим претила роль «светских полотеров». Однако Киселев сумел сохранить расположение государя и покровительство других высокопоставленных особ. Имея свое мнение по важным вопросам и не боясь его высказывать, Павел Дмитриевич делал это приватным образом, к месту и ко времени, а не шел напролом. Орлов совершенно случайно узнал, что в то самое время, когда он рассердил государя своей подпиской в пользу освобождения крестьян Петербургской губернии, Киселев подал Александру Павловичу докладную записку о постепенном уничтожении рабства «без потрясений государства», путем увеличения возможностей для выкупа крепостных и не посягая на права помещиков. Записку, правда, положили под сукно, однако Киселев вместо реприманда получил повышение, став из полковников генерал-майором, а затем его послали во 2‑ю армию расследовать злоупотребления по интендантской части. Возможно, Орлову есть чему у него поучиться.
Павел Дмитриевич с видимым удовольствием взял на себя роль наставника: провел приятеля по всем канцеляриям, похвалив своего предшественника за хорошую организацию письменных дел и введение строгой дисциплины, показал школу топографов, где прапорщики и поручики корпели над военными картами, заставил заглянуть в отдел статистики и архив с бледным юношей в круглых очках на коротком носу, составлявшим историю Русско-турецких войн. После этого отправились в Клебань, где находилась юнкерская школа, но в этот час она пустовала, поскольку обер-офицеры были на учениях со своими взводами. Заехали в Махновку, осмотрели госпиталь на сто коек (Киселев мечтал еще и о госпитале в самом Тульчине) и к обеду вернулись назад.
Разговор за столом, как и вчера, велся больше по-французски и по-немецки, однако сделался более свободным и одновременно более серьезным: присутствие генералов не мешало адъютантам обсуждать политические вопросы. Самым горячим спорщиком был поручик князь Барятинский, несмотря на свое заикание; капитан Бурцов в чем-то возражал ему, а в чем-то соглашался; подполковник Пестель следил за спором подобно естествоиспытателю, производящему опыт, а затем несколькими точными фразами завершал его или направлял в новое русло.
– Ум светлый, и польза от него велика, хотя душевных качеств его хвалить не стану, – негромко сказал Киселев, склонившись к Орлову. И добавил в полный голос, увидев, что Пестель смотрит в их сторону: – Конь выезжен отлично, я сам надел на него узду, он к ней привык и повинуется; я берегу его для дела.
Орлов вгляделся в округлое лицо с хрящеватым носом и маленьким чувственным ртом. Жидковатые черные волосы были зачесаны с висков на убегающий к макушке лоб точно так же, как у Наполеона, и это вряд ли случайность: то же непроницаемое выражение, та же манера смотреть на собеседника сверху вниз, даже при невысоком росте. Только глаза не серые, а темно-карие, почти черные, ощупывающие и проникающие в глубину. За последние два дня Михаил Федорович часто слыхал имя Пестеля – любимого адъютанта Витгенштейна, для которого тот недавно выхлопотал чин подполковника в обход других офицеров. Ему хотелось составить собственное мнение об этом человеке, понять, так ли он умен, как о нем говорят, и можно ли доверять ему.
Барятинский, горячась, обличал гасителей вольности и карателей собственного народа, ссылаясь на примеры в Испании; Орлов не сразу понял, что говорит он, однако, о недавних событиях в России – в Миусском округе и трех уездах Екатеринославской губернии. Он прислушался: поручик восхищался крестьянами, не устрашенными картечью, от которых не добились раскаяния плетьми и кнутом. Их жены были готовы пожертвовать ради вольности даже своими младенцами, повергая их на землю перед казаками, присланными усмирять «бунт», – вот сцена, достойная Софокла и Корнеля! О, это вовсе не разбойники времен Пугачева или Стеньки Разина! Какая сила духа! Какая стойкость, какая верность идеалам! Разве найти хоть отблеск ее в душе генерала Чернышева или вице-губернатора Шемиота?











