Читать онлайн Свой путь
- Автор: Андрей Светонос
- Жанр: Мистика, Биографии и мемуары, Книги о путешествиях
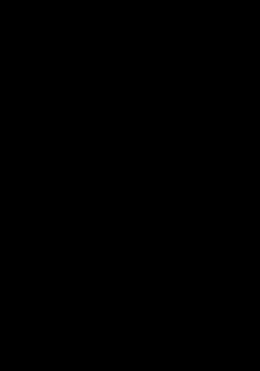
Зов Небес
«Если друг оказался вдруг,
и не друг, и не враг, а так…»
В.С. Высоцкий
Глава первая. Альпинист
Утро выходного дня не предвещало ничего необычного. Лето было в разгаре. Я шёл, своим привычным аллюром, по изрядно надоевшей улочке «бетонных джунглей» одного из спальных районов родного города. Крупнопанельные девятиэтажки нависали над пешеходной, объединённой с проезжей частью, дорогой, закрывая от обзора большую часть неба, позволяя солнышку лишь на излёте дня заглянуть в эту часть микрорайона.
Нежелание созерцать этот унылый пейзаж способствовало погрузиться в романтические и светлые мысли. О повседневности думать совсем не хотелось.
Уже почти два года я не бывал в горах, пропустив, правда, только один летний сезон. Для альпиниста это большой срок. Кого бы взять в напарники и куда бы «навострить лыжи»? Деньги на поход уже есть, есть и что семье оставить на это время: нашёл очередную работу в эти нелёгкие времена очередной смуты в России.
Вдруг меня окликнул молодой и какой-то знакомый женский голос. Боковым зрением я заметил две фигуры, обращённые ко мне. В одной из них я сразу узнал знакомую девушку Свету, мою одноклубницу, из развалившегося два года назад, вместе с Советским Союзом, альпинистского клуба. Интересно, как совпала эта встреча с моими мыслями!
Я круто развернулся в их сторону и подошёл.
– Привет, Света, очень рад тебя видеть! Давно не встречались…
– Привет, Андрей! Ты как раз мне и нужен! Наша встреча может оказаться удачной! – с надеждой в игривом взгляде, весело и приветливо ответила она.
Молодой человек, не знакомый мне, смущённо перехватил мой любопытный взгляд, оставшись на полкорпуса позади и сбоку, от шагнувшей навстречу мне Светке. Смутная догадка сразу проскочила в моей голове, вооружённой достаточным жизненным опытом:
«Очередной любовник» – подумал я.
Её игривое настроение и заговорщический тон только укрепили мою мысль. Как, впрочем, и тот нюанс, что Света не представила нас с её приятелем друг другу (что было обязательным в нашем кругу) и даже оставила его позади себя.
– Ты как здесь, в наших краях? – начала она издалека.
– Бываю здесь часто, «у тёщи на блинах», – и я указал небрежно правой рукой назад, в сторону дома родителей жены.
– А мы с Олегом живем вон в том доме… – указала она большим пальцем левой руки за свою спину, через плечо. – Ты можешь сегодня вечерком зайти к нам? Квартира номер пятнадцать. Олег ищет напарника для «связки». У него есть серьезное намерение: сделать восхождения на Алтае, на три вершины, стоящие рядом, или пройти по ним траверсом.
– Надо же, как интересно! Ты остановила меня, идущим с той же мыслью – найти напарника и сходить куда-нибудь, хотя бы и на Алтае.
– Вот это совпадение! Тебя нам бог послал. Я думаю, не тебя можно положиться, ты зарекомендовал себя надёжным человеком в экспедициях. Ты закрыл второй разряд? – от предвкушения удачного расклада расцвело её румяное, по-юношески конопатое лицо.
При этом молодой человек за её спиной тщетно пытался скрыть проявление на своём лице душевного удовлетворения складывающимся пасьянсом игры.
«Ах ты, рыжая бестия! – промелькнуло у меня в голове. – Вот как решила на время освободиться от мужа. Наверняка сама же и настроила его, домоседа, на поход. Я уж знаю тебя».
– Меня можно назвать второразрядником по классификации маршрутов восхождений. Договорились, сегодня же зайду к вам, – завершил разговор я, поспешив оставить влюблённую пару.
Со Светкой мы три года назад поработали в двух альпинистских экспедициях на Тянь-Шане и на Памире в составе нашего альпклуба, поэтому хорошо друг друга знали. Хоть ходили в составе разных групп и на разные категории маршрутов, но, обитая круглосуточно в условиях одного базового лагеря неделями, помимо желания узнали друг о друге главное, что нужно знать о человеке: надёжен ли он в деле. А однажды мы с ней на пару дежурили по кухне целый день и готовили еду на костре на весь лагерь, на тридцать семь человек.
В обеих экспедициях Светка беззастенчиво жила с одним альпинистом, как с мужем, ничуть не стесняясь коллектива, хотя все знали Олега – её мужа, как члена клуба. И никого это не смущало. «Свободный человек в свободной стране» – так говаривал один наш авторитетный инструктор, по разнообразным, конечно, поводам. Олег в тех экспедициях, по какой-то причине, не участвовал.
А год спустя, после того сезона, она и меня очень настойчиво приглашала к себе домой. Я тогда сразу догадался, что главной целью её приглашения было: завоевать мой «голос» при переизбрании председателя альпинистского кооператива – в свою пользу. Мягко и дипломатично я отказался от её приглашения и голосовал на собрании по своему усмотрению. То есть мы со Светкой и Олегом, ко всему прочему, в те времена ещё и состояли и работали в одном кооперативе, только в разных сферах деятельности. Олег со Светой – программистами, а я в промышленном альпинизме и в организации коммерческих горных походов. А бухгалтерия была общей.
В одном полевом сезоне, два года назад, мы с Олегом работали в паре на постройке базового лагеря и сооружении безопасных переправ через горные реки в красивейшем ущелье Горного Алтая для проводки туристов. Но натуру Олега при этом я не смог разглядеть, да и не старался, в тех условиях довольно простой совместной работы. Тем более что он был всегда замкнут, хмур и жёстко не разговорчив.
А кооператив наш, после единственного летнего полевого сезона по обслуживанию туристов на горных маршрутах, той же осенью развалился, вслед за страной. После этого нас со Светой и Олегом уже ничего не связывало, кроме приятельства.
Вечером того же дня я заглянул к Олегу и Светлане, как мы и договорились. Отворив мне дверь, Олег, ни слова не говоря, широким жестом пригласил меня в квартиру.
– Привет! – поздоровался я, протягивая ему руку.
– Привет, – нехотя ответил он, вялой кистью позволив пожать его руку, при этом «чувств никаких не изведав».
Я прошёл и присел, самостоятельно выбрав удобное для себя место, уже не ожидая дальнейших приглашений. Светланы дома не было, их сына тоже.
– Ну, Света сказала тебе что-то о моём плане? – лениво начал он.
– Почти ничего, – с наводящим намёком на подробности и соответствующим тоном ответил я.
– Есть мысль пройти траверсом по гребню трёх вершин вот здесь, с заходом через место нашего бывшего базового лагеря, – показал он, ткнув пальцем в карту, лежащую на журнальном столике подле меня.
– Хорошая идея! Идём вдвоём? – уточнил я, без слов это понимая.
– У тебя другое предложение?
– Не-ет! Меня устраивает и я готов. Когда выдвигаемся?
– На какое число будут билеты тогда и едем. Предлагаю тебе взять покупку билетов на себя. Если не возражаешь, то вот мой паспорт, а деньги верну при встрече, – он протянул мне документ, – Я беру палатку и групповое снаряжение, а ты возьми примус, бензин, котелок, топор, ножовку, ну и что там ещё… Верёвку ты понесёшь. Встречаемся на вокзале, перед посадкой, – подытожил Олег.
Уже у порога он вручил мне буфту альпинистской веревки и в спину легковесно бросил мне, через губу:
– Ну а из еды – кто что возьмет…
Я, молча и машинально согласился, не задумавшись. При этом какой-то тревожный звоночек у меня в голове подал знак, но я от него отмахнулся.
Больше всего мне понравилось в задумке Олега – это заход через ущелье, названное мною Ведьминским два года назад, с тех пор, как магнитом, тянущее к себе своей неповторимой красотой. Почему я его так назвал – это отдельная история. Её расскажу позже, ещё и потому, что она, отчасти, связана, с настоящей.
Нашему с Олегом тандему облегчало существование то обстоятельство, что всё Ведьминское ущелье, то есть первый этап нынешнего маршрута, я раньше проходил дважды туда и обратно. Ну а другие участки нам предстояло пройти впервые, для обоих, с помощью карты и по абрису.
Следующий этап маршрута пролегал через высокий, выше трех километров над уровнем моря, и длинный ледниковый перевал со спуском в красивейшее место (из первого десятка в Горном Алтае), к подножию «наших» гор. И уже с этого места нам предстояло предпринимать восхождения на желанные вершины.
Обоюдный азартный интерес всех троих (мой, Олега и Светы) был так силён, что мы как-то легкомысленно оставили без обсуждения и распределение между мной и Олегом списка и размера провианта на поход.
Через три дня, после той неожиданной встречи, мы с Олегом уже ехали в поезде на Алтай. Добравшись до Бийска и купив билеты на автобус до Горно-Алтайска, мы, довольные собой, устроились в скверике напротив автовокзала, в ожидании рейса.
Мой немногословный спутник погрузился в чтение книги, а я, впервые за долгое время, оставив дома городскую суету, позволил себе задуматься, чуть-чуть проанализировать прошедшие за два последних года события и одновременно внимательнее разглядеть своего партнёра. Мыслить о перспективах заработка на содержание семьи было опасно – это могло привести к депрессивному настроению. Потому, что каждые полгода до сего дня приходилось искать новую работу. Хорошо, что она (работа) быстро сама меня находила.
Тогда, имея достаточно свободного времени, я стал впервые пристально присматриваться к своему спутнику. Однако, мы с Олегом едва знакомы, на маршруты вместе не ходили, «из одного котелка не едали». И что-то в подсознании меня насторожило вдруг: как-то сложится наш тандем? Парень сдержанно-заносчивый, но супер спокойный и закрытый, что называется, на все засовы, «тёмный», в общем, товарищ.
Подходим с ним на посадку в автобус (в назначенное, согласно билетам, время), а наш рейс, оказывается, ушёл два часа назад. Оказалось, что на Алтае другой часовой пояс, не как в нашем городе. А мы-то впервые поехали туда общественным транспортом. Это был уже второй, как я уже позже осознал, хоть и небольшой, но прокол (второй звоночек) в нашем партнёрстве.
Слава богу, что на следующий рейс нас посадили по тем же билетам. Но водитель нагло содрал с нас дополнительно денег за багаж, хотя у нас были чеки, подтверждающие оплату за него через кассу. В те, наступившие времена крушения нравов, это было почти в порядке вещей. И, чтобы исключить ещё одну задержку, мы безоговорочно согласились с требованием шофёра. А когда мы приехали в Горно-Алтайск, то попали в опустевший автовокзал. Все автобусные рейсы в разные районы Горного Алтая в этот день уже разъехались.
Предстояло заночевать до следующего дня. Расположенная у вокзала гостиница, обслуживающая в прежние времена преимущественно туристов, перестала работать ввиду отсутствия последних. Порядок в стране нарушен, туристы, ранее массово посещающие этот сказочный край, стали заниматься интенсивным заработком. А иные, потеряв работу, – впали в депрессию от безденежья. Всем стало не до досуга, не до походов и не до сплавов.
Мы были одни в здании вокзала. Он был пуст не только от людей, а представлял собой заброшенный во всех отношениях «спортзал» с двумя, взятыми чуть ли не с улицы, скамьями.
Бродить по вечернему городу в поисках ночлега с рюкзаками, килограмм по тридцать пять весом, нам совсем не хотелось. Да и по тем временам считалось нормальным, у самоорганизованных туристов: бросить на пол в вокзале туристский коврик (каремат), на него спальник и, не глядя ни на кого, лечь спать. Только спустя несколько лет запретят таким образом ночевать в зданиях вокзалов и будут на ночь запирать на ключ их помещения, выгоняя всех незадачливых транзитёров.
А в тот вечер в зал ожидания (он же и кассовый), уже позже нас, зашли какие-то, бомжеватого вида люди, без выражений на лицах. Очевидно, местные. Они, возможно, тоже, в ожидании утренних рейсов автобусов, были вынуждены ночевать тут, как и мы.
Наш рейс ранним не был. Часами ожидая его отправки, мы успели скромно перекусить, посетив открывшиеся продуктовые магазины. В те времена рейсы автобусов в глубинки были особо редки, по одному в день. Ехать нам предстояло по Чуйскому тракту известной красоты, через два высоких и живописных перевала.
Автобус был старым ПАЗ-иком, ехал неспешно, с обеденной стоянкой в райцентре Шебалино. На нашем пути лежали территории четырёх административных горных районов. Невысокая скорость движения была обусловлена и износом машин, и безопасностью на горной дороге по ещё привычным, для водителей, жёстким правилам со времён СССР. И расписание водители на междугородних рейсах, даже в тех глубинках и по тем же причинам, старались соблюдать.
Салон автобуса набился местными жителями. Мы едва смогли занять сидячие места, нумерацию мест никто не соблюдал. Сидя ехали пассажиры, которые добирались в дальние районы, а стоя – на короткие расстояния. Водитель останавливался в каждом посёлке, даже если последнего не было видно в изгибах горного рельефа, высаживал одних и подбирал других пассажиров. Все они, в подавляющем большинстве были представителями местных племён, коих в Горном Алтае больше десятка (по моему личному исследованию, в отличие от официального перечня).
Один такой представитель, изрядно пьяный молодой человек, не очень вежливо попросил меня подвинуться, сославшись на свою усталость. Я уступил и мы с Олегом, оба щуплого телосложения, уплотнились на двухместном сидении, а тот, с силой двинув нас тазом, устроился на краю дивана. Но парню этого было недостаточно, и он стал осыпать меня вопросами, типа: кто такие, откуда, куда, зачем, в общем, ничего высокомысленного.
По нашему походному виду и большим альпинистским рюкзакам европейского класса цель нашей поездки была, конечно, очевидна всем окружающим. И я, неохотно и скупо, всё-таки отвечал ему, снисходительно, всё же уважая в нём представителя малого народа. Как антропологу-любителю, мне, даже в такой обстановке, всё равно интересно наблюдение за людьми разных этносов и контакты с ними.
Со своей стороны, молодой алтаец, видимо, желая продолжить беседу, стал жаловаться на свою жизнь, уже впадая в пьяную полудрёму:
– Вы там, в своих городах живёте в комфорте, а я тут, в суровых условиях наших гор, гроблю здоровье, выпасая скот круглый год… – и сразу после этих слов он уронил на грудь свой подбородок, кажется, угомонившись.
Я был удивлён такому контрасту хорошо поставленной речи этого парня и его узкому местническому сознанию. Видно, хорошо учился в школе русскому языку, но мировоззрением своим сразу упал в моих глазах.
Через минуту он уже стал валиться всем телом на меня и головой на моё плечо со словами – цитатой из известного художественного фильма «Земля Санникова»:
– «…человек, человек, чего тебе дома не сидится, что тянет тебя в дорогу…».
При этом его соплеменница среднего возраста резко стала на него ругаться и стыдить. На смешанном русском и алтайском языках она выпалила:
– Как тебе не стыдно!!!? Напился, привязался к порядочным людям, не видишь – люди в экспедицию едут!
И ещё на своём языке ему очень грубо что-то добавила. Парень, как ужаленный, подскочил с места и стал протискиваться между стоящими пассажирами к выходу, видимо, близка была его остановка.
Доехав до излучины реки Чуи, мы попросили водителя высадить нас в чистом поле. Остановки здесь не предусмотрено, поскольку населённых пунктов на десятки километров нет ни в одну сторону.
Долина реки расширялась здесь многими милями чудесного альпийского луга между двух высоких скалистых хребтов. Наш путь лежал в сторону водного потока по этому, не тронутому человеком, сказочного вида травяному ковру.
С силой преодолевая сопротивление почти метровой в рост, зелёной и сочной травы, под палящим солнцем, в сладком предвкушении счастья: встать на тропу своего маршрута, освободившись от людской толчеи в душном салоне автобуса, на излёте дня, мы стали спускаться с трассы к реке.
Эти несколько сотен метров мы с трудом разминали затёкшие в транспорте ноги. Глаза радовались, взглядом обводя очертания любимого пейзажа.
Свинцового цвета воды реки, как вязкий поток тяжёлого цементного раствора, нехотя, но стремительно, утыкались в скалу. Круто и мощно, с недовольством и возмущением, даже не вспениваясь от своей тяжести, они поворачивали в направлении желанного нами ущелья. Вот через эту скалу, называемую прижимом, потому что река к ней прижимается, и лежал первый участок нашего маршрута.
Скала как будто вырастала из прибрежной поляны и вертикалью наглухо перегораживала нам проход своей стеной. Но с помощью рук, то есть простым лазаньем, её здесь не сложно преодолеть, главное – увидеть «ступеньки» и «дверные ручки» начала подъёма на неё. Такими терминами альпинисты называют мелкие выступы на скальной стенке.
Дальше скальные участки, состоящие из выходов магматического происхождения, полузасыпанных за миллионы лет осадочными породами, гармонично перемежались густыми зарослями ивняка и кустарника, а также большими уютными полянами. Но нам некогда было млеть среди этой благодати. Мы стремились к ледниковым вершинам…
Поднявшись на самый верх прижима, я, с чувством радостной встречи с полюбившимся ущельем, остановился на минуту, охватив жадным взглядом картину поросших хвойным лесом склонов. Внизу, срываясь с высоты, встречаясь, будто две сестры, объединяясь в один поток, шумели реки. Этот контраст застывших гор, с лоснящейся «шкурой» лесных крон, и ревущей водной стихией возбуждал в душе стремление вперёд с одновременно умиротворяющим успокоением.
Затёкшие за долгий переезд ноги, как застоявшийся конь, получали удовольствие от излюбленной нагрузки на горной тропе. И всё тело радовалось аромату горного воздуха, концентрации первозданной природы и даже привычной для альпиниста тяжести рюкзака.
Крутой спуск по серпантинной тропе травяного склона к мосту через ревущий поток был открыт, как на ладони, и приглашал к переходу на бег. Удивительно, как бурлящая и грохочущая, особенно весной, водная артерия не сносит это деревянное, но добротно собранное из многовековых брёвен, сооружение, что с высоты выглядит игрушечным в масштабах горной стихии. Спустившись к реке и пробежав по вибрирующему под воздействием возмущённой до предела воды мосту, через час мы уже поднялись по крутой и короткой тропе на высокий яр, нависающий над слиянием двух рек.
Здесь была чудная поляна с низкорослой мягкой травкой. Солнце уже почти касалось гребня нашего склона, и мы решили тут ночевать, не смотря на отдаление от воды, зная, что до более удобного для ночёвки места было по светлому времени не дойти.
– Андрей, спустись к реке за водой, а я поставлю палатку и займусь костром, – предложил Олег.
– Хорошо, давай свой котелок, я с двумя схожу, чтобы вдоволь чаю попить.
Ближайший спуск к воде был очень крутой, чуть меньше ста метров, заросший густой травой и требовал кошачьей осторожности из-за отсутствия тропы. Стоит на зелёной траве поскользнуться и уже не будет возможности остановиться, покатишься, как по ледовому склону. В самом низу, где угол наклона стал положе, я немного отпустил себя и сходу влетел в заросли дикой чёрной смородины, по грудь забурившись в её кусты… Садовая – отдыхает! Меня окутал и одурманил аромат невиданной силы. Ягоды, размером с ноготь среднего пальца человеческой руки, тяжёлыми полными гроздьями висели вокруг меня, готовые упасть от своей зрелости и веса. Такой сладкой смородины я в жизни не пробовал. Своим вкусом ягода совмещала смородину и красный виноград.
Потеряв контроль над временем, я ел горстями, успевая подставлять ладони под гроздья, а ягоды сами сыпались в руки. По всему было видно, что здесь нога человеческая ещё не ступала. Спуск крут, сверху смородины не видно, останавливаться даже на короткий привал здесь не имеет смысла за отсутствием водного источника. Только нас здесь остановил близкий закат.
Наконец я опомнился, нарвал смородинного листа для чая и спустился к воде. Подниматься с наполненными водой открытыми котелками было не проще, из-за опасности расплескать живительную влагу.
Когда поднялся к палатке, то Олега там не обнаружил. Костра ещё не было. И я сразу же им занялся. Ставить палатку данной конструкции было минутным делом одному человеку, дрова – в десятке шагов до ближайшего леска.
Солнце уже скрылось за горизонт. Я сделал таганок для подвески котелка над костром и собрал дров. Огонёк в костре у меня уже затеплился, как всегда с одной спички, когда появился мой спутник, выходя из леса с упрёком ко мне:
– Ты куда пропал? Я уже подумал, что ты сорвался с кручи. Пошёл тебя искать… – начал он, на последних словах опустивши голову и понизив голос.
– Ты же с другой стороны пришёл, – подначил я.
В ответ Олег пробубнил себе под нос что-то невнятное, а я стал готовить ужин. Сварил лапшу на бульоне из кубиков. Поужинали вприкуску с твёрдым сыром. За трапезой я поделился с ним впечатлением о смородине.
– А мне почему не принёс? – с новым, ещё большим, упрёком возмутился он.
– Ну, тут или воду, или ягоду, котелки то маленькие. Не во рту же ягоду нести.
– А в карманах? – не вникая в суть, продолжил он.
– В карманах я бы только кашу донёс, а сок ягодный намочил бы мне штаны. Ты не представляешь, какая она там нежная от переспелости, в ладонях лопалась.
После моего пояснения Олег стал темнее тучи. А после ужина, через некоторое время, он неожиданно спросил:
– Что у нас с продуктами?
– Мы же с тобой договорились ещё дома у тебя, что каждый возьмёт долю на своё усмотрение – твои были слова, – напомнил я.
– Поскольку у меня снаряжения больше, чем у тебя, то я полагал, что продукты запасёшь ты, – стал Олег рисовать свой козырь вчерашним числом.
– Полагать уместно, когда идешь, куда ни-то, один. Мы оба сделали ошибку, легкомысленно не договорившись. А сейчас дискутировать поздно и бессмысленно, – подытожил я.
«Кажется, теперь мы будем долго молчать, – подумал я, – Вот это прокол! – смутные мысли сразу закрались, – С кем я связался? В первый же день и сразу столько проявлений жёсткого эгоизма. Что ж – теперь и с этим фактом, но вперёд. Не разворачиваться же. Просто придётся сокращать наши планы где-то и как-то. Может, хватит на то, чтобы совершить хоть одно восхождение, а назад – хоть на подножном корму», – это был уже третий тревожный звоночек у меня в голове.
–Ну… у меня есть немного кое-каких продуктов… – вдруг через долгую паузу изрёк мой напарник вполголоса.
«Ну, хоть так» – подумал я.
Больше слов ни у кого не было. Легли спать. Только перед самым засыпанием я сообразил, что бивуачного снаряжения у меня в рюкзаке больше. И поэтому вес наших с ним поклаж всё-таки не в паритете. Вот ведь хитрец! Он, наверное, подумал, что раз он руководитель, это его маршрут, и он перворазрядник (насколько я наслышан), то я, значит, должен его кормить.
Да, вот так сказалась на нас эйфория бешеного темпа этой новой жизни в диком капитализме. Поэтому собрались в серьёзный поход как попало. Понятно мне, что Олег привык к порядку в базовых альпинистских лагерях. Там он не заботился о продуктовом наборе, как, впрочем, и я: нас просто кормили. В любой экспедиции одна из женщин добровольно брала на себя обязанность заведовать кухней и заготовкой провизии, а также составлением раскладки последней в соответствии с меню на каждый день. Она же распределяла обязательства между всеми участниками компании: кому, что и сколько закупать из общего списка продуктов и, соответственно, нести в своём рюкзаке. График дежурства по кухне тоже составляла она и звалась поэтому – завжор.
Проснулись мы от призыва:
– Ну вы и спать горазды, туристы! Уже давно белый день! – раздался снаружи чей-то мужской голос, быстро, однако, удаляющийся.
По приглушённому топоту лошадиных копыт, удаляющемуся вслед за голосом, я понял, что мимо проехал по тропе местный житель, видимо пастух или косарь – на покос травы.
Солнышко уже разогрело воздух в палатке до схожести с прогретым предбанником, приправленным запахами только снятого с тел нечистого белья. На этом высоком яру солнце восходит рано. Мокрые от пота, мы стали быстро выползать из своих пуховых спальников. Вылезши из палатки, я сразу пошёл за водой для завтрака вчерашним путём. И снова, с превеликим удовольствием, наградил себя за этот труд сладкой ягодой на голодный желудок.
Наскоро позавтракав на солнцепёке и не теряя больше драгоценного времени светового дня, мы спешно и в максимально возможном темпе двинулись в путь. Перед нами лежало травяное поле левого склона ущелья в несколько квадратных километров. Здесь, в низовье ущелья, как и во всех горах средней полосы, простираются альпийские луга.
Наступило привычное состояние первого дня похода пеших туристов: под палящим солнцем (в ясную погоду), мечтая быстрее зайти в тень леса, виднеющегося далеко впереди, под тяжестью рюкзака, со взмыленной от него спиной, терпеливо адаптироваться к походной нагрузке.
Наконец, мы вошли в подлесок и смочили горло в первом ручье, пересекавшем тропу, с кристальной и вкуснейшей водой. Ещё через несколько минут впереди и слева показались деревянные каркасы для палаток, столовой и кухонной, бывшего базового лагеря, которые мы с Олегом сооружали два года назад. А чуть дальше – дом пастухов, обычно пустующий летом. Но всё это мы проскочили за ненадобностью остановки, желая пройти как можно дальше за день, учитывая дефицит продуктов, а значит и времени.
Через час мы подошли к нашей с Олегом переправе через бурную речку Кара-Су, вдоль русла которой вытянулся глухой ленточный лес. Толстое, поваленное стихией, дерево в два охвата лежало мостом через поток, метра на три выше водопадных струй. Вдоль этого бревна мы с Олегом в тот год приладили перила из длинного валежника и поваленного ветром молодого кругляка, для своих неподготовленных клиентов. Всё осталось невредимым, и этот факт приятно щекотал наше эго. Чистая вода круто падала со склона, перерезая его. Событие, из-за которого я назвал ущелье Ведьминским, случилось именно здесь.
Дальше Олег не ходил и до самого ледника я стал его проводником, всё время шёл впереди. Сразу за переправой началось «болото». Вода стекала со склона сквозь траву на площади в сотни квадратных метров. Утопали по щиколотку, кое-где пытаясь перескакивать по редким травяным кочкам. Тут бы в резиновых сапожках лучше ходить. А я мочил свои альпинистские вибрамы советского производства. Олегу было легче: он шёл в пластиковых импортных горных ботинках и его ноги остались сухими. А пройдя этот участок, он переобулся в кроссовки.
Из «болота» мы вошли в густой лес, состоящий преимущественно из лиственницы, придающей ему дремучести. Влажная атмосфера сырой чащи благоволила расцвету всех видов мхов и лишайников, свисающих с ветвей деревьев. Не доставало лишь избушки на курьих ножках у тропы. Теперь весь обзор окрестностей был закрыт для нас нетронутой тайгой, куда попадать могут лишь пешие смельчаки. Да и не до обозрения нам было. Чтобы не споткнуться и не поскользнуться, наступив на скользкие коренья, требовалось сконцентрировать всё внимание на узкой, извилистой и отчасти заросшей тропе. Если же, по невнимательности, человек наступает на, казалось бы, сухой корень, то почти неизбежно падение, потому что влажная кора срывается с него под давлением стопы.
Сквозь лесные заросли лишь иногда мелькала слева, внизу по склону, игривая струя потока реки, блистая отражёнными лучиками солнца, как гранями бриллиантов. И слышно, среди лесной тишины, как шипящий водный поток ворочает и несёт вниз по течению огромные валуны, которые глухо стучат о дно в ритме тяжёлых шагов огромного существа.
Угол наклона тропы постепенно рос, мы шли в верховье ущелья, к леднику и центру Северо-Чуйского хребта, набирая высоту. Вот уклон резко увеличился: мы стали забираться на селевой завал природного катаклизма. Миллиарды кубометров горной породы съехали с нашего (левого) склона распадка и запрудили поток талой воды, текущей с ледников хребта. Это произошло очень давно. И плотина эта, возвышающаяся на добрую сотню метров над рекой, уже заросла лесом и кустарником. А водный поток стал возмущённо пробиваться в узкий кулуар между завалом и правым склоном, противоположным нашему. Но часть речных струй шумно просачивались и под завалом.
При выходе на самый верх прижима нам открылся сказочный вид на длинное, серо-молочного цвета, озеро, образованное этим селевым завалом. Насыщенная известковой взвесью разрушающихся гор, вода озера выглядела мёртвой, ни кем не населённой. Из озёрной глади тут и там торчали, давно лишённые своей коры, мёртвые стволы вековых лиственниц. В воде лиственница не гниёт, а только твердеет, как и дуб. И эти, когда-то живые, деревья, не пережившие затопления, теперь будут стоять до очередного катаклизма сколь угодно долго. От этого пейзажа возникают кладбищенские ощущения. Умиротворение и мертвенный покой…
А на слонах продолжается жизнь хвойного леса, будто склонившего свои кроны к озеру в траурном почтении. Вдали, за озером, исполинами возвышаются ледяные гребни хребта, сверкая на солнце «начищенным серебром» вечного льда и снега. С них необычайно длинной змеёй извивается язык ледника, ледовой рекой стекая вниз, немного не дотягиваясь, под воздействием солнца, до озера. Подобные пейзажи могут встречаться и в других горных районах на Земле, но такой – неповторим.
Заворожённый масштабом красоты, я сделал здесь очередной трёхминутный привал. Олег впервые увидел эту чудесную картину и удивил меня своим равнодушным взглядом. Мне же местность была знакома и стала почти родной и любимой. И равнодушие моего спутника никоим образом не омрачало моего удовольствия. Не проронив друг другу с самого утра ни слова, не переглядываясь и не сговариваясь, мы стремились пройти как можно дальше за световой день, обойдясь без обеда.
После спуска с прижима нас ждал переход вдоль среза воды озера по крутому склону с конусом выноса каменной породы, состоящей из «живого» курумника (огромных камней почти равного размера, качающихся под стопой). На нём два года назад я спас от падения с кручи на камни и в озеро неопытную туристку из Германии, в последний момент схватив её за руку мёртвой хваткой. Надо было видеть её взгляд на спасителя!
Нам же привычно, по курумнику, даже с тяжёлым рюкзаком, безостановочно прыгать с камня на камень, успевая снимать с первого ногу до того, как тот «сыграет», желая опрокинуть незваного гостя. Глаз же при этом в доли секунды, по наитию, находит наиболее устойчивый камень, на который можно безопасно прыгнуть другой ногой. И ещё до касания, взгляд «ловит» уже следующий камень, как точку опоры на долю секунды. Это «бег силы», но не всякий путешественник им обладает. Меня ему научил человек, с детства выросший в горах приятель-альпинист, даже не подозревавший, что этот аллюр так можно назвать.
После курумника мы попали в сказочный лес. Слева лежало «мёртвое» озеро, тропа тянулась почти у кромки воды, а со всех других сторон звал остановиться и отдохнуть удивительно гармонично росший молодой кедровник. Но меж деревьев там, прикрывшись мхом, поджидали острые камни.
Вырвавшись из объятий чудной рощи, мы попали на просторный паводковый разлив реки, несущей талые воды с ледника в озеро. Это плоское дно ушедшего когда-то озера, раскинувшись на сотни гектаров гладко осевшей серо-голубой глины с оставшимися обширными лужами, было девственным. Глубокий след протектора наших ботинок стал первым в этом летнем сезоне, потому что смыть след предыдущих посетителей под силу лишь весеннему паводку. За этой глинистой «пустыней» снова стеной вставал на нашем пути многовековой кедровый лес. А перед ним лежала поляна разноцветного мягкого мха. Наступал вечер, солнышко уже покинуло наш крутой и высокий западный склон.
Я помнил, что с этого места до ледника оставалось пройти ещё часа три, и мы не успевали это сделать по светлому времени, надо было остановиться на ночь. Лучшего места, чем эта моховая поляна не найти и в мечтах. Такого уюта для ночёвки на природе я ещё в жизни не ощущал. Слева, со склона, круто нависал конус недавнего выноса курумника. Недавнего – потому, что камень был чист от лишайника. Из-под него струился ручей чистейшей воды, образуя у подножия небольшую ванночку для купания – только для одного человека, в естественной чаше меж камней. Вода отливала голубизной прозрачного флюорита и походила на природную отполированную линзу. От этой ванночки и до самого леса на добрую сотню квадратных метров раскинулся ковёр из толстого слоя мха, мягкого как пух. А справа и позади – пройденное только что безжизненное поле голубой глины.
– Смотри, Олег, какое шикарное место для ночёвки. Предлагаю остановиться. Дальше – сырой лес, а до следующего удобного места для лагеря по светлу не дойти, тем более – до ледника.
– А до ледника сколько ещё? – деловито и командирским тоном потребовал Олег.
– Завтра, ближе к обеду, если спать до солнечного пригрева, дойдём до него.
Более ничего не произнеся, мой хмурый спутник сбросил с плеч на мох свой рюкзак и стал распаковываться. У самой ванночки, прямо на мху, мы и поставили палатку, для которой здесь не требовалось даже колышков, ибо она утонула, как в перине.
– Предлагаю сначала освежиться в ванночке, – заявил я.
И, раздевшись донага, погрузился в обжигающе холодную ванну. Усталость от беспрерывного дневного перехода забрала проточная вода.
Олег последовал моему примеру, когда я уже готовил костёр на камнях у ручья. С момента купания мы с ним весь вечер ходили босиком по разноцветному мху, как по ковру, утопая по щиколотку и не доставая тверди. Мох при этом ничуть не страдал и поднимался через минуты до первоначального состояния. Ощущение было таким, будто сама матушка Земля берёт наши ступни в свои ладони и ласково массирует их мизерными пальчиками. Глубокий мох был сух и в середине слоя ещё сохранял тепло после дневного прогрева на солнце. Это было так кстати, после первого в этом походе марш-броска. Ноги просто млели от удовольствия. Такого отдыха после трудного дня у меня в жизни ещё не бывало.
Ещё до сумерек я успел приготовить ужин (он же и обед) и, разомлев у костра, мы, по-прежнему молча, встретили звёздную ночь. Вечер был чудный, зажигающиеся звёзды ласкали глаз. Лишь отдалённый шум реки, оставившей глинистое дно своего разлива пару недель назад и текущей теперь у подножия противоположного склона, слегка нарушал вселенскую тишину. Каждый думал о своём, любуясь космическим свечением, окаймляющим в ночное время гребни гор на границе с небом. Олег закурил свою резную курительную трубку с чёртиком, набив её заморским табаком. Я предложил ему раскурить «трубку мира», что мы с ним умиротворённо и сделали. Засыпали на моховой перине, как на пуховой, не потребовалось даже подстилать коврики.
Глава вторая. Призыв
Ночью я вдруг проснулся, словно выспался. Сквозь полотно однослойной палатки было видно, как на востоке, над противоположном склоном, начинает слегка синеть небо. Захотелось узнать: который час и сколько ещё можно будет поспать. Для этого я начал было высвобождать из спальника руку с ручными ходиками на запястье, чтобы потом, дотянувшись до фонарика, осветить циферблат.
Но не успел я даже вынуть руку, как услышал небесный призыв неземным и одновременно каким-то родным женским голосом: «Андрей!». В голосе звучал именно призыв, строгий и неумолимый, одновременно полный неизмеримой любви. Призыв был такой мощный, что пронзил всё моё тело, но в первую очередь я слышал его ушами и удивился, что спящий Олег не реагирует. Казалось, что голосом залито всё ущелье. Одновременно сквозь плотную ткань палатки, будто её и не было, я увидел исполинского роста женщину в праздничном древнерусском одеянии красно-жёлтой расцветки, в сарафане до пят. Будто сошедшая с иконы, женщина стояла на самом гребне нашего склона и смотрела прямо на меня. Она была соразмерна склону, а голова доставала зенита.
Явление было выше моих сил восприятия и я от страха отключился, так и не узнав: который был час. Проснулся, когда солнце уже взошло над горной грядой восточного склона. Олег, как истинный айтишник, пригревшись и наполовину вылезши из спальника, сладко спал ещё больше часа. Выйдя из палатки, я принял бодрящую ванну и, прогуливаясь босиком по мягкому мху, стал размышлять, находясь в выгодном, для себя, одиночестве.
Мне давно не было так хорошо и счастливо, как этим утром. Даже не хотелось торопиться на маршрут, как будто куда-то улетучился порыв идти вперёд. Очень хотелось подольше побыть одному. Состояние души и тела было необычно лёгким, будто и не было в предшествующие дни физической нагрузки; и настолько чистым, ясным сознание, словно не было раньше в жизни трудностей, забот и огорчений. Как заново родился… Райское место, райское состояние и весь мир – прекрасен!
Но что же за явление было ночью – сон? Нет же – я всё ясно, в полном сознании видел и слышал: каркас палатки, сопящего тихонько напарника, предрассветное просветление неба, рядом лежит мой фонарик – руку протяни… И спать уже совсем не хотелось.
Кто мне явился? Нет, самому не поверить…, кто я такой, чтобы мне явилась сама… И что хотела сказать, сообщить? Я, вероятно, должен был что-то узнать, понять, что-то сделать???! Теперь одни запоздалые вопросы. А может, просто остановиться и поразмыслить о том, как жить дальше? Может, я не свой путь выбрал и надо его снова искать? Ведь кроме альпинизма у меня нет больше интересов!
Семья – это тыл, опора, любовь к ближнему, уют… Необходимо найти своё любимое дело, чтобы с его помощью и семью прокормить. Душа всё время его ищет…
Прохолостил! Испугался! Но почему? Не был готов к встрече с истиной, что ли? Слабак, как стыдно перед собой! Может быть, больше это не повторится из-за моей реакции такой. А уже хочется повторения. Ничего теперь не поделаешь. Надо просто ждать, надеяться и быть готовым, «в конце концов!» – как говаривал мой отец.
Мой спутник в этом походе изначально был для меня безоговорочным руководителем. И не только потому, что маршрут был им задуман и разработан, но ещё (правда, по не проверенным мною данным) был опытнее в альпинизме и с более высоким спортивным разрядом, хотя лет на восемь моложе меня. Но не похоже, что Олег предполагал эту разницу в возрасте. А для меня сей факт не имел никакого значения. Ясным было и то, что в нашем бывшем альпклубе он состоял намного раньше меня.
За полтора дня похода стало заметно его высокомерное отношение ко мне. Ростом Олег был чуть выше моего плеча, сухого спортивного телосложения, русоволосый, с короткой стрижкой, в противоположность моей. Мелкие и резкие черты красивого лица, маленькие серые глаза, не выражающие застывшей мимикой ничего, выдавали в нём северо-западного европейца, с ярко звучащей фамилией Маузер. При общении взгляд его всегда был направлен слегка влево и чуточку вниз. В лицо собеседнику, а тем более в глаза, он не смотрел никогда. Ну и темперамент у Олега был ярко меланхоличный. Жёсткий интроверт и мизантроп.
Проснувшись в начале двенадцатого, не произнеся ни слова, напарник, с недовольным видом начал собирать свой рюкзак, причём одновременно нехотя и явно торопясь. Костёр у меня был к тому времени уже готов и мы, наскоро позавтракав, оба понимая, что сильно задержались и теряем время, стали готовиться в путь.
Мой продуктовый набор состоял преимущественно из импортных сублиматов в вакуумных упаковках. Они очень удобны в походных условиях и тогда ещё были для нас диковинкой на отечественном рынке. Вот ими я и потчевал своего спутника, включая в рацион дополнительно: сыр, сырокопчёную колбасу, сухофрукты, чай, кофе, сахар, мёд, сухари, масло топлёное и растительное, конфеты и шоколад.
После благодати на солнечном пригреве мы зашли в сырой шатёр кедрового реликта. Тропа, никем до нас не обновлённая, частично заросла и просматривалась пунктиром. Кедровые исполины в два, а то и в три охвата окружали без просвета. Влажная прохлада приятно освежала нас, охлаждая перегретое с утра на солнце тело, теперь тем более перегруженное физически. Толстые коренья и частые ручьи, пересекающие нам дорогу, не позволяли отрывать внимания от часто пропадающей тропы, которая, петляя, будто заманивала в лесной лабиринт…
Расслабив своё внимание и памятуя как ходил здесь два года назад, я, следуя единственной тропе, уверенно торил путь. Как вдруг, ничем не спровоцированное сомнение стало всё отчётливее и с каждой минутой сильнее расти в моём сознании. В чём дело – не пойму, тропа-то одна. Но она почему-то забирает всё круче в гору. «Так вообще-то не должно быть» – думал я на ходу. К тому же, на этом подъёме тропка стала похожа на парковую, городскую. Выйдя на малюсенькую полянку между деревьями, я решил сделать первый привал, чтобы отдышаться после крутого подъёма. Олег солидарно и молча согласился. Продолжения тропы после этой полянки снова не просматривалось.
С этой площадки открылся, сквозь разлапистые ветви, неплохой обзор в направлении нашего движения. Сняв рюкзак и разминая спину, я стал любоваться красотой гигантов-кедров. Впереди, меж зарослей леса, уже едва просматривались части горного пика, ослепительно блестевшие белым льдом и снегом, радующие небесной красотой и своей близостью. Опустив свой взгляд вниз по склону, я вдруг увидел далеко внизу и впереди участок тропы, по которому надо было идти… Я сразу понял свою ошибку. Это неприятно укололо моё самолюбие за легковесную самоуверенность.
Я немедленно признался в своём промахе Олегу, безучастно до этого откинувшемуся спиной на ствол дерева и смотрящему в противоположную сторону.
– Что ж ты так?! Я же на тебя всецело положился, – недовольно нахмурившись, не преминул упрекнуть меня он.
– Занесла, нелёгкая… – развёл руками я, подумав правда, что это неспроста. – Где-то я проскочил развилку, значит, по невниманию. Тропа тут хорошо набита, вероятно, потому, что люди с этой уединённой полянки, ночуя здесь, часто спускались за водой, – предположил я вполне логичную версию.
Так часто бывает: туристы находят отдалённое от тропы место для уединённого ночлега. А следующие за этой, может первой, группой, другие, как и мы, попадаются на удочку внимания к болеее протоптанной тропе. И она становится «бродвеем».
На этой петле мы потеряли около часа. Ещё через час вышли из леса на широкую и удивительно плоскую морену, оставленную отступившим при обильном таянии ледником, который теперь «бычился» на нас в полукилометре впереди. Морена была устлана однородным крупным курумником серого цвета, видно, не очень давно освободившегося из-под ледникового плена. Дойдя до её центра, где каким-то чудом из под камней росла одинокая молоденькая чахлая ивушка, Олег без обсуждений и командным тоном заявил:
– Здесь ночуем, сегодня поздно идти на ледник. А завтра пораньше надо встать – и вперёд, – и, не дожидаясь моего отзыва, вытащил из рюкзака палатку.
Моя очередь быть ведущим закончилась, и Олег воспарил в своём руководстве.
– Логично, перед маршрутом стоит лучше отдохнуть, – подтвердил я.
Слева, метрах в ста, шумел поток вырвавшейся из-под ледника «молочной» реки, а за ним – скальная грива восточного склона. Справа, в паре сотен метров, стеной, размером с трёхэтажный дом, закрывала обзор боковая морена. Выше языка ледника упирался в зенит белоснежный монумент горы. Солнце хорошо пригревало, и мы поспешили просушить до выхода на лёд свои вещи. Особенно в этом нуждались мои вибрамы. На леднике ночами зима, поэтому обувь важнее всего.
После обеда, используя свободное время, я попросил у Олега карту и схему маршрута, чтобы самому сориентироваться по абрису и самостоятельно разглядеть следующий участок маршрута. Мы же оба дальше этого места никогда не ходили. Проведя рекогносцировку и определив направление дальнейшего движения к нашему перевалу, я увидел, что путь к нему лежит через высокую стену морены, лежащую справа. За ней амфитеатром уходят ввысь волны морены уже другого ледника, поворачивая вправо и прячась за западной скальной грядой. По этой морене и надобно нам идти. А отсюда наш перевал ещё не был виден.
– Олег, а нам незачем идти на ледник. Надо двигаться направо – по морене, в сторону другого ледника. Там, на западе, наш перевал, – уверенно показал я рукой нужное направление.
– Я лучше знаю, меня подробно проинструктировали те, кто так ходил. Не надо дискуссий! – резко отрезал он, забрав у меня свои бумаги, демонстративно развернулся ко мне спиной и спешно удалился за палатку.
Я понял, что мне сейчас не доказать свою правоту. «Приехали! Кто в лес, кто по дрова! Ладно, – подумал я, – утро вечера мудренее. Может, завтра с утра поразмыслит и одумается». Так бывает в горах: по карте – одно, а глянешь вперёд – не совсем понятно, трудно бывает привязаться к месту.
Утром я разбудил Олега раньше, чем солнце появилось из-за горной гряды. А меня самого разбудил будильник, встроенный в мои механические часы. На ледник – как в бой, не то, что по «зелёнке». С самого подъёма снова молча позавтракали и собрались. Подошли к леднику одновременно с восходом солнца над гребнем скал. Сотни лучиков мелкими иглами брызнули по глазам, отразившись от кристалликов льда. Пришлось спешно надевать горнолыжные очки.
Одев на ботинки «кошки» и взяв в руки по ледовому молотку, мы почти бегом, на передних зубьях «кошек» быстро преодолели крутой участок языка ледника, высотой в пару десятков метров. Олег «рвал подмётки» впереди, я едва поспевал за ним. Видно, он был зол за вчерашний наш разлад во мнениях и хотел быстрее доказать свою правоту.
Выйдя на более пологую часть ледника, мы пошли привычным, для этого ландшафта, шагом. Нижняя часть ледника, открытая от снега в летнее время, изрыта рытвинами с лужами глубиной по щиколотку. Между ними лишь узкие перемычки из подтаявшего льда. Рытвины разного размера, поэтому шаги через них тоже разной длины. Этот неровный темп ходьбы забирает много сил. Чтобы облегчить движение, мы сняли «кошки» с ботинок, потому что они ещё больше затрудняли шаг, слишком врезаясь и цепляясь за кромки рыхлого льда. Перемычки между рытвинами зачастую были меньше длины ботинка и крошились под подошвой. Несколько часов подниматься по такому леднику – перспектива не весёлая.
Ледовая пустыня своим горбом скрывала от взора свои размеры, особенно длину, куда и вёл меня Олег – прямо к крутому ледопаду, сползающему с соседней, стоящей правее, вершины. Сначала я молча и почти безнадёжно ждал, что он вот-вот одумается. Ведь с каждой сотней метров моя правота становилась всё явнее. И чем выше мы поднимались, тем больше я в ней убеждался, поглядывая всё круче вправо, в сторону выбранного мною направления. Вот уже появился на горизонте «наш» перевал, «выглянув» из-за скальной гряды.
А Олег, как ужаленный, глядя лишь под ноги, максимально возможным темпом шёл к ледопаду, вертикально раскрывшему свою рваную гармонь ещё в нескольких километрах впереди.
С горба ледника, куда мы добрались, ещё лучше стало видно весь правильный участок, лежащий уже позади и справа. К тому же, откуда ни возьмись, у меня появилось знание, что выбранный Олегом вариант маршрута на этом участке ведёт нас в тупик, причём очень опасный. Я даже знал, что представляет из себя этот тупик: непроходимую трещину. Внезапно появившаяся интуиция, силы которой я раньше не ведал, извещала меня о том, где мы наткнёмся на эту трещину, как она выглядит и даже в какое время дня это произойдёт.
Остановившись у огромного валуна размером с маленький автомобиль, лежащего на середине пути к ледопаду, я задумался, любуясь картиной: камень по всей своей поверхности был «инкрустирован» пиритом (в простонародье – золото дураков). Идти за Олегом совсем расхотелось и я стал вычислять: через сколько лет ледник вынесет в реку этот валун. Получалось, что примерно через десяток или больше. Но это с опорой на усреднённый показатель скорости движения и таяния ледников в горах средней полосы. А сколько приблизительно времени лежать на льду этому камню, может рассчитать исследовательским путём только гляциолог.
Олег оглянулся, видимо не услышав моих шагов в окружающей тишине:
– Ты чего?! Давай быстрее!
«Ну, быстрее-то некуда» – подумал я и решил его осадить, раз сам не понимает:
– Олег, ну посмотри! Вон же наш перевал виднеется, туда надо идти, по вон тем моренам! Остынь и присмотрись внимательнее! – показал я ему снова правильное направление правой рукой.
– Не спорь! И прибавь темп! – нервно отрезал он и рванул в стремлении ускориться.
Какое уж тут ускорение? То носок ботинка клюнет в рытвину с лужей, то каблук. Рытвины образуются на леднике от нагрева солнцем камешков, лежащих на поверхности льда. Они-то и топят лёд вокруг себя, образуя лужи. Лёд же в большей степени отражает солнечное тепло, а камешки только впитывают его. Ещё и ручьи талой воды разной мощи, ширины и глубины, тут и там режут ледник, образуя в нём русла. Через широкие ручьи приходилось перепрыгивать с большим трудом.
Больше мы не останавливались. После пререкания в Олега словно бес вселился и я едва за ним поспевал. Энтузиазм у меня совсем пропал, я же знал теперь, чем в лучшем случае закончится наш аллюр. Но было очевидно, что Олега не остановить. Теперь, по технике безопасности, от меня требовалось обеспечить спасение напарника по «связке» в случае опасности, несмотря на все возможные с его стороны в таком состоянии «фокусы». Но в тот момент я даже не мог подумать, что таковые могут случиться у перворазрядника.
Конечно, я мог повернуть обратно и он бы последовал за мной. Но мой фатализм и азарт в любви к риску и приключениям, а так же природный альтруизм не дали трезвому рассудку так действовать.
Мы шли часами, а ледопад еле приближался. Вот уже и в тень от стены ледопада зашли. Про свои наручные часы я совсем забыл в тот день. Мне было не до хронометража, на ходу я уже представлял всю тяжесть предстоящего «сизифова» труда наперёд.
Высотой в несколько сотен метров, ледопад встал перед нами стеной, раскрыв гармонь своих горизонтальных трещин в кулуаре между вертикальных скал, шириной метров около пятидесяти. Олег сходу, не доставая нужного снаряжения для страховки (верёвки, обвязки и ледобуров), на передних зубьях «кошек», зарубаясь ледовым молотком выше головы в лёд, стремительно, как шальной, пошёл наверх, не дождавшись моего подхода и даже не оглянувшись. Он, очевидно, боялся того, что я снова начну его останавливать.
Как бычок на закланье, я последовал за ним. Во мне всё кричало: «Что делаете, куда? Через час – другой будете спускаться обратно»! Знающие люди понимают, что такое спуск с такого ледопада – черепашьим темпом нелёгкого прагматичного труда. На таких участках разговаривать нельзя, только команды и ответы, как в бою. Этим и постарался воспользоваться Олег, залетев на стенку без остановки.
Риск холодком пробегал по спине, хотя телу было жарко. Адреналин не давал почувствовать ни усталости мышц, ни времени. Мыслей тоже не было. Работал лишь рефлекс – зарубаться сильнее в лёд. Молотком над головой, затем, согнув колено как можно выше и передними зубьями – в лёд, а после, распрямив ногу, то же самое – другой. Главное, чтобы были задействованы две точки опоры. И так – с редкими, секундными остановками, чтобы перевести дыхание. Дольше останавливаться без страховки опасно, может не хватить сил на то, чтобы устоять в статике на месте. Другое дело – в движении. Адреналин зашкаливал, мы поднимались на «автомате», не чувствуя усталости. В какой-то момент я, в пылу движения не глядя вверх, догнал Олега на опасный интервал. А он в этот момент откинул назад ногу, вынув «кошку» изо льда. Задний зуб этой «кошки» чиркнул пластиковое стекло моих очков, которые я не догадался даже снять, часами работая на теневой стороне ледника. То, что испорченными стали очки, это не беда. Смертельную опасность для себя создал я сам. Спасительные сантиметры уберегли от непредсказуемого, а Олег этого даже не заметил, слава богу. Отвлечение его внимания от своего движения привело бы срыву и гибели обоих.
Так иногда нарушают технику безопасности рисковые альпинисты в отсутствие контроля. Это они называют – пройти на «халяву». Если бы кто-то из ответственных инструкторов увидел нас в этот момент, то дисквалифицировал бы, как альпинистов, за отсутствие страховки.
Подгоняемые естественным страхом, мы вышли на менее крутой участок и яркие солнечные лучи, усиленные отражением от кристалликов льда, ударили в лицо, заставив на миг, от неожиданности, распластаться на животе.
Божественный источник жизни уже приблизился к закату за западную горную цепь. Значит, день кончается, вот это да! Нам бы немедленно спускаться – иначе гибель! Выше снова лишь рваный лёд, зажатый, как река, вертикальными скалами. Ещё выше – заснеженный пик, с которого и спускается ледопад. Здесь нет возможности ночевать.
«Как же в этой гонке день быстро пролетел!» – подумал я.
Олег остановился. Здесь уже можно было стоять на ногах, но исключительно в «кошках». Он резко сбросил свой рюкзак в узкую, присыпанную сухим снегом, мелкую трещину:
– Подстрахуй его, чтоб не скатился. А я налегке сбегаю в разведку – посмотрю: как там дальше…
Я молча сел, не снимая рюкзак, на острый край этой же трещины, и лёд от моего тепла начал быстро таять и мочить мою пятую точку насквозь. Отдых был так себе… Штаны мокли, лезвие ледяной трещины врезалось в зад, а чтобы не съехать в пропасть приходилось напряженными ногами упирать «кошки» в лёд. Сидеть можно лишь спиной к уходящему наверх склону. Одной рукой я упирался для разгрузки пятой точки в тот же край трещины, другой придерживал рюкзак Олега. Даже достать «хобочку», чтобы подложить под попу, было затруднительно, хотя она была пристёгнута к клапану рюкзака. И я, будучи уверенным в том, что через минуты спуск, не стал делать лишних движений. «Не сахарный, – подумал я, – не растаю». Тем более, что больше трёх минут вряд ли так просидишь. Даже свой рюкзак некуда устроить, трещина давала место только для одной поклажи. И мой куль медленно насаживал меня на ледовое остриё дополнительно к весу тела.
Сейчас, сейчас он всё увидит и поймёт. Я ждал и знал, что сию же минуту Олег наткнётся на ту самую непроходимую трещину, которую я «увидел» ещё в начале дня, «вижу» как она выглядит во всей своей красе и сейчас. Её не перескочить и не обойти ни с одной стороны, она похожа на бергшрунд (отрыв ледника от скалы под своим весом). Мне даже не хотелось на неё посмотреть воочию, незачем, спиной «вижу».
Сижу и смотрю в пропасть, откуда мы поднялись и представляю, сколько ещё усилий и времени потребуется сейчас на спуск. Хватило бы светового дня на это! Спускаться можно лишь медленно, не ускоришься. За вертикальным изгибом ледопада даже не видно этот участок спуска. Сколько сотен метров – не определить. Далеко внизу извивается язык ледника, по которому мы поднимались в первой половине дня. А за ним – прогретая солнцем «зелёнка» растворяется в дымке, удаляясь вниз… Через минуты закат и у нас будет часа два – три до густых сумерек, дай бог. Вокруг один рваный лёд и не то, что ночёвка, даже получасовая остановка невозможна.
Успели только эти мысли мелькнуть у меня в голове, как я услышал призыв Олега:
– Иди сюда, посмотри!
«Сейчас, сейчас, – подумал я, – уже бегу».
И, даже не оглядываясь в его сторону, крикнул ему:
– Что, глубокая трещина?
– Да!
– И широкая?
– Да!
– Не пройти и не обойти?
– Да!
– А с другой стороны смотрел?
– И с другой не обойти.
– Так иди обратно! – закончил перекличку я.
Он вернулся подавленным:
– Что будем делать?
– А ты случайно не собрался штурмовать тот пик, что у меня за спиной?
– Не-ет… – с растерянностью в голосе и глядя в сторону выдохнул Олег.
– Ну, слава богу, наверное, понял! Спускаться обратно – вот что делать! Вариантов больше нет! Пока светло – надо успевать. Доставай ледобуры и обвязку! – без предисловий уже, я уверенно взял на себя руководство.
Это моментально стало естественным для обоих. И куда подевалась спесь Олега? Он сразу сник и помрачнел. Слов более не требовалось, теперь только команды. И тут меня просто потрясла картина: мой напарник стал разгружать весь свой рюкзак полностью, едва приспосабливая вещи в той же малюсенькой трещине. Это же надо было: перед выходом на лёд и, видя впереди все сложности маршрута, требующие использования всего имеющегося снаряжения, уложить его на самое дно рюкзака. Это был очередной «фокус» моего горе-партнёра, о чём предупреждала моя интуиция, но я, завсегда любящий видеть в человеке только хорошее, до конца отгонял от себя негативные мысли. «И это перворазрядник?! Кто мне это сказал? Не Светка ли?! «Ай да Солоха! (как у Гоголя в рассказе «Ночь перед рождеством»). С кем я связался?!».
Со стороны Олега это было не легкомыслие даже, а грубейшее нарушение техники безопасности, не допустимое и для новичка!
«Ну всё, – решил я для себя, – больше не позволю спутнику никакой вольности до конца похода. Достаточно уже риска».
Пока Олег собирал обратно в рюкзак свои вещи я, одев обвязку и пристегнув к ней конец верёвки, успел вкрутить первый ледобур в лёд, для страховки на спуске.
– Пристёгивайся и страхуй меня, я первый пошёл, – дал команду я, подавая партнёру другой конец верёвки с готовым узлом, когда тот уже был готов к работе.
И мы снова ушли в тень ледника, теперь страхуя, по очереди, друг друга, согласно привычной и любимой мною технике. Один спускается на полную длину сорокаметровой верёвки, второй страхует на станции. И, выдав всю верёвку, кричит:
– Верёвка вся!
Тогда первый останавливается и вкручивает ледобур в лёд для нижней страховки второго, а закончив, даёт команду ему:
– Верёвка свободна!
Только тогда второй выкручивает свой ледобур, забирая его с собой, и сигналит о себе:
– Пошёл!
И, если он сорвётся, то кричит:
– Срыв!
Или не кричит, и пролетает мимо первого на две или меньше длины верёвки (смотря в каком месте был срыв). Хорошо, если не зацепит первого и страховка выдержит динамичную нагрузку. Вся опасность именно при этой – нижней страховке. На спуске «кошкой» зарубаешься, не видя куда, и перед тем, как опереться на эту ногу, пробуешь постепенно её нагружать, не отрываясь при этом от двух других опор. А если чувствуешь, что опора не надёжна, то приходится зарубаться в несколько попыток одной ногой: чуть левее, чуть правее, чуть ниже, чуть выше, или чуть сильнее и т.д. Так, с полной концентрацией внимания на этой работе, мы уже не замечали ни хода времени, ни угасания светового дня.
Сколько верёвок было на спуске, никто из нас не считал, успеть бы до темна – только это имело значение. Верёвками измеряется размер участка маршрута при использовании их на всю длину. Здесь же вряд ли какой дурак попрётся нашим путём, поэтому и не зачем было считать верёвки.
Уже в густых сумерках мы спустились с ледопада на ровную ледяную площадку и я с облегчением выдохнул, ведь не за себя, а за товарища и его твёрдость в соблюдении техники безопасности были все мои волнения. От его психического состояния зависела жизнь обоих. Слава богу, что не пришлось работать на вертикали ночью.
Так вот о чём, видимо, меня той ночью предупреждали свыше! Чтобы я, наверное, остановил поход, что был риск довериться такому товарищу. А я не понял, не прислушался к своей интуиции даже в начале сегодняшнего дня.
После спуска с ледопада, я бы стал спускаться дальше по инерции, чтобы закончить с ледовыми приключениями, а на следующий день уже отдыхать и греться на сухих камнях морены. На пологом участке ледника можно было бы и ночью туда спуститься. Лёд отражает космическое свечение звёзд, глаз привыкает, и то, что нужно, можно разглядеть под ногами. Контраст полутонов ледового рельефа позволяет пройти безопасно, не спеша.
Но Олег, заявив, что устал, не допуская обсуждений, быстро достал и поставил палатку прямо под нависающим ледопадом. Правда, другого подходящего места вокруг и не было. Мне вовсе не хотелось переубеждать, я сжалился над ним и не стал возражать.
Загрузив вещи в палатку, я огляделся, чтобы набрать талой воды для ужина. Ручейки с ледопада стекали справа и слева. И только в этот момент моё внимание привлекла ледяная стела, нависшая прямо над палаткой. Она откололась от ледовой стены по высоте и только своим основанием ещё монолитно была слита с ледником. В высоту стела вытянулась на десяток метров; толщина же у основания – в полтора охвата, ну и вес её примерно понятен. Самое интересное состояло в том, что основание стелы со стороны ледника «подрезал» быстрый ручей. «Пропил» был уже глубокий. Рассказав об этой опасности Олегу, уже расслабившемуся в палатке, в ответ от него получил безмолвное равнодушие, будто ему ничего не сказали…
Я попробовал прикинуть: как скоро наступит момент отрыва и падения этой глыбы, когда вода критично её подточит. Просчитать это можно, но не в данный момент и не мне, в усталом состоянии. Пришлось надеяться на русский «авось». Лёжа в палатке перед сном, я ярко представил себе (в замедленном времени), как льдина проминает каркас палатки, он пружинит, не сопротивляясь, и складывается над нами… Если такое случится, когда мы будем спать, то даже не успеем понять, что покинули «белый свет»… Только лёд вокруг покраснеет на короткое время…
А до этого я достал свой маленький бензиновый примус…, залил кипятком сублиматный порошок, из чего получилось картофельное пюре. Олег же, впервые, молча, достал к нему, видимо из своего «НЗ», лишь банку рыбной консервы. На десерт к чаю я предложил мёд, шоколад и печенье из раздувшейся от высотности места вакуумной упаковки.
Решив сменить носки на сухие, я с удивлением обнаружил, что у меня кожа выше пяток сбита в кровь. А я даже не чувствовал этого в пылу отработки маршрута. И сразу понял причину – новые, не опробованные «кошки», чрезмерный изгиб их запятников.
– Что ж, – говорю я напарнику со сдержанной иронией, – хорошую ледовую тренировку мы сегодня провели!
Он промолчал и предложил мне мозольный пластырь, увидев мои ссадины. Но средство было не для этого случая.
Проснувшись утром, я первой своей мыслью констатировал продолжение жизни. Стела не упала. А выйдя из палатки, отметил про себя существенное углубление «пропила» её основания. И, чтобы не испытывать судьбу, мы, наскоро попив чай со сладостями для прибавки сил, быстро покинули опасное место и пошли вниз по леднику.
Когда дошли до середины ледового поля, Олег мне предложил, не очень уверенно:
– Ты был прав, давай пойдём в том направлении, что ты показывал. Теперь я вижу…
А я уже хотел быстрей на «зелёнку», к костру на солнышке, чтобы обсушиться и отдохнуть. Да и поход для меня кончился, тянуло уже домой. Интуиция мне чётко говорила: – «Получил, неслух! Предупреждали ведь тебя! Всё, сезон закончен! Хватит! Мало что-ль ещё?!».
Но я, не раздумывая, правда с тяжёлым чувством и нехотя, ответил:
– Хорошо, попробуем… Пошли.
Мне всё же интересно было подняться на перевал, к которому стремились, чтобы посмотреть, лишь для разведки, на будущие походы в этих местах. И я круто повернул налево, преодолевая сильное внутреннее сопротивление.
Пока мы спускались к краю ледовой реки, мои ступни сползали к носам ботинок и острой боли я не чувствовал. Но как только сошли со льда и стали подниматься на боковую (западную) морену, то при каждом шаге как ножом стало «резать» мои ранки на ногах. А поскольку ходим мы в такие походы не для мазохизма, то продолжать хоть сколько-нибудь это путешествие для меня окончательно потеряло смысл. И странно стало мне, что нет никакого сожаления о том, что ни один пункт нашего маршрута не состоялся: ни перевала, ни восхождения на красивые вершины.
Раньше, когда те или иные обстоятельства мешали возможности взойти на ту или иную вершину, то оставались сожаления, тянущие к ней годами. И снились не пройденные маршруты или их участки, мучая душу неосуществлёнными планами.
А сейчас наоборот, я как будто даже был удовлетворён всем происходящим, к своему удивлению. Верно, после того ночного явления что-то изменилось в душе. При этом собственные желания вдруг отошли на второй план, а обстоятельства повседневной жизни стали самыми важными. Что-то в глубине души мне говорило: «скорее домой, там что-то происходит, я там срочно нужен». Раньше я будто не слышал своего внутреннего «я». Наверное, это знание пришло из подсознания.
Мой альпинистский энтузиазм сильно «побледнел». Стало даже всё равно: дойду я до того перевала и тех вершин когда-то или нет.
– Всё! – говорю моему спутнику, – Не могу терпеть боли. Пошли на «зелёнку». Надо, чтобы подсохли и затянулись мои ссадины.
На леднике я не стал ему говорить, что поход закончен. Всему своё время. Вот спустимся на твердь земли со льда, не станет опасностей ландшафта, тогда все откровения будут уместны. А то здесь, на не вполне безопасном участке маршрута, ещё выкинет какой фортель мой непредсказуемый напарник. Интуиция неумолимо продолжала предупреждать меня об этом, и я стал ещё более внимателен к нему и бдителен.
Олег молча кивнул мне в ответ, обречённо согласившись, и совсем сник. Мы продолжили спускаться туда, откуда пришли на ледник. Я шёл ровно, своим темпом. Острой боли не было, потому что всё время вниз, к «кончику» языка ледника, с которого вчера забрались сюда. А Олег вдруг начал сильно отставать, понуро уронив подбородок на грудь. Вероятно, сам всё понял. Мне пришлось теперь всё время оглядываться, стараясь контролировать ситуацию, предчувствуя неладное всё отчётливее.
Ледник «горбился» и иногда за линией его изгиба я терял из виду своего спутника, тогда останавливался и ждал его появления. Когда он выходил их-за горизонта, я продолжал стоять, ожидая сокращения дистанции. В альпинистской практике такое не практиковалось на подобных, не опасных участках. Но в этот раз я спиной чувствовал и ждал подвоха от Олега.
Во второй половине дня мы, наконец, приблизились к крутому участку спуска с языка ледника на камни и надели на ботинки «кошки». Вооружившись ледовым молотком, я быстро спустился на курумник и с облегчением освободился от «кошек». Страховка здесь не требовалась, спуск ровный, короткий и простой.
«Теперь-то все опасности позади и можно расслабиться» – подумал я.
Но не тут-то было. Не успел я поднять взгляд на спускающегося Олега, как мне под ноги, по ледяной горке, скатился ледовый молоток и одна из «кошек» напарника. Резко глянув наверх, я в ужасе увидел его в самом начале спуска, на срезе горизонта, стоящим за счёт единственной «кошки». Олег молча и тупо глядел себе под ноги. Не теряя ни секунды, я крикнул ему:
– Не двигайся! Сейчас принесу твою «снарягу»!
Снова одев свои «кошки», взяв свой ледовый молоток и его снаряжение, я бегом, на передних зубьях, поднялся к нему. Обхватив бедолагу за талию, подал ему его «кошку» и он неспешно надел её. Затем, вручив ему его молоток, я спросил Олега:
– Готов?
– Готов, – ответил он подавленно.
– Я пойду первым и буду тебя подстраховывать, – добавил я.
Мы спустились медленно и ровно. А когда мы уже снимали свои «кошки», я не откладывая, спросил товарища сдержанно строго:
– Олег, что это было?!
Он молчал, не поднимая головы и сворачивая снаряжение.
– Ты помнишь, как наказывают новичков за такое? – продолжил я прояснять для себя произошедшее через длинную паузу.
– Я не новичок, – недовольно буркнул он.
– Тогда, приятель, ещё хуже!
Добавить мне было нечего. Все мои опасения с лихвой подтвердились. Мальчишество какое! Воцарилось молчание. Естественным стало остаться здесь на ночёвку, у той же чахленькой ивушки. Только я об этом подумал, как Олег, будто спохватившись, каким-то не своим, сиплым и просящим голосом стал просить:
– Давай здесь заночуем, отдохнём, – и, через паузу, добавил, – Я там… – он указал на ледник взмахом руки – …поскользнулся и упал, вот прямо лицом, – и, показывая на свою щёку, начал жаловаться: – У меня теперь кружится голова, сотрясение…
– Что ж, отходились мы с тобой! – подытожил я. – Теперь домой! Здесь, конечно, заночуем, надо отдохнуть и обсушиться, а завтра – сразу до домика и, если тот свободен, ночуем в нём.
Больше диалогов у нас не было, что стало вполне естественным. Остаток дня я исподволь наблюдал за парнем, за его движениями: никаких признаков сотрясения не было заметно и лицо его, которое обязательно поранилось бы об острые края ледяных рытвин при падении, было девственно невредимым. А главное, когда это он успел упасть? В течение всего перехода я терял его из виду всегда менее, чем на минуту. И возникшие сомнения стали уступать уверенности в том, что партнёр мне просто соврал ради своего оправдания и для вызова жалости. Наверное, мой товарищ задумал со мной сыграть в игру, как в сказке «Волк и лисица», где «…битый небитого везёт».
Утром я, уже не ожидая от Олега никакого участия, встал пораньше, приготовил завтрак и разбудил партнёра. В полном молчании подкрепившись и собравшись, мы снова углубились в дремучий, загадочный лес, где я три дня назад сбился с нужной тропы. Мой спутник шёл медленно, ровно и твёрдо, без жалоб и остановок, всё время отставая. Не принимал после спуска с ледника обезболивающих, не спрашивал их у меня. Но я неотрывно держал его в поле зрения, поминутно оглядываясь и останавливаясь для сокращения дистанции, будто он стал моим пациентом.
Убедившись к середине дня, что он не нуждается в моей помощи, я таки уверился в его симуляции. Мои ноги просто несли меня вниз по ущелью, как застоявшийся конь, невзирая на накопленную усталость. Весь мой организм радовался возвращению домой. На недолгих подъёмах я уже привычно превозмогал острую боль в ногах. И мне тем более хотелось быстрее спуститься к домику пастухов в низовьях ущелья, чтобы закончились на сегодня эти мучения.
В очередной раз, остановившись в ожидании приближения Олега, я предложил ему:
– Олег, мне трудно двигаться твоим темпом, меня подгоняет боль в ногах. Теперь впереди больше нет никаких трудностей и опасностей. Ты, я смотрю, идёшь без проблем. Давай так: я спущусь своим темпом к домику и, если он свободен, то там, на печи, приготовлю нам ужин. Своим темпом тебе останется пройти часа три. И у меня будет больше часа на кухню.
Ответа не последовало. Товарищ «набычился», а я, посчитав молчание знаком согласия, хорошим темпом оторвался от него. У меня уже созрело неуёмное намерение – следующим же днём выйти к трассе и успеть на утренний автобус. Усиленный темп моего шага, тем не менее, отставал от душевного порыва в стремлении к семье. Дорога домой всегда короче. Я едва успевал напоследок фотографировать, лишь сердцем, мелькающие мимо необыкновенные пейзажи. И, теперь без остановок, я быстро добрался до домика, который, как я и предчувствовал, оказался пуст.
В домике была кирпичная (так называемая, финская) печь с четырьмя конфорками, стол с длинными лавками, двое нар, прибитых к стенам и покрытых сеном и дощатый пол. Дом добротно срублен из толстого кругляка, хоть зимуй. Окна на две стороны от северного угла. Одно из них открывает вид на лесную дорогу (две колеи по траве), ведущую от дома на двадцать километров до ближайшего села. Другое окно смотрит в сторону реки и на противоположный склон. Но реки не видно, её закрывает лес. Дверь – со стороны поднимающегося, «нашего», склона.
Я приготовил ужин, как обещал, и стал ждать Олега. Наступили сумерки, прошло уже часа два, как он должен был прийти, по моим подсчётам. Свободный от всяких дел в эти часы, я стал осознавать, что за весь наш короткий поход погода выдалась удивительная: ни облачка на небе, ни дуновения ветерка. Не встретили ни одной живой души. Ни зверька, ни птички, ни даже их звуков не слышали. Завораживающе сказочное место. Недаром для себя я его назвал «Ведьминским». И теперь, когда я один стою на тропе у домика и всматриваюсь в чащу леса, откуда вот-вот должен появиться Олег, весь вечер чувствую на себе взгляд, чьё-то постоянное невидимое присутствие.
В этот момент поневоле вспомнилось в красках происшествие, случившееся здесь два года назад. Также в середине лета, мы ждали туристическую группу из семнадцати человек, приезжающих из западных земель Германии на лёгкий горный трекинг. За две недели до встречи и обслуживания немцев, пятеро парней, членов нашего альпинистского кооператива, плюс нанятая повариха (тоже альпинистка) и её помощница в лице моей дочери Эли, выбрав хорошую полянку недалеко от этого же пастушьего дома, стали готовить лагерь. Поставили палатки для столовой и для кухни на небольшом расстоянии. В низинах, справа и слева от поляны, соорудили туалеты: женский с одной, и мужской, с другой стороны. Ниже, у ручья, поставили душ, в котором вода постоянно подогревалась от дизельной горелки. Расставили по поляне в ряд жилые палатки для туристов, на двоих каждая. Проверили маршруты на предмет проходимости и безопасности.
В один из последних дней подготовки надо было «забросить» пешим порядком и на своих плечах продукты и газовые баллоны в верхний лагерь, который расположили в сказочном лесу, на берегу реки, недалеко от ледника. Одного человека оставили охранять базовый лагерь и вшестером пошли, гружёные, наверх. Погода стояла прекрасная, и мы шли в верховье ущелья в приподнятом настроении, продолжая открывать для себя всю его красоту. Но на обратном пути небо затянули тучи, пошёл мелкий дождь.
Когда до базового лагеря оставалось пройти около часа, мы вдруг потеряли тропу в густом ленточном лесу речки Кара-Су, что пересекает склон. Промокшие до нитки за полдня, мы мечтали быстрее дойти до своего лагеря, переодеться в сухое и сделать горячий ужин на газе. А тут – на тебе! Налегке спускаясь на базу, мы втроём оторвались, от второй тройки, далеко вперёд. Алексей (наш старший по лагерю), Эля и я стали искать меж зарослей тропку, почему-то пропавшую из виду. Она должна вывести нас к переправе через бурный поток. Сгущающиеся сумерки совсем спрятали в глухом лесу наш путь, стало почти темно. Продираясь уже напролом сквозь чащу, вместо тропы мы вдруг увидели огонёк костра, мигающий меж зарослей. Переглянувшись, мы единодушно и без слов решили пройти к огню. Любопытство перевешивало усталость.
Пробившись сквозь ветви деревьев, мы увидели двух молоденьких девушек, сидящих плечом к плечу. У их ног горел огонь. Мы подошли к ним с противоположной стороны костра. Огонь освещал сияющие юные и красивые лица девиц с одинаковыми короткими причёсками. Их светло-русые волосы и глаза, отражающие цвета пламени, выдавали в них туристок. Одеты девицы были в одинаковые футболочки с короткими рукавами. Над их головами, за спиной, защищая от дождя, чернел какой-то тент, но ни граней, ни креплений и оттяжек которого мы разглядеть не смогли. Девушки были схожи своей приветливостью и хитро-мудрой, не угасающей улыбкой, как сестрички.
– Здравствуйте, милые девушки! – поприветствовал их, подошедший к костру первым, Алексей.
– Вечер добрый! – в один голос ответили они.
– Располагайтесь, попейте с нами чаю, – предложила совершенно искренне и добросердечно одна из девиц.
Мы стояли мокрые под дождиком, с нас стекала вода, а они сидели совершенно сухими и с их тента даже не капало. В пламени костра должны бы щёлкать испаряющиеся от жара капли дождя, падая на огонь и угнетая горение, но этого не происходило. Тент не накрывал костёр, который горел ровно, как в сухую погоду и даже не дымил. Тепло, исходящее от него, тоже было необычно равномерным. «И откуда здесь взяться таким сухим дровам?» – подумалось. Непогода их будто совсем не касалась!
Мой опытный взгляд сразу подметил все детали картины. Казалось, что не только я разглядел необычность явления, мы все трое стояли в замешательстве. А девушки продолжали озорно улыбаться нам, глядя прямо в глаза призывно и открыто. Нам не то, чтобы не хотелось горячего чая, а просто именно их предложение почему-то отталкивало…
– Нам бы быстрее в свои палатки, чтобы переодеться в сухое. Уже темнеет, а наш лагерь в сорока минутах ходьбы. Так что, спасибо за предложение, но мы лучше попьём горячего у себя, переодевшись, – ответил за всех Алексей через паузу (мы с ним были безмолвно солидарны). И, в свою очередь, спросил у девиц, – А вы сами, милые девушки, откуда будете?
– Да мы местные, – игриво и легковесно ответила одна из них, словно отмахнувшись.
Какие-то отталкивающие чувства и сомнения усилились при этом, казалось, у всех троих. Нас сильно потянуло быстрее покинуть это место. Мы в этот момент, как никогда ранее, чувствовали единение в ощущениях друг друга, немыслимое в условиях повседневности.
– Будьте здоровы, хорошего вам отдыха! Мы пойдём… – попрощался за всех нас Алексей, хотя, я думаю, что девушки в пожеланиях вовсе не нуждались. Такими довольными и уверенными в себе они выглядели, как будто были у себя дома…
– А вам – лёгкого пути! – ответила на прощание одна из них.
При этих её словах наши ноги, будто сами собой, развернули нас, побыстрее, вспять. Едва отойдя от костра и снова продираясь сквозь заросли, мы, чудесным образом, сразу вышли на свою тропу. Сделав ещё несколько шагов, я оглянулся, но не увидел сквозь ветви мигающих огоньков того костра. Стало как-то не по себе, а встретившись глазами со своими спутниками, я ухватил на их лицах похожую, изумлённую, улыбку.
Выйдя за переправой из леса, мы обнаружили, к своему очередному удивлению, что сумерки ещё не перешли в непроглядную ночь. В эти дни, ко всему прочему, было новолуние, поэтому даже в ясную погоду Луны на небе не было. И мы поторопились в свой лагерь, на ходу между собой рассуждая об увиденном, обоюдно согласившись, что даже запаха дыма от их костра не почувствовали.
Переодевшись в сухую одежду и не дожидаясь отставшей группы, мы быстро сделали себе глинтвейн на газе, чтобы согреться и расслабить натруженные за день похода мышцы. Пока готовился глинтвейн, мы спросили у дежурившего в лагере Олега, не проходил ли кто мимо. Он ответил отрицательно. Опять стали рассуждать: ущелье узкое, с крутыми склонами, тропа только одна, незамеченным никто не пройдёт. А мы стоим здесь уже больше недели. И высидеть в гуще леса всё это время, прибыв сюда до нас, просто немыслимо, в таких условиях. У девчонок даже палатки не было! А их тент просто чернел за их спинами, как портал с размытыми краями, не имеющий креплений!
Разлив по кружкам глинтвейн, мы втроём решили игриво чокнуться ими по традиции. При этом, не сговариваясь, и глядя друг на друга, в один голос возгласили с выдохом:
– Ведьмочки!
При этом глаза у всех троих выпучились, выразили озарение и игривый страх. А мои волосы на всём теле встали дыбом. Думаю, что не только у меня.
Тут же мы втроём сговорились не рассказывать об увиденном никому, потому что не поверят и засмеют. А у вернувшейся второй тройки мы поинтересовались: не встретили ли они кого на пути. В ответ было только удивление этому вопросу.
В один из последующих дней, уже при проводке туристов через тот лесок, я попытался найти костровище, оставленное девицами. Ориентируясь по направлению от переправы и по примерному количеству шагов, отмеренных нами в тот вечер, я со своим природным перфекционизмом обшарил тот небольшой кусочек леса. Но ничего, кроме нетронутых зарослей, не нашёл… Посему и назвал для себя это ущелье «Ведьминским».
Вернувшись из воспоминаний, я заметил, что сумерки сгущаются, уже едва различаются стволы деревьев, тропа в десятке метров от меня растворилась меж них. Только высоко над головой ещё голубеет купол неба, где уже зажглись крупные звёзды. Олега всё не было. Я не на шутку стал волноваться, будто за сыночка. Идти навстречу, вдруг что-то случилось? «Что такое могло случиться? – задавал себе вопросы. – Его палатка при нём, он может из вредности ночевать, не дойдя до меня». Но что-то мне подсказывало: «спокойнее, жди, сейчас появится».
В густых сумерках вся окружающая природа замерла, как на фотографии. И только лёгкий дымок из трубы над крышей дома, слегка закручиваясь и извиваясь, придавал картине живости. Наконец, когда почти совсем стемнело, из темноты лесной стены материализовался силуэт человека. Другой субъект появиться не мог, это был Олег. Он медленно, но твёрдо шёл, глядя себе под ноги, чтобы не сбиться с тропы.
– Ну, наконец-то, я уже заволновался. Ужин нас заждался! – воскликнул я с воодушевлением ему навстречу.
Олег не ответил, на меня даже не глянул. Прошёл мимо в дом, как будто и не было моего присутствия. Молча поужинали, и он сразу лёг спать на солому, отвернувшись к стене. Мне осталось спальное место у печи. Я с самого рождения спал либо на печи, либо вплотную к ней и очень эти места любил.
Пока он не успел заснуть, я предложил ему:
– Олег, завтра встаём в четыре утра, чтобы успеть на утренний автобус.
Он ничего не ответил. Обиделся, что ли, тридцатилетний мальчик?
Минут через пять Олег вдруг отозвался, не поворачивая от стенки головы:
– Давай ещё денёк позагораем здесь, на полянке.
– Нет, не могу, меня дом зовёт; чувствую, что во мне там срочно нуждаются. Что-то там происходит…
Он ничего более не выразил, и я принял его молчание за согласие, хотя предчувствовал отказ.
«Ну ладно, – думаю, – утро вечера мудренее».
Проснулся я от того, что кто-то мягко, но с силой толкнул меня в бок. Открыв глаза и, оглядевшись, в предрассветном просветлении, никого не увидел. Олег спал неподвижно, лицом к стене. От некоторой оторопи я спешно включил фонарик и посмотрел на циферблат, часы показывали без одной минуты четыре. Вот это да!
Небо на востоке светлело бледной голубизной. Через минуту мой будильник зазвенел и я, подойдя к партнёру, тронул его за плечо:
– Пора, Олег, пошли на автобус, время не ждёт.
Он не откликнулся и не двинулся. Я ещё раз прикоснулся к его плечу:
– Олег, ты со мной?!
Он нервно дёрнул плечом и буркнул, не повернувшись:
– Нет!
Я выложил на стол остаток своих продуктов, которых хватало бы на сутки лишь одному человеку. С собой мне уже не имело смысла брать ничего из походного провианта. Через пять часов я буду уже в цивилизации. Олегу при этом я сказал:
– На столе все оставшиеся продукты. Пока…
Заканчивая укладку своего рюкзака, я вдруг услышал, как кто-то ходит за стеной дома…
Глянул в одно и во второе окно, но не увидел там никого. Подумалось: «Может, медведь?». Стало страшно выходить.
Набравшись мужества и включив налобный фонарик, я вышел из дома, пока без рюкзака. По-кошачьи ступая, обошёл вокруг избушки – никого. В округе тишина. Вернулся в дом, чтобы одеть рюкзак, и… снова шаги, мягкие и размеренные. Ничего не понимая, стал прислушиваться, отбросив интерпретацию. И только так догадался – мыши или другие грызуны двигаются под половицами. Вот ведь какая штука – ассоциативное мышление. Страх мой ослаб, но до конца не прошёл. Сам себе удивляюсь – что это со мной? На улице светает, всё уже видно, на пару десятков метров точно.
Надел на голову фонарь, но не для того чтобы лучше видеть, а чтобы выглядеть грозным при встрече с большим зверем. Или интуиция, или разыгравшаяся фантазия шептала, что на тропе встречу медведя. И не одного, а медведицу с медвежатами, и даже знаю где. Примерно в километре от домика, впереди, по тропе, пересекая её, со склона течёт ручей. И в этом месте, я был уверен, они придут на водопой, в момент моего приближения.
Готовый к такой встрече, взвалив на спину рюкзак, я отважно вышел опасности навстречу. Шёл, специально громко топая тяжёлыми вибрамами о каменистый грунт, чтобы загодя спугнуть осторожную мать. Дойдя до означенного ручья и не обнаружив там никого, облегчённо выдохнул. Стало уже совсем светло, и вся природа замерла в ожидании восхода солнца. Я весело ускорил шаг, свыкшись с болью в сбитых щиколотках. А вскоре, когда уже взошло солнышко из-за восточного гребня, я вдруг опомнился, что на голове горит включённый фонарик. Вот умора! И я вслух рассмеялся над собой и своими страхами.
А может, своим топотом я и впрямь предупредил опасную встречу? И мать быстро увела медвежат прочь от тропы. Мои чувства были очень сильны… Через час оказалось, что я рано развеселился…
Быстро, полубегом, спустившись к мосту через Чую и слёту проскочив его, я стал подниматься на последний в этом распадке подъём, скальный прижим над излучиной реки. Когда достиг наивысшей его точки, решил сделать первый привал. Дальше – лишь спуск к трассе. Не снимая «приросший» к спине рюкзак, я присел на небольшой скальный выступ и захотел попрощаться с полюбившимся ущельем.
С этой, последней, точки обзора видны и пенящиеся потоки водных артерий встретившихся рек, и самоё низовье ущелья. Едва я развернулся вполоборота, чтобы последний раз в этом году глянуть на красоту божьего творения (когда-то ещё представится возможность следующего посещения этих мест?), как обомлел от ужаса.
Несмотря на то, что солнце уже освещало окрестность и слепило мне глаза, а всё вокруг оставалось безмятежно прежним, на меня сердито взирал в упор мужской лик с огромными пугающими глазами. Его лицо занимало огромную часть неба над ущельем, не закрывая ни солнца, ни горных склонов. Оно было одновременно и реальным и прозрачным. Лик был дымчато-бурого цвета с размытыми чертами и не вписывался в ландшафт, был параллелен ему. Мне мгновенно стало понятно, что он здесь хозяин, чем-то рассерженный на меня. Лик бессловесно «прорычал» мне в лицо:
– Пошёл вон!
Это были не звуки, а смысл его мимики, словесно отражённый у меня в голове. Всё произошло в доли секунды. Я мгновенно подскочил, как ужаленный, волосы на всём моём теле встали дыбом, я физически это почувствовал под одеждой и под банданой. В прямом смысле: с подскоком оторвавшись от тверди, как горный козёл, бегом и прыжками рванул со скал вниз, в направлении Чуйского тракта, уже без оглядки. Волосы не собирались опускаться в привычное положение и я, как ощетинившийся зверь, бежал, будто преследуемый хищником.
Не оборачиваясь и не останавливаясь для передышки, я с предельной, в той ситуации, скоростью полубега домчался до шоссе. Теперь уже, быстрым шагом по асфальту, пошёл в сторону посёлка. Время поджимало, вероятно, слишком мало я его отвёл на этот переход, надо было ещё раньше просыпаться.
Так вот что подсказывала мне интуиция, вот чем обоснованы были утренние страхи. Не встречу со зверем, вероятно, чувствовало всё моё «нутро»…
Мне повезло: мотоциклист на Урале с коляской остановился на мой призыв и подвёз меня на большом отрезке дороги. Но пути наши скоро разошлись, и мне осталось дойти до места около получаса.
Наконец, я остановился на центральной площади посёлка, где производит посадку пассажиров проезжающий транзитным рейсом автобус. До его прибытия оставалось около четверти часа. Посредине площади стояла колонка водопровода. Не снимая рюкзака, оперевшись на её рычаг открытия водного напора, я утолил жажду прямо из крана. Людей на улице не было, хоть время и подходило к девяти утра. Тем и отличается рабочий посёлок от деревни. В деревне в это время уже давно кипит жизнь. Я подумал, что и магазины здесь ещё не открылись и даже не попытался подойти к ближнему, да и аппетита после такого «марафона» быть ещё не могло. По всей вероятности, то был воскресный день. В походах обычно не всегда помнится даже число месяца, не то, что день недели.
Автобус прибыл из соседнего райцентра по расписанию, около девяти часов. Сидячие места были все заняты, стоя тоже ехали с десяток пассажиров, почти все были представителями местных племён. Я кое-как притулил на полу салона ПАЗ-ика свой рюкзак среди других поклаж и кошелей. И до самого Горно-Алтайска, часов семь, качался на обеих руках, держась за верхние горизонтальные перила. Но мысли, тем не менее, уносили меня подальше от этой суровой действительности.
Прав же был тот молодой алтаец, что подсел ко мне тогда в автобусе. Чего мятежной душе не сидится дома, с семьёй. Сначала – побег от надоевшей повседневности в горы за романтизмом, а на самом деле – от себя самого, быть может. А ещё за гордыней «покорения» вершин. Но это не мы покоряем, а вершины нас покоряют. Разумные альпинисты никогда, на самом деле, не называют себя покорителями, а только – восходителями. Но всё равно идут в горы для самоутверждения и престижа. А, встретившись со своим истинным «я», один на один, в экстремальных условиях, бегут от истины, чтобы спрятаться от неё за делами, за домочадцами, за друзьями, перед которыми можно ещё и козырнуть, в индульгировании. Вот и я, получив с лихвой все ощущения восхождения за пять дней, уже насытился и, сверкая пятками – домой.
Лишь в посёлке Усть-Сема, где Чуйский тракт через мост пересекает реку Катунь, во второй половине дня, водитель автобуса остановился на обед у общественной столовой, как водится. Многие пассажиры, включая и меня, зашли в неё для трапезы.
В столовой было полно народу, обедали транзитёры и с других рейсов. За столиком напротив трапезничала группа интуристов. Один из них выделялся богатырским телосложением, ростом, осанкой и независимым прямым взглядом. Светловолосый и сероглазый, он был очень похож на германца. Высокомерно и небрежно вынимая пальцами из кусков белого хлеба мякиш, он ел только его, и ничего кроме. Оживлённо беседуя со своими спутниками и не обращая внимания на окружающих, этот джентльмен откладывал в сторону остающиеся корочки, и таким образом составил на столе целую горку квадратных хлебных рамок. Картина говорила сама за себя: так европейцы и относятся к россиянам – высокомерно и брезгливо. Просто многие внешне это скрывают, но не все.
В Горно-Алтайске мне посчастливилось, на удивление, быстро пересесть на автобус до Бийска. А там я застал уже пустые перроны. Все автобусные и железнодорожные рейсы на этот день разъехались. Я зашёл в здание железнодорожного вокзала, поднялся на второй этаж, в зал ожидания, готовясь провести в нём ночь. А там уже расположилась на ночлег группа молодых туристов-водников из Барнаула, с огромными кулями надувных плотов. Они тоже возвращались из похода домой. И я присоединился к их оживлённой компании. Среди них оказался один американец, молодой парень не старше двадцати пяти лет.
Барнаульцы суетились со своим багажом, а он сидел, ничем не занятый. Я подумал, что американец был их клиентом. Мне захотелось с ним пообщаться, он живо отозвался навстречу. Видя наши с ним языковые затруднения, один из барнаульцев стал переводить, не очень охотно, правда. Разговор начался очень живо. Среди разных тем, я спросил у американца о том, как он относится к религиозному миссионерству. Он чуть призадумался, испытующе глянул мне в глаза и ответил, что отрицательно. Видимо, разглядел в моём взгляде ожидаемый вариант ответа, подумал я.
Но не успели мы разговориться, а тем более расположиться на ночлег, как прибежал их товарищ, и сообщил, что нашёл попутный рейс частного, видимо, автобуса, который тот час увезёт их в Барнаул. Заплатив свою долю за проезд, я, не задумываясь, присоединился к ним. Старый ПАЗ вёз нас на пределе своих возможностей, бренча всеми своими деталями. На пустой ночной дороге он нас, полусонных, бросал из стороны в сторону и подбрасывал с сидений. Ни спать, ни разговаривать не было возможности.
В Барнауле, на железнодорожном вокзале, мы с ребятами разошлись в разные стороны. Прощаясь с американцем, я заметил по его глазам, что он был не прочь продолжить общение со мной. Но мы даже не обменялись контактными номерами. Было около трёх часов ночи, и мы были заторможенными, от нелёгкой дороги на «перекладных». Барнаульцы исчезли со скоростью НЛО, а я машинально побрёл на перрон поездов. А там, на посадке, стоял поезд, идущий в мой город. Это было чудо! Так вот почему ещё меня торопил, ко всему прочему, Дух места! Дорога лежала «скатертью» к моим ногам.
А, завалившись домой, я понял, что меня торопило из похода. Моя тогдашняя жена все дни моего отсутствия была в лихорадке. Пищу в рот, а та обратно. С ней, по счастью, была её сестра, поэтому за нашей семимесячной дочкой было кому ухаживать. С моим возвращением все симптомы у жены исчезли, как рукой сняло. И они обе были этому очень удивлены. А мне подумалось, что душа жены, помимо её сознания, знала или чувствовала опасности нашего похода, мучилась этим и, может статься, пыталась выручить меня… А тот Дух был сердит на меня и за то, что оставил семью ради этой авантюры, и за то, что не послушал предупреждения той ночью на мху…
Через несколько дней, навестив своего приятеля и альпиниста Стаса, который в своё время тренировал Олега, я встретил у него дома ещё одного его ученика – Кирилла. Между разных тем разговора я рассказал им о нашем с Олегом походе.
– Да, Олежка уже всем знакомым пожаловался, что ты его бросил одного в горах, – известил меня Стас со смехом. Он же тоже с нами тогда обслуживал немцев и знал, что тот домик, где я оставил Олега, – то по сути «дача» перед выходом в цивилизацию.
– Детский сад, а ты в нём нянькой был. Надо было хоть с нами посоветоваться относительно компании с Олегом, – тоже со смехом вторил ему Кирилл.
– А мне говорили, что Олег перворазрядник и я понадеялся… – заметил я.
– Не смеши мою бабушку, ну какой он перворазрядник? Его на все маршруты таскали в «связке» старшие товарищи. К тому же, он же стукнутый, с балкона в детстве падал. Вот, по привычке, тебя и хотел развести – на сотрясение… – добавил красок к картине Кирилл.
P.S. С Олегом и со Светой я более не встречался. Жизнь нас не сводила. А искать встречи было не зачем. Общие знакомые через много лет рассказали мне, что они эмигрировали… в другое полушарие. Значит, дела у них пошли в гору. Через десять лет я все-таки прошёл не пройденный с Олегом маршрут с другой группой, будучи уже руководителем. Но это совсем другая история.
Белуха
«…С утра подъём, с утра
И до вершины бой,
Отыщешь ты в горах
Победу над собой…»
Юрий Визбор
Глава первая. Белая ворона
Тем же летом, в один из выходных, я посетил компанию любителей бардовской песни. Мы сидели у костра, в лесу за городом. Полтора десятка человек, некоторые из них – со своими гитарами, расположились палаточным лагерем на берегу озера. Ребята по очереди, под свой аккомпанемент, исполняли кто свои, а кто чужие песни. В этом ближнем круге, некоторые из них, презентовали свои свежие произведения впервые и жаждали оценки своих сочинений. А часть компании являлась лишь слушателями, к коим относился и я.
Вечерело, зажигались первые звёзды. Возбуждённость лиц молодых ребят усиливали огненные отблески языков костра. Отсутствие всякого спиртного способствовало философской атмосфере разговора творчески настроенных личностей. Кроме песенных тем обсуждались и разные другие вопросы бытия.
Не все присутствующие были мне знакомы, видимо компания постепенно расширялась и пополнялась. Одна молодая девушка, весь вечер изучающе поглядывавшая на меня, уже в сумерках решилась-таки подсесть:
– Андрей, можно вас так называть? Мне порекомендовал обратиться к вам Эльдар Галимов, – вполголоса и заговорщически начала она без излишней паузы.
– Да, пожалуйста, если от Эльдара, то я к вашим услугам полностью, – с небольшой долей иронии и одновременно с готовностью отвечать, охотно отозвался я.
– Меня зовут Катя. Эльдар мне порекомендовал вас, как альпиниста и горного гида, как того, кого я ищу. Он сказал, что на вас можно положиться во всём…
– Очень приятно. Ну, если он так сказал, то, вероятно, можно, – продолжал я с той же иронией и, тем не менее, с интересом, – Продолжайте…
– Я хочу сходить на Белуху. Вы мне поможете в этом?
– Ух ты, как интересно. А какой-нибудь опыт походов в горах у вас есть? – спросил я, сразу по постановке её вопроса, догадавшись об отсутствии оного.
– Да я не ходила ещё… Только по равнине…
– Не ходила, и сразу – на Белуху. Так не получится. Нужен определённый класс обучения, физическая подготовка и хоть какой-нибудь опыт.
– Белуха? Я слышу, что вы про поход на Белуху говорите. Я тоже хочу. Можно мне с вами? – вдруг включилась в наш разговор сидевшая рядом Лариса.
– Ну что вы, рано ещё говорить о походе. Нынешний сезон я для себя закрыл, а про будущий год ещё и не решил ничего, – попытался я отвести совсем в сторону эту тему.
– Но вы, на будущее, имейте в виду и меня, – захотела, видимо, закрепить себя, в ещё не существующей компании, Лариса.
– И меня… – вторил выглянувший из-за её плеча Алексей.
– Поживём, увидим… – уклонился я.
– Так вы мне поможете? Подготовите меня и сводите на Белуху? – продолжила настойчиво осаждать меня Катя.
– Давайте, для начала перейдём на «ты», если хотите тренироваться. И потом, почему именно на Белуху? – начал сдаваться я. Когда-то ведь мне понравилось тренировать людей, правда, в другом виде спорта. Был маленький опыт.
Сам я давно мечтал сделать восхождение на Белуху. Ещё когда два года назад мы обслуживали немцев, то приглашали их приехать в следующий раз с той же целью – сходить под Белуху, обещая организовать им наилучшее сопровождение. Они с восторгами соглашались, отзываясь об этой горе, как о священной. Тогда же я и задумал, сам для себя, что на эту, наивысшую точку Алтая когда-нибудь поднимусь обязательно. Но в то время я ещё не был свободен в планах горных походов, как сейчас. И теперь со всех сторон вдруг такой интерес, чуть не опережающий мой.
Конечно же, это сказочное наименование – Белуха, центр страны Беловодье, тянуло к себе прежде других мест. Воспетая Николаем Рерихом, священная для местных племён, коим, по их заповедям, даже смотреть на неё нельзя, во всех компаниях всегда упоминается с придыханием.
– Я согласна на «ты». На Белуху…, потому, что самая высокая, ещё и священная. Да я других на Алтае и не знаю… Белуха – это магия… – пояснила Катя.
– А что есть, по-твоему – магия? – пустился я в рассуждения нарочито, чтобы испытать юную особу на прочность её намерения: – «Может, отстанет? Зачем мне возиться с новичком?».
– Ну, как что, это особая энергетика, магнетизм, замануха, грубо говоря, – видимо решила этим объяснением коротко отделаться Катерина для перехода к практическому вопросу.
«Нет, нет, не отделаешься от испытания», – подумал я и продолжил тему:
– Магия – это энергия, способная создавать и трансформировать материю, которая вторична. Люди обычно сводят это понятие к узким явлениям типа колдовства и разных аномалий. Наш глаз видит только материальную составляющую, но все объекты – это, прежде всего, энергетические структуры. И я, и ты в том числе. Самое близкое подтверждение этому – это именно магнетизм, магнитное поле каждого объекта. У каждого объекта и субъекта энергетическое поле разной силы и отличается по свойствам. Поэтому очень сильные поля, как у Белухи, к примеру, людям свойственно обожествлять, различными группами, как-то по-своему. Вот, вкратце, что такое магия.
– Не поспоришь с таким объяснением, конечно. Да, теперь я вижу, что не зря Эльдар мне вас…, тебя порекомендовал.
– Обойдёмся без оваций, – с иронией, не скрывая соответствующей улыбки, продолжил я попытку уклониться от её запроса. Но я, видимо, не на ту нарвался.
– Так вы… ты поможешь мне? – уже не очень уверенно, но, тем не менее, настойчиво, глядя в землю перед собой, вновь повторила свой вопрос Катя.
– Попробую, посмотрю на твои способности.
– С чего начнём?! – сразу взбодрилась, с усилием сдерживая свой порыв, моя первая в этом деле потенциальная ученица.
Среднего роста, круглолицая и зеленоглазая шатенка, с открытым решительным взглядом, она вызывала во мне интуитивное доверие. Её настойчивость подкупала и подчёркивала сильную личность. А тот факт, что Катя была не в моём вкусе, успокаивал меня, что наши с ней отношения не перейдут границ делового партнёрства. И я, более не мучая девушку отвлечёнными испытаниями, без лишней паузы начал наставления:
– Для начала вот что – хотя бы раз в неделю назначаю тебе самостоятельный лыжный кросс на всю зиму, начиная с пятикилометровой дистанции и постепенным её увеличением к весне до тридцати пяти, даже, желательно, до сорока. А пошаговое увеличение – на твоё усмотрение и физическую возможность, но с отчётом мне. Буду доверять на слово. Начиная с дистанции в двадцать пять километров, иногда, смогу, может быть, присоединяться. А ещё проведу для тебя скальную и ледовую тренировки, на пробу, а дальше посмотрим… К тому же, свожу тебя зимой в поход на лыжах, с ночёвкой в палатке на снегу. Ты ведь хочешь на саму Белуху, а там неизбежны ночёвки на самом верху, где снег лежит круглый год поверх ледника и по ночам – мороз.
– Я готова ко всему этому. Когда начнём тренировки?
– Да вот, в ближайшее воскресенье, в одиннадцать утра встречаемся на скалодроме. Знаешь где он?
– Да, знаю, договорились.
– Так почему всё-таки выбран я, или не выбирали вы с Эльдаром?
– Не так. Эльдар назвал только тебя. До этого я сама пыталась найти тренера, не получалось. Одни временно не занимаются ни с кем, другие работают с подростками. Я в школе устаю от детей, а ещё и тренироваться с ними… Это не по мне.
– А кем ты в школе?
– Учу русскому и литературе в средних классах.
– Достойно, да ещё с таким контингентом! Знаю, моя мама многие годы проработала именно с такими детьми, обучая английскому. Тяжёлый труд… Так…, а теперь к делу. У тебя, я догадываюсь, снаряжения альпинистского нет. Этого я предоставить тебе не смогу. Придётся самой что-то просить у кого-то в прокат, либо покупать… Помочь смогу лишь в выборе при покупке. Времени много впереди, не факт, что на следующий год получится сходить. Такие времена сейчас, что с работой у меня нет стабильности.
– А чем вы… ты занят в настоящем?
– О, об этом лучше не будем. Если коротко, то в коммерции. Это настолько не моё, что с трудом приходится преодолевать свою натуру. Ну и заработок, соответственно, скромен. Теперь о деле, не отвлекаясь более на личное. О самом главном, вот что должен сказать. Будет ли у нас группа или мы пойдём с тобой вдвоём, не суть важно, а важно понимать, что в дикой и пересечённой местности мы будем в автономке. Опасности будут кругом и помощи ждать не откуда. Отсюда следует, что руководитель, всецело отвечая за безопасность, используя знания и опыт, есть первый после Бога, как на подводной лодке, если известно. Поэтому от участников требуется неукоснительно выполнять все инструкции и указания его в добровольном и сознательном порядке.
– С этим не поспоришь, вполне даже логично. Но всё-таки, как-то по-армейски…
– Если участник похода сознателен, то походная жизнь совсем не выглядит армейским порядком. Вот скажи, к примеру, как ты думаешь, что всё-таки самое главное в походе?
Катя на этот мой вопрос выразила настолько яркое изумление, что в её взгляде читалось – за дуру меня принимаешь? И, едва сдерживаясь, нехотя выдавила из себя:
– Ты же это только что объяснил…
– Я спросил, что ещё важнее всего моего объяснения.
– Ну, я уже теперь не знаю… Может быть – питание?
– О питании мы ещё не обговорили, это да. Ладно, не буду тебя мучать. Самое наиглавнейшее в любом походе – это чтобы каждый участник получил от него удовольствие. А все остальные аспекты – есть лишь составляющие главного. Для этого от каждого участника требуется уважение и даже чуткость к другим, потому что все напрямую зависят друг от друга в непростых условиях.
– Да уж, гениальность всегда проста.
За осень и зиму я провёл тренировки с Катей и на скалодроме, и на настоящих скалах за городом, и на льду искусственного водопада, где тренируются все городские альпинисты. Всё она выдержала, хотя на скалах была слаба. Это и понятно, здесь нужен большой энтузиазм и годы тренировок. К тому же, скалолазные навыки в походе на Белуху не требуются, согласно ландшафту. Поэтому для Кати важна преимущественно ледовая тренировка, а на ней-то, как раз, девочка и проявила себя лучше всего. Подробную карту маршрута и инструктаж я уже получил от Стаса, упомянутого мною ранее. Но описаний маршрутов восхождений, необходимых для подбора соответствующего снаряжения, у меня не было. И, тем не менее, я уже готов был идти на восхождение самостоятельно. Но для этого мне требовался опытный напарник для «связки», а на моём «горизонте» такового пока не было. Я сам как раз предпочитаю больше ледовые маршруты, то есть комбинированные, где преимущество имеются лёд и снег, а скалы встречаются фрагментами. Лазанье по голым скалам меня не очень прельщает.
Катались мы с Катей и на беговых лыжах, несколько раз за зиму, на длинные дистанции. Она и в этом показала неплохую выносливость. Как и обещал, провёл я и ночёвку в палатке на снегу, проэкзаменовав её и на эту выдержку. Для этого снабдил её своим первым пуховым спальником. Кругом был дикий зимний лес со всевозможными вытекающими сюрпризами. Костёр я не разводил, эмитируя ночёвку на леднике. Ужин мы готовили на моём маленьком примусе, и это тоже был экзамен для Кати, готовила-то она. А я убедился, что и в кухне на неё можно будет положиться. Там же предупредил её и о следующем:
– Катя, в горных походах категорийного содержания для меня всегда исключён интим в любых проявлениях, потому, что я весь выкладываюсь в работе и ответственности, не растрачиваясь ни на что другое. Такая у меня узкая концентрация, в любой деятельности. Некоторые девушки, в разных экспедициях, обижались на меня за это, но меня это не трогало. Поэтому я обязан заранее тебя об этом предупредить. Более, чем за твою безопасность, я не собираюсь нести ответственности.
– Очень хорошо, что ты и этот вопрос осветил очень чётко и аргументированно. Совершенно искренне – спасибо за это. Твоё предупреждение меня успокоило, правда, правда.
– Ну, вот и славно. Кажется обо всём, о главном, мы уже договорились. Теперь вот ещё что. Сначала я сам схожу на гору, и только потом, всё разведав и выбрав самый простой маршрут, смогу сводить и тебя с кем-нибудь, или одну. Произойти это может не раньше, чем ещё через год. К этому времени ты и выносливости наберёшь, бегая следующей зимой на лыжах, и соберёшь необходимое личное снаряжение. Палатка и всё групповое снаряжение – это уже моя ответственность. Вот так и договоримся. Придётся тебе ещё потерпеть с исполнением заветного желания.
– Потерплю, конечно, и буду тебя ждать из разведки с положительным результатом. Ты когда пойдешь?
– В начале августа под Белухой – наилучшие погодные условия, говорят имеющие опыт походники. Постараюсь не пропустить этот сезон. Ещё вот что, если мы с тобой когда-нибудь пойдём вдвоём, то в походных условиях готовить еду будешь исключительно ты. А я и дрова, и костёр, да и всё остальное беру на себя. Так обычно делается разделение обязанностей на бивуаке. А если набирается группа, то все участники, кроме руководителя, готовят трапезу по очереди, согласно графику дежурства.
– С этим тоже понятно.
Так я начал для себя готовить первого партнёра на последующие походы, чтобы с ней, или ещё с кем-нибудь, в дальнейшем, водить людей на коммерческой уже основе, так зарабатывая на жизнь. Лучшей работы для себя я не видел и надежды на её осуществление были очень большие.
Шёл четвёртый год безобразных и «весёлых» девяностых. «Весело» было от сверхскоростной динамики событий и изменений, как в стране, так и в личном, в сравнении с застоем жизни в предыдущие десятилетия… За два альпинистских сезона очень полюбились мне Алтайские горы. И интерес к другим горным областям у меня, на время, немного поутих. Интерес Катерины и других соискателей закрепил моё намерение совершить восхождение на Белуху именно в этом году.
Лето было уже в разгаре, но искать напарника в «связку» с собой среди бывших одноклубников по альпинизму совсем не хотелось. Они все мне надоели ещё там, за чертой прошедшей эпохи. Как и в прошлом году, помог «господин» случай. Неожиданно посетивший меня давний приятель, узнав о моём намерении, предложил отрекомендовать меня в состав спортивной группы горных туристов, собравшейся как раз этим летом на Белуху. Трудно было не посчитать такое совпадение судьбоносным. Как год назад, так и в этот, я даже не приложил ни грамма усилия для поиска компании на интересующий меня маршрут. И невозможно было не обрадоваться такому предложению, будто поданному «на блюдечке» «горячему блюду». Значит, моей судьбе требовалось участие и в той, и в этой компаниях. И кто может знать – кому сие нужнее: мне или компании… Вопрос этот для человека вряд ли может быть прояснённым…
Рекомендация сработала и, едва познакомившись с руководителем этой группы и их завжором, собрав рекомендованное ими снаряжение и свою долю продуктов, я присоединился к ним. Знакомство с остальными тремя членами их команды происходило уже в поезде.
Руководителя группы, Николая, впечатлил документ, говорящий о моём альпинистском опыте. А необходимая при знакомстве обаятельность понравилась ему и завжору Любе. Первая и единственная, до отъезда, встреча с ними состоялась у Любы в городской квартире. Говорили кратко, лишь по делу предстоящего похода.
Мы втроём сразу нашли общий язык, и стали по-приятельски общаться, с радостным предвкушением праздника похода, который ждали целый год. Николай при первой же встрече показал себя неутомимым говоруном. Он не давал и слова вставить ни мне, ни Любе, позволяя лишь отвечать на свои вопросы в мой адрес. При всём, подчеркнул главное:
– Андрей, у нас все походы длинные, поэтому очень важна оптимизация набора вещей для облегчения веса рюкзаков. Так что прими, пожалуйста, наши условия. Палатка у нас одна на всех, достаточно вместительная, а спальники – по две штуки на троих, так что их всего четыре. Они, как одеяла, и состёгиваются два в один. Так вот, мы с Любой берём тебя третьим в спаренный спальник. Будет тепло и экономно. А свой – оставь дома. Теперь о снаряжении – бери только личное, групповое у нас на всех есть. И не бери обувной подмены, только вибрамы на ноги. По продуктам тебе даст поручение Люба…
В свой рюкзак я получил от Николая пятидесятиметровую основную верёвку, примус, запас бензина к нему в двух пластиковых бутылках, ну и ещё кое-что из группового снаряжения. А Люба поручила мне купить кое-каких продуктов, но не для моего рюкзака. Чтобы продукты не пропахли бензином, в мой куль ни один не паковался.
Остальные же участники группы отнеслись ко мне не радушно – холодно и настороженно. Это и понятно, любой слаженный коллектив так принимает неожиданно появившегося нового члена. Каждый знает в деле все стороны другого, тем более, в сложных условиях походной жизни. А что ждать от незнакомца?
Весь маршрут был насыщенный: шесть высокогорных ледниковых перевалов второй и третьей категорий сложности вокруг Белухи с восхождением на её вершину. Поход занимал две недели. Группа состояла из четырёх мужчин, включая меня, и двух женщин.
Мне импонировал педантизм подготовки годами схоженной группы. Завжор Люба, к примеру, ещё зимой составляла меню на каждый приём пищи, на каждый день похода. К тому же, большинство продуктов было ещё до выхода расфасовано на каждое блюдо отдельно. Другая девушка, Милица, отвечала за медицинскую аптечку и по-военному звалась санинструктором. Групповое снаряжение и продукты строго распределялись по рюкзакам участников равным весом: мужчинам – большим, а женщинам, соответственно, меньшим.
В альпинистских экспедициях делается заброска всего груза сначала в базовый лагерь, а затем в верхний… И из верхнего лагеря осуществляются выходы на восхождения налегке, с необходимым снаряжением и расчётным количеством продуктов или перекуса. А горные туристы на маршруте всё несут до конца похода. И чем длиннее поход, тем, соответственно, тяжелее ноша, да ещё и время ограничено. Так в данном случае и предстояло.
Покинули город мы в середине августа, как запланировали ещё до моего появления. Удачно пересаживаясь с одного вида общественного транспорта на другой, на последнем мы перевалили через Семинский и Ябоганский перевалы и остановились на ночёвку в райцентре Усть-Кан. В те времена рейсовые автобусы из Горно-Алтайска ходили этой длинной дорогой, с ночёвкой в гостинице данного посёлка. Наш руководитель, Николай, договорился с водителем ПАЗа, чтобы он вывез нас за жилую черту, на берег реки Чарыш, видимо, ради экономии денежных средств на гостиницу. Водитель сам присоединился к нашему «пикнику» и спал в автобусе, рядом с нашей палаткой. Палатка была само-шитая, из тонкого капрона, и уже изрядно поношенная в походах. Её вместительность позволяла не очень тесно разместиться как раз шестерым. От дождя, в ненастье, вместо тента, палатка накрывалась большим тонким куском полиэтилена.
На этой первой, почти походной, ночёвке я отметил невесёлую атмосферу в группе. Руководитель общался лишь с водителем, с другими членами группы не разговаривал. Ещё в поезде, продолжая знакомиться со мной, Николай поинтересовался:
– Андрей, а где ты и кем работаешь?
– В коммерции пришлось в нынешних условиях, – не задумываясь, признался я, тут же почувствовав опрометчивость своего откровения.
Моментально дружелюбное выражение лица Николая сменилось на едва скрытое недовольство и он, опустив взгляд, пониженным тоном и нехотя открылся:
– А я простой электрик.
– Здорово, что кто-то в наше время ещё остаётся верным своей профессии, – дипломатично, но в тоже время искренне решил я поддержать его уверенность в себе.
Но Николая моя реплика не впечатлила и он, отрешившись от своего, перевёл внимание на партнёра:
– А вот Люба преподаёт в ВУЗе.
– Значит у вас научная степень, наверное? – обратился я тут же к стоящей рядом Любе.
– Есть. Кандидат физико-математических наук, преподаю математику. Ничего особенного… И потом, Андрей, мы же на «ты» ещё в городе перешли, – скромно понизив голос, подтвердила она, моментально переведя внимание обратно на руководителя группы:
– Зато Николай рыбу ловит везде, даже где другим не удаётся. И в практической сфере может буквально всё, о чём не попросишь.
– Ладно, вот и достаточно для знакомства пока…– захотел закончить разговор Николай, подозреваю, что не из скромности одной.
Более, по своей инициативе, он не обращался ко мне и в дальнейшем. А мне, как рядовому, да ещё и новенькому члену группы, по своему обыкновению, совершенно не хотелось лезть с разговорами ни к нему, ни, тем более, к остальным, хмурым, ещё не вполне знакомым участникам.
Руководитель продолжал разговор с водителем автобуса на банальные бытовые темы, расположившись у огня. Люба с Милицей готовили ужин на костре. Каждый молча делал должное, при гармоничном разделении труда. Видя их слаженность, я присоединился к заготовке дров. Как и в транспорте, каждый был замкнут в себе. И мои предчувствия на поход как-то сразу стали пасмурными.
Походная одежда всех моих спутников была скромной, само-шитой, уже хорошо поношенной, с едва заметной аккуратной починкой в некоторых местах. Я понял, что попал в советский коллектив, члены которого ещё не адаптировались в новых временах, а скорее, не захотели даже. И новые условия жизни их, похоже, подавляли. Наверное, узнав мой род занятий, они автоматически и на меня перенесли недовольство переменами в стране. Исключением была Люба. Она кротко, видимо в соответствии со своей натурой, принимала все новые обстоятельства вне зависимости от изменений и продолжала молча и украдкой, едва заметно улыбаться мне. В её добродушных взглядах я читал мягкий призыв к моему смирению с окружением. Зажатый в «тиски» жёсткого консерватизма группы, я, конечно, легко примирился с обстоятельством, успокаивая себя тем, что их предвзятость постепенно рассосётся за совместной работой. К тому же моя цель эти нелепости оправдывала. А цель – восхождение на Белуху.
На следующий день, при приближении к конечному на трассе, посёлку Тюнгур, стоящая в предыдущие дни ясная погода стала быстро меняться. И на пеший маршрут из этого посёлка в горы мы вышли навстречу дождливой погоде. За жилой чертой, на траверзе турбазы «Высотник», нас поджидала женщина трудно определяемого возраста в походной одежде и с рюкзаком. Она, едва поздоровавшись со всеми, обратилась к Николаю с просящим выражением на лице:
– Возьмите меня на маршрут, пожалуйста. Я только что вышла из похода с другой группой, но мне того маршрута мало.
– Люба, ты не против взять Люду? – обратился Николай к завжору, имея, конечно, в виду всем понятный аспект: хватит ли продуктов с учётом дополнительного участника.
– Разберёмся…– ответила та, и о чём-то стала шептаться с Людой. Через минуту она кивнула Николаю со словами: – у неё есть кое-какие продукты, пусть присоединяется, если ты не против.
А я сразу понял по характеру их общения (что называется, накоротке), что они все из одного турклуба.
Женщина, уже на ходу встроившись в нашу «цепочку», обратилась ко мне:
– А вы кто? Я вас не знаю…
– Такой же присоединившийся, как и вы. А вы кем приходитесь? Я вижу, что и вы всех, и вас все знают.
– Я – Люда, мы с вашей группой из одного турклуба. Вот, ждала тут вас два дня. А вы где примкнули к группе? Как вас зовут?
– Андрей, я ещё в городе примкнул. И давайте сразу на «ты».
– Хорошо, Андрей. А где и с кем ты раньше ходил?
– С альпинистами… на Тянь-Шане, на Памире.
– Здорово! Большой, наверное, опыт? Сколько гор покорил, сколько перевалов?
– Опыт скромный… Горы не покоряют, на них восходят. К вершинам надобно с уважением… На двенадцать вершин сходил, а перевалы даже не считал.
– Ух ты какой!
– Какой?
– Серьёзный такой!
Более разговор она не продолжала, заняв своё место в нашей веренице, стремящейся побыстрее выйти из поля зрения окон посёлка.
Вот так легко нас стало семеро. Видимо, вся группа хорошо знала Люду, тем более её ресурс выносливости. А я подумал, что сильна женщина, а по виду и не скажешь. Ниже среднего роста, щупленькая шатенка, с невесёлой печатью пожизненной одиночки на лице. Такие серые лица женщин, кричащие о безысходности их жизни и этим самым портящие свою природную красоту, поголовно встречались мною в православных храмах.
Преодолев, в полумраке потемневшего неба, лесистый и невысокий перевал Кузуяк, в начинающихся сумерках мы встали на ночь уже в низовьях ущелья Ак-Кем, спускающегося с северных склонов Белухи. Между гигантских берёз, на роскошной поляне, здесь всегда останавливаются на ночь группы, как спустившиеся, так и собиравшиеся отсюда в обратный путь, на вышеупомянутый перевал. Поэтому и костровище здесь «выросло» до метра в диаметре, если не больше. Небо заплакало мелкой моросью, завидя невесёлых новых гостей этого, освящённого человеческим отношением, места.
А дальше вверх по распадку крутые склоны покрыты густым хвойным лесом, преимущественно кедровым. Несущиеся с крутизны, бурлящие воды реки Ак-Кем (белая вода – с тюркского) имеют цвет грязного молока, отсюда и название (в том числе и страны – Беловодье). Высоченные кедры отсюда и до самых верховьев ущелья закрывают любой обзор.
Проглядывают только малые «кусочки» неба и реки. Но нам, под мелкими ситами дождя, на это смотреть было некогда. Мы скользили на ходу по раскисшей жирной грязи разбитой лошадьми тропы. В одном лишь месте, сквозь ветви, открывается маленькое окно на белоснежную Белуху, её северную, самую крутую и впечатляющую стену в более чем тысячу метров вертикали.
Двуглавый исполин, особенно вот так, сквозь зелень, поражает любого наблюдателя, кто впервые видит его через это окошко, своей сверкающей белизной, что белее белого. И ты стоишь, как заворожённый, обо всём забыв на несколько минут. Такого я ещё не видел нигде. По характеру ландшафта такие картины могут встречаться в Альпах, в Новой Зеландии и в Америке, то есть в средних широтах. Но Белуха вот так сразу открывается не всем, нам же посчастливилось. И открытость её от облаков в данный момент сулила нам хорошую погоду уже на следующий день, вселяя в сердца оптимизм.
Но пока, второй день, наши ноги постоянно скользили влево с тропы (вниз по склону) и не всегда можно было устоять. Идущий впереди меня, один из наших парней, поскользнувшись и не удержав равновесия в середине дня, упал вниз головой по склону. Его рюкзак усилил падение, увлекая по инерции на два с лишним метра от тропы вниз, в грязь. Здесь, видно, падали и до него, сильно расширив тропу, из-за возросшей крутизны склона в этом месте. Чтобы подняться на ноги, парню потребовалось сначала освободиться от рюкзака, ставшего в этом положении своеобразным якорем. И пока он возился так в грязи, весь его бок и бок рюкзака прибавили тяжести от налипшей грязи. И со стороны не было возможности ему помочь. Тут уж каждый сам себе помощник, иначе, помогая, и сам угодишь в такую ситуацию.
На ногах росли комья грязи, кратно увеличивая тяжесть килограммовых ботинок. Спасая от дождя рюкзак с вещами, свою голову и плечи, мы шли цепочкой, накрывшись кусками полиэтилена. Контрольное время не позволяло пережидать ненастье в палатке.
Я, по обыкновению своему, привычно выбрал место замыкающего в группе. Как и в другие годы, если моя роль не предусматривала лидерства, то предпочтительным для меня был «хвост». Обычно замыкающим ставят самого ответственного, не слабого участника, для поддержки отстающих и помощи ослабевшим или пострадавшим. Хотя в нашей спортивной группе слабых не должно было быть, но Люба (завжор) всё время, почему-то, отставала. Мне всегда нравилось поддерживать отстающих в прежние годы и на сей раз я не стал себе отказывать. Поддерживая её словом, шёл за ней вслед. Оказавшись интересной собеседницей, она активно поддерживала разговор. Мне даже не пришлось подбирать темы, интересующие нас обоих. Люба часто сама их легко инициировала. А я, учитывая её интеллектуальный уровень, предпочёл с ней говорить преимущественно о научно-популярной проблематике. Затрагивали мы и интересы к не пройденным нами маршрутам, не касались лишь личного. Я, ещё при знакомстве, разглядел, что все члены команды – одиночки и, что интересно, не похоже было, что кто либо из них хоть раз бывал в браке.
Используя сей удобный момент, я решил испытать очередного математика на тему представлений о мироустройстве, памятуя о том, как один знакомый учёный показал мне однажды математическую формулу Бога(???)…
– А скажи, Люба, как ты относишься к теории большого взрыва?
– Ну, как к версии, ведь всё имеет и начало, и конец.
– А Вселенная тоже, по твоему, имеет границы?
– Этого никто знать не может. А ты сам, как считаешь?
– Никакого изначального взрыва не было. Всё было всегда, а Вселенная безгранична.
– Это всё не доказуемо. Почему же ты так уверенно это утверждаешь? – возразила почти безразлично Люба.
– Я просто это знаю, мне не нужны доказательства. Вот пусть учёные докажут обратное. А то стала почти утвердительной сказка о большом взрыве, как начале начал. Это как с происхождением человека от обезьяны.
– Ну ты же чем-то обосновываешь это своё знание?
– Знания приходят не только из учебников. Есть просто интуитивные знания на уровне убеждения, может статься – из подсознания. Как, например, некоторые учёные делают открытия – по озарению.
– Они же после логически их доказывают.
– А аксиомы? Дело в том и состоит, что все знания делятся на познаваемые и непознаваемые. Так вторых кратно больше. А поскольку жизнь человека в физическом теле имеет начало и конец, то нам невозможно представить, что есть что-то бесконечное и безначальное. И наша ограниченность во времени естественно предопределяет и ограниченность сознания. Так что не всё можно познать и ещё меньше можно доказать.
– Что верно – то верно, – грустно подытожила Люба и после паузы спросила:
– А чем ты ещё увлекаешься, кроме альпинизма, Андрей?
– Антропологией.
– Изучаешь этносы?
– Скорее интересуюсь некоторыми, но больше меня интересует человек, как он есть: характеры, нравы, верования, проявления индивидуальности и так далее. В общем – всё о человеке.
– А мы осенью, по традиции, ездим на сбор клюквы. Очень увлекательное путешествие, к тому же полезное. Хочу и тебя позвать. Поедешь с нами?
– Да я не любитель собирательства вообще, как и рыбалки тоже.
– Поехали! Ты не пожалеешь.
– Поживём, увидим, – ответил я уклончиво, про себя подумав, что это вряд ли…, хотя неплохо бы запастись на зиму.
На бивуаках разговоров не было. Каждый знал свои обязанности. Дежурный по кухне, к примеру, назначался на целый день: готовил на костре еду и затем чистил общие котелки после трапезы. Дежурили все по очереди, кроме руководителя. Он, почему-то, резко поменялся в настроении. В городе и в дороге оживлённо говорил со мной на темы походной жизни и альпинизма, а на маршруте вдруг замкнулся. Со своими постоянными спутниками и вовсе при мне не говорил ни о чём. «Может, у них так заведено в группе? – подумал я, – Как в армии, где начальник не фамильярничает с подчинёнными, выдерживая субординацию. А может, всё из-за меня, из-за моего присутствия, отчего уже не отделаться». Но я старался эти мысли отгонять от себя.
Заготовкой дров занимались в основном двое молодых парней, и я, с разной степенью усилий, в зависимости от условий мест стоянок. Завжор Люба выдавала продукты согласно меню и почти всегда помогала дежурному по кухне в приготовлении блюд. В свободное от обязанностей вечернее время каждый был занят, похоже, собой…
Утром третьего дня окончательно распогодилось, небо сало совершенно чистым. Руководитель поднял группу очень рано. Ему хотелось проскочить группой, незамеченными, мимо лагеря горных спасателей, потому что регистрация у них нашей группы им не предусматривалась. В прежние годы социализма был правильный и неукоснительный порядок и такое вряд ли удалось бы. А с девяносто первого многие стали ходить в горы по-анархистски. Я даже не стал с ним говорить об этом, сам так уже поступал, вольнодумски, не раз за эти годы. Это ещё и экономило наше драгоценное время, потому, что процедура регистрации связана обычно была с бюрократическими задержками, а время в прошедшую эпоху так не ценилось. Нашей группе было достаточно регистрации маршрута в своём городском горно-туристическом клубе.
Наскоро позавтракав, мы вышли из полосы густого леса на простор альпийских лугов, окружающих озеро Ак-Кем, образованное, как и в большинстве горных ущелий, природной плотиной древнего селя, в данном случае поросшего лишь густой и сочной травой. От красоты места глаза «разбежались» и фотографировали сердцем, потому что мы перешли на самый быстрый шаг.
Впереди высилась белоснежная стена Белухи, ослепив нас отражёнными лучами утреннего солнца. Справа круто поднимался западный склон, поросший низкорослым кедром. Слева, за шумным потоком реки Ак-Кем, вытекающей тягучей струёй «цементной» взвеси из озера, ширилась округлая долина Ярлу. В её середине, чудесным образом, природа, в лице растаявшего когда-то без остатка ледника, соорудила крутую пирожкообразную морену фиолетового цвета, состоящую из почти однородного мелкого камня. Она ярко контрастировала с окружающими серыми пиками скал и ярко-зелёными травяными склонами. По обеим сторонам этой морены вогнутыми полянами лежали луга с жёлто-зелёным мохо-травяным ковром, поросшим редким молодняком низкорослой лиственницы. Эта картина была поистине сказочно-колдовской и непреодолимо притягательной.
А прямо перед нами раскинулась широченная поляна сочной травы с раскидистыми кустами курильского чая. Меж этих кустов, высотой с малорослого человека, лежали уютные полянки, приглашая отдохнуть за полузакрытой живой изгородью. Но нам необходимо было всю эту притягательно располагающую красоту миновать со скоростью спортивного шага.
На пригорке дремлющего столетиями селя расположились дома метеостанции, сложенные из почерневших за десятилетия брёвен, а в нескольких сотнях метров дальше за ними, на берегу озера, стояли огромные стальные синие бочки, приспособленные под дома спас-отряда. Людей не было видно, видимо, ещё спали и метеорологи, и спасатели. Жизнь у них здесь совсем, естественно, неспешная. И нам удалось прошмыгнуть мимо тех и других, вроде бы, не замеченными…
Пройдя берегом узкого и длинного озера с мертвенно серой водой за полчаса, мы подошли к броду через «кипящий» поток той же реки, здесь впадающей в водоём. Зная заранее, что глубина брода ниже колена, мы, разувшись и сняв верхние штаны, смело и сходу вошли в воду, попарно подстраховывая друг друга. Сильный поток воды захлёстывал почти до трусов и удержаться на ногах стоило предельных усилий. А ступни «массировались» крупными донными и несущимися в потоке камнями. Каждую из женщин провели за руку, шагая по очереди, чтобы в любой момент на двоих, к примеру, приходилось три точки опоры, иначе вода грозилась забрать с собой жертву.
Брод был шириной полтора десятка метров и, выйдя из ледяной воды, я почувствовал благодарность от ног за освежение и массаж. Впервые за три предыдущих дня дороги и перехода я имел эту возможность. Мой искупавшийся «конь» со свежими силами теперь готов был идти хоть целый день.
За переправой перед нами встали гигантские «чемоданы» края морены, обозначившие максимальную длину языка ледника в какие-то давние времена. За их размерами в два человеческих роста ничего не просматривалось. Между камнями был еле заметен проход, которым пользовались, видимо, все туристы, набив на осевшей меж них глинистой плотной взвеси едва заметную тропку.
Углубившись в лабиринт этой древней морены, мы попали в каменный мешок. Нас окружил амфитеатр тёмно-серых глыб невероятных размеров, а за ними, справа и слева – стены скал, сжимающих это высохшее русло ушедшего ледника. Впереди – упирающаяся в зенит Белуха, как на картине, ограниченная рамкой боковых стен ущелья. Пройдя по петляющей тропке с полчаса, мы обнаружили в этом лабиринте очень уютную полянку и встали здесь на ночёвку. Следующий день был ответственным, предстояло дойти по этой морене до ледника и забраться на его верхнюю часть. Поэтому руководитель решил, что за остаток дня необходимо обсушиться после двухдневного перехода под дождём и отдохнуть.
Чудесно созданный природой, этот миниатюрный оазис с зелёной травкой, кустами и речушкой, прорезавшей его, был единственным местом среди неизмеримой каменной пустыни, тянущейся до ледника, где можно было нам разместиться с палаткой. Над этой площадкой нависала боковая морена, в глубинах которой журчал водопад речушки, вытекающей из смежного ущелья Кара-Оюк и резавшей «нашу» полянку. Поэтому под рукой была и вкуснейшая чистая вода, и дрова для костра. В камнях этой морены мы заложили «заброску» с провиантом и одной бутылью с бензином, оставив при себе запас на три дня. За эти дни у нас запланировано кольцо первого этапа маршрута, замыкающееся на этой же стоянке. Нам предстояло пройти по трём ледникам и через два перевала без отдыха. Это был интересный и одновременно адаптационный, к тому же тренировочный переход.
Солнышко здесь выглядывало лишь к полудню из-за вздыбленной над мореной горы и грело этот каменный мешок лишь полдня. В этот день я был дежурным по кухне. Едва сняв рюкзак, начал сразу готовить костёр.
Чтобы развести огонь с одной спички, я собираю сухие тоненькие веточки, давно освободившиеся от своей коры. Лучше, чтобы они ещё и были потрескавшиеся от пересыхания. Сложив их колодцем, поверх делаю такой же, из более толстых веточек – такого же вида, и так далее. До разжигания, срубив сырую длинную палку, втыкаю её в землю или креплю между камней под острым углом над костром. На неё и вешаются котелки. Это так называемый таганок. Дух огня дружит с теми, кто с любовью готовится с ним работать.
Вечером, после ужина, мне, как дежурному, в дополнение к повседневному «посчастливилось» отскребать наружную поверхность котелков от нагара, потому, что на ледниках предстояло готовить пищу уже на примусе. Древесный нагар, как тепловой изолятор, увеличил бы расход бензина, запас которого всегда ограничен на маршрутах.
Этот, первый в походе, долгий привал ещё ярче явил для меня характер коллектива. Целый день все молчали, занимаясь просушкой личных вещей и отдыхая на солнышке. Ни шуток, ни даже улыбок, хмурая компания. Одна Люба ярко выделялась своей флегматичной мягкой живостью. Белокурая красотка, ниже среднего роста, с гармоничными чертами лица, она была в возрасте начала увядания первоцвета. С неизменным, невозмутимо позитивным настроением, она, как-то незаметно, объединяла этот, едва живой коллектив. Я предположил, что она попала в эту, казалось, чуждую ей компанию, от отсутствия выбора. Николай был нашим с Любой ровесником, среднего роста, с мелкими острыми чертами серого лица и такими же бесцветными волосами, слегка бомжеватого вида с трусоватой натурой. Он интересовался лишь бытовой стороной жизни с чисто сангвиническим темпераментом. Милица выглядела моложе всех и была выше ростом. Стройная брюнетка с крупными и резкими чертами лица, она была похожа на цыганку холерического склада. Сдержанно общительна, но косноязычна, она изредка тихонько переговаривалась лишь с Игорем, заметно к нему тяготея. А Игорь был красавцем-брюнетом выше среднего роста с явно северо-кавказскими корнями и соответствующим нравом. Едва скрывая своё высокомерие, он, будучи меланхолически замкнут на себе, никого не одаривал ни взглядом, ни каким-либо вниманием. Владимир был не столь хмур, но все же и не улыбчив. Его открытый взгляд искал общения, но сдерживался, и не находил собеседника, почти всегда сторонясь спутников. Он тоже брюнет, каких-то тюркских кровей, высокий и статный красавец. Показал себя ответственным работягой сангвинического темперамента. За весь поход я только один раз услышал его голос, но об этом – в своё время. Все трое были сильно моложе нас с Николаем и Любой. Присоединившаяся Люда держалась скромно и молчаливо, весь поход, согласно своей простой натуре, будто впервые путешествуя с этой группой. И до конца поглядывала на меня, как на новое для себя явление… И для всей, по-своему дружной, компании я всё явнее становился белой вороной.
Утром следующего дня мы стали подниматься к леднику Ак-Кем, сползающему с северной стены Белухи, по его правой боковой морене. Он отступил, при таянии, на несколько километров от своего максимального размера и нам предстояло ещё несколько часов идти по «живым» камням до него.
Несмотря на то, что довольно комфортная и ровная тропа шла параллельно и ниже морены, по берегу верхнего озера, вода которого ушла в нижнее, наш руководитель пошёл по курумнику. Решение было спорно, но все, кроме Любы, потянулись за ним. Она спустилась на эту тропу и пошла с завидной лёгкостью. Мне, как видно, и остальным, не захотелось терять высоту, чтобы после не подниматься на сотню метров к языку ледника. К тому же я намеренно не стал в этот день, на глазах у остальных, составлять Любе пару, чтобы не искушать к тому же её симпатии ко мне своей мнимой привязкой.
Надо сказать, что путешествие по курумнику морены – это довольно выматывающее физически занятие, даже тяжелее, чем по леднику. Большие камни разного размера и угловатых форм неустойчиво и хаотично навалены в гигантском гребне, выдавленном когда-то ледником, как грейдером. Вся группа растянулась в цепочку на сотни метров друг от друга, и каждый самостоятельно выбирал время на минутный привал. Люба перед выходом раздала всем сухой перекус из кураги, карамели и сухарей, потому что останавливаться на обед в этот день условий не было. Я шёл снова замыкающим, передо мной, в десятках метров впереди, прыгала с камня на камень Мила. И мы с ней, изредка присаживаясь на короткий привал, коротко обменивались незначительными фразами.
– Наверное, правильный выбор сделала Люба, а мы тут прыгаем по «чемоданам», как дураки, – саркастически вырвалось у Милы сожаление, когда она увидела, что Люба ушла гораздо дальше нас, двигаясь параллельным курсом.
– Это верно, она молодец. Но нам уже поздно и небезопасно здесь спускаться на тропу, – подтвердил я очевидную банальность.
– А почему ты, Андрей, всё время идёшь в хвосте?
– Очень просто, потому что не претендую на лидерство. Зато всех вижу и так знакомлюсь, по роду движения каждого. И в затылок никто не смотрит.
– Хитрый какой! Наблюдатель…– с доброй усмешкой ограничила она свою оценку.
– Зато с удовольствием. Люблю везде смотреть на жизнь людей, – причмокнул я.
– Какое в этом удовольствие, наблюдать хмурых туриков…
– Что ж, каждому – своё.
Во второй половине дня мы поодиночке, наконец, перешли на ледник. Здесь, в соответствии с резким перепадом высоты, он страшно и безобразно разорвался по горизонтали и по вертикали, зажатый, к тому же, между скал. И мы все потеряли друг друга из виду, углубившись в ледовый лабиринт «царства снежной королевы». Ледовые стены лабиринта высотой в два человеческих роста светились изумрудом прозрачного льда, свежеразорванного от своей тяжести и пропускающего рассеянные лучи солнца. Хотелось остановиться и любоваться, но подгоняли дальние и близкие страшные звуки разрывов ледяного монолита, ползущего под своей тяжестью. Надо было быстрее пробираться наверх, где ледник ещё был цел и полог. Кроме «кошек», другого снаряжения здесь не требовалось. На развилках узких трещин требовалось внимательно концентрироваться, используя внутренний «компас» и память, чтобы выдержать правильное направление. Но длилось это щекотливо-приятное приключение не более получаса, как мне показалось.
Выбравшись на ровный лёд, я не увидел ни одного из моих спутников и догадался, что, будучи замыкающим, сильно отстал от всех. Видимо, чересчур долго любовался лабиринтом, попав в этот иной, сказочный мир, словно в другую жизнь.
Ледник в моём направлении сильно горбился и закрывал даже ближайшую перспективу. И какое-то время было непонятно, как скоро будет конец маршрута этого дня…
Наконец, впереди появились признаки ровной площадки, огороженной камнями курумника, как крепостной стеной, я предположил, по характеру ландшафта, что это место стоянки и поторопился. А через минуту на «стене» появился силуэт человека и я сразу догадался, что это Люба, что она уже заволновалась, видимо, за меня. «Значит все, кроме меня, на месте», – подумал я. А дойдя до курумниковой «крепости», убедился в этом. На обширной площадке, как будто специально созданной природой для людей и, видно, расчищенной от камней много лет назад туристами, для нескольких палаток, было место для лагеря. Других подходящих мест для стоянки на этом леднике не наблюдается. Значит, здесь ночуют все туристы и альпинисты. В тот день сюда добралась только наша группа и разрядить разговорами её было некому. Никто, кроме Любы не обратил внимания на моё появление. Ощущая недовольство собой со стороны большинства, я быстро достал для дежурного по кухне примус и бензин. Все, конечно, были голодны и терпеливо ждали трапезы, объединяющей обед с ужином. Ждали также и моих телескопических лыжных палок, с которыми я шёл, чтобы установить палатку. Они служили стойками для неё.
Здесь был «космос»! Солнце уже покинуло горизонт за западным белоснежным плечом отрогов Белухи. Но было ещё светло, почти как днём, потому что вокруг только первозданный лёд и кристальный свежий снег, а светло-голубое небо отражалось в нём. Только за нашей спиной – голые скалы, обращённые на юг и поэтому свободные от снега, растопленного летним солнцем. А прямо перед нами, через ледник, высилась километровая стена Белухи, глазами скальных выступов на белой вертикали сурово рассматривающая новых посетителей. Огромный валун в человеческий рост на краю площадки был использован когда-то людьми, как монумент. На его солнечной стороне были прибиты металлические памятные доски с именами, портретами и датами гибели альпинистов здесь, под стенами Белухи. Совсем молодые ребята, погребённые сотнями кубометров снега и льда лавинных оползней и других трагедий… Вид и поминание их здесь вызывает, мне кажется, у всех, многократно более сильные чувства, чем на равнине.
Ещё не успело стемнеть, как мы услышали нарастающий утробный гул за спиной и будто из недр… Резко обернувшись в его сторону, увидели, как с противоположной, западной, стены плеча Белухи, сошла снежная лавина. Она в мгновение укрыла облаком снежной пыли всю нижнюю параболическую поверхность ледника, в нескольких сотнях метров от нашей стоянки остановившись. С добрый десяток минут это облако нехотя, со своей высоты в сотни метров, оседало на подтаявший за день лёд, чтобы со временем стать новым слоем многовекового ледника. С нашего безопасно высокого места картина эта была более чем впечатляющей. Лучшего «подарка» от природы здесь невозможно ожидать (в позитивном смысле слова). А я про себя сразу вспомнил подобную ситуацию.
Четыре года назад мы стояли на плече пика Ленина в центральном Памире, на высоте шесть тысяч метров над уровнем моря, готовясь также к ночёвке. Перед нами высилась стена пика в почти полторы тысячи метров и с неё, на наших глазах, сошла снежная лавина на лежащую ниже нас на четыреста метров параболическую «сковородку» ледника. Сила и полное сходство стихии ясно показало, что таким пришельцам как мы, здесь вовсе не рады и предупреждают…
Под впечатлением увиденного и, видимо, забыв о консервативности «пуритан» – спутников, Люба, вплотную приблизившись ко мне и, созерцая рассеивание снежного облака, вполголоса открыла свою мечту:
– Видишь вон то понижение в гребне – это перевал Урусвати. Хочу когда-нибудь через него перевалить, – показала она рукой на красивое понижение в западном гребне.
– Грозным он отсюда смотрится! Достойное желание… – но мне подумалось, что ей этого не суждено осуществить.
Темнело, яркие и невероятно большие звёзды на густеющей синеве чистого неба усиливали ощущение неземного пространства вокруг. Даже в безлунную ночь здесь не требуется пользоваться фонариком, всё можно разглядеть без труда. Ни ветерка, ни звука, ничего живого, кроме нас. Даже парящие хищные птицы редко здесь пролетают, им тут некого ловить. Растущая Луна ещё не взошла, и космическое свечение изменяло оттенки, цвета ультрамарин, у окружающих вещей, ежеминутно их сгущая. Непрерывно всматриваясь в область границы неба с гребнем гор несколько минут и остановив поток мыслей, я заметил, как движется небосвод, и звёзды медленно стремятся спрятаться за горизонт. Это было так естественно в замёрзшем, казалось, мире. Но делать нечего, пришлось снова залазить в душную атмосферу палатки.
На следующий день мы стали подниматься сначала по леднику, потом по скальному участку на перевал Титова, высотой три тысячи двести двадцать метров над уровнем моря, что разделяет ледники Ак-Кем и Менсу. Последний спускается с восточной стены Белухи и является самым большим и длинным, дотягиваясь до распадка между Катунским и Южно-Чуйским хребтами.
И снова я, уже привычно, пошёл замыкающим, вослед Любе. Мы уже по-свойски, как давние знакомые, повели непринуждённую беседу, когда она отстала, на приличное расстояние, от идущих впереди. Вернувшись к теме похода за клюквой, Люба в красках и с удовольствием описала все его детали, видимо закрепляя в моём сознании интерес к нему. А у меня через долгую паузу вдруг спросила:
– Андрей, а как ты относишься к понятию «судьба»?
– Я фаталист, понял это ещё со школьного детства.
– И ты считаешь, что всё фатально?
– Ну конечно! От судьбы не увернёшься.
– Но мы же своим умом выбираем, как жить и как поступить в конкретной ситуации.
– Это иллюзия. Если, к примеру, человек действует уверенно, то значит, его поддерживает подсознание, а оно, в свою очередь опирается на предначертанное судьбой. И тогда он не ошибается, и, в конечном счёте, получает вознаграждение, даже если не замечает его. Ну а если человек поступает согласно общепринятой человеческой логике, а в душе чувствует неуверенность, то значит, ошибается, и в лучшем случае получит разочарование. Если упрощённо, то так.
– А судьбу кто прописывает тогда?
– Ты задаёшь вопрос на уровне: есть ли Бог?
– Ну, хорошо. И что, он один каждому прописал всю жизнь? Так что ли?
– Этого никто знать не может. У Бога, я думаю, огромная иерархия и каждая её инстанция исполняет отдельные функции, которые складываются гармонично, как паззлы в одну картину.
– По-твоему получается, что свободной воли у нас нет? – продолжала с сомнением Люба.
– Она и заключается в выборе: поступить правильно или нет и получить соответствующий результат.
– Но мы же не роботы и вольны делать всё, что задумали!
– Вольны, но ведь делаем не всё, что задумываем, почему-то, что-то нас ведь останавливает от каких-то вещей, – попытался я вести Любу в правильном направлении.
– А действительно, что нас останавливает? Совесть, наверное.
– В точку, именно совесть. Она и есть – проявление частицы Бога в человеке. Она же и подсказывает правильность решения. Её, совесть, ещё интуицией можно назвать. Но дело не в словах, а в явлении. А слова – есть лишь подбор варианта для взаимопонимания между людьми.
– Как-то всё просто получается, Андрей.
– Просто только на словах. Словами лишь кратко можно что-то выразить. Короче всех про то сказал Сергей Есенин: «…Если черти в душе гнездились, значит, ангелы жили в ней».
– Что-то он хватил! Про себя лишь…
– Э, нет. Битва добра со злом идёт в душе каждого человека. Разница лишь в её интенсивности. Многие её даже не замечают, смирившись со своим бытием, либо «почивая на лаврах». Частица Бога в каждом человеке, как и частица противоположного. Главное – держать баланс между ними. Перекос же между ними может произойти в самый неподходящий момент. Всё зависит от настроя человека, вот в этом и состоит полнота свободы выбора. На кого и на что личность настроена, тому и служит. Двум противоположным господам служить не получится. И бдительность состоит в непрерывном увеличении любви в душе, божественной любви, то есть без привязок. А любви в душе чересчур много не бывает.
– А баланс, как ты говоришь, тогда зачем, если в душе любовь?
– Хороший вопрос! Частичку чёрта из души не изжить, не возможно. Вот её и следует держать в «ежовых рукавицах», а выпускать лишь для самообороны или для защиты ближнего. Это и есть – держать баланс в душе. Очень трудная работа, но главнее её нет. Ведь искуситель не снаружи, а всегда в самом человеке. И искушается он по своей полной воле. А внешние факторы – это лишь соблазны, проверочки на стойкость. Поэтому винить кого-либо в чём-либо просто глупо и безответственно. Но и винить себя не стоит – это всё равно, что казнить, то есть разрушать. Сделал ошибку, прости себя, ибо по недопониманию совершил. А на будущее – используй этот урок.
– Да у тебя словно проповедь!
– А это – как угодно… Это то, что я могу кратко сказать по данной теме, не более.
– Ну а как на счёт «господина» случая? – продолжала она.
– Случайностей не бывает, все встречи и ситуации предопределены.
– И наша?
– Ну конечно, почему она должна быть исключением?
– И каково её значение?
– Сходить на вершину Белухи, что касается лично меня.
– И всё?
– И всё, что же ещё?
– А для остальных?
– Каждый пусть сам в этом разбирается.
– А у нашего маршрута тоже прописана судьба, как ты думаешь? – через паузу поинтересовалась Люба.
– А как же!
– И какая же?
– Кто же может это знать?
– А ты, Андрей, сам как чувствуешь, пустит ли нас на себя Белуха?
– Не знаю, право. Пока мы будем ходить по ледникам вокруг Белухи, всё будет как сейчас. А вот что дальше – не знаю, – ответил я, а сам почувствовал, что дальше я не вижу себя с группой, и не понимаю почему. А ещё подумалось, что хоть и слажена эта команда, но в таком состоянии духа жизнь её в данном составе не долговечна.
На скальном участке мы с ней совсем потеряли из виду ушедшую выше на перевал группу. Подъём становился всё круче. Мы шли, как горные козы, по узеньким уступам загорелой на солнце ярко-коричневой скалы. Солнце грело нам спины, и настроение было прекрасным в отсутствии хмурых спутников. Люба шла в метре выше меня, её шаг был неровным. Я не на шутку стал волноваться и подстраховывать снизу, в готовности остановить её падение, прижав к скале.
Наконец, мы с Любой вышли на перевал, с которого на ледник Менсу спускался по верёвке уже четвёртый человек, Игорь. А на страховочной станции оставался только Николай, который одарил нас крайне недовольным взглядом. Я принял его недовольство на свой счёт, согласно своему природному чувству чрезмерной ответственности, хоть в данной ситуации это было не логичным. Прекрасное благодушное настроение сразу сменилось на спортивно-боевое. К тому же, здесь, на теневой стороне скального перевала, рай в душе сменился на погружение в ад какого-то немотивированного противостояния, казалось бы, единомышленников в спортивной сфере.
Верёвка, закреплённая в скале, была переброшена через бергшрунд, разверзнутый в двадцати метрах ниже «станции» между скальным перевалом и ледником Менсу. И по ней мы съезжали через эту зияющую трещину. Как только Игорь спустился и освободил верёвку, Николай дал команду Любе на спуск. Спустившись до трещины, которая была шириной около двух метров, она остановилась в нерешительности. Решив помочь Любе словом, я громко ей сказал:
– Сильнее отталкивайся от скалы ногами и отпускай совсем верёвку, легко перелетишь на ледник!
Она не послушала меня и продолжила медленный спуск, ногами почти что уже погружаясь в трещину. Николай, стоя за моей спиной, почему-то молчал. Я больше не стал выпячиваться и наблюдал. Наконец, стоящий на льду за краем бергшрунда Игорь, через короткую паузу догадался потянуть за нижнюю часть верёвки, вытащив тем самым Любу к себе на лёд. Наблюдая за происходящим, я понял, насколько слаба группа технически. Мне стало достаточно, для оценки, уже одной этой картины. Дождавшись того, как Люба освободила верёвку, даже не огласив это, как положено по правилам, Николай скомандовал спускаться мне. Я спустился за пару секунд, лишь в начале сильно оттолкнувшись от скалы, привычным скоростным способом, как спускался с фасадов зданий при работе в сфере промышленного альпинизма. За мной сразу спустился Николай, профессионально сняв верёвку с верхней «станции».
А ниже, на склоне ледника, Владимир с женщинами, тем временем, крепили с помощью ледобуров палатку, чтобы не съехала по снежной горке в ледовую пропасть. Начинало смеркаться. Николай, последним залезая в палатку совершенно набыченным, безадресно недовольно проворчал:
– Дух места будет недоволен. Неправильно поставили палатку, надо было головой к завтрашнему перевалу, а вы просто к склону.
Ужин, как всегда на ледниках, стали готовить на примусе прямо в палатке. Стало душно, зато тепло. Рюкзаки разместили в ногах для упора, чтобы ноги не замёрзли, упираясь в стенку палатки.
Утром, покинув тесный полог, мы осмотрели окрест, что не успели сделать вчера, из-за дурацкого напряжения в группе.
Перед нами лежало, залитое слепящим солнцем, белоснежное поле ледника Менсу, круто наклонённое на восток и не поддающееся глазомеру в своих гигантских масштабах. Мы находились в его северной, верхней части. На противоположной стороне этой ледовой реки высилась стерильно-белая гряда гор, продолжающая восточное плечо Белухи. В ней ярко выделялся перевал В.С. Высоцкого, манящий смельчаков перевалить в Казахстан, граница с которым намечена именно по этой гряде. Со своего места мы могли видеть лишь тысячную долю процента всей мощи ледника из-за рамок окружающих нас скал.
Не рассиживаясь на этой ледовой горке, мы, едва позавтракав, стали подниматься по ней дальше на север, к следующему на нашем пути перевалу Кара-Оюк (чёрная долина – с тюркского), чтобы перевалив, спуститься в одноимённое ущелье. Желая оторваться, хоть на какое-то время, от унылого коллектива, я попытался пойти наверх первым. Но мне не дали такой возможности догнавшие молодые ребята. А я понял, что в выносливости и физической силе я для них не соперник. Ведь они, горные туристы, в отличие от альпинистов, ходят более гружёными, на более длинные расстояния каждодневных переходов. Поднявшись в одних «кошках» и без страховки по не очень крутому ледово-снежному склону на перевал (три тысячи пятьсот метров над уровнем моря), мы увидели удивительно сжатый каньон ущелья Кара-Оюк с крутым спуском по его леднику. Узкая ложбина с острыми гребнями окаймляющих скал, укрываясь в своей верхней части столь же узкой ледово-снежной рекой, дальше, за горизонт видения была устлана похожими друг на друга тёмно-коричневыми «чемоданами» курумника.
У меня сложилось впечатление, что будто бы неведомый великан уложил, так гармонично, каменную кладку во всю ширину ущелья. «Чемоданы» лежали своей удлинённой стороной, как гигантские неровные кирпичи, вдоль спуска.
По-спортивному дружно спустившись по леднику с использованием всего страховочного снаряжения, мы немыслимое количество часов шли по этим «чемоданам». За изгибом влево от этого распадка не было видно конца каменной реки. По ходу нашего движения она будто «утекала» всё дальше вниз, к вожделенной «зелёнке».
Сначала могло показаться, что это несложный спуск. Верхняя поверхность «чемоданов» была почти ровной и горизонтальной. Но своим размером и расстоянием между собой они разнились. Шаг по ним был прерывистым. Сделав по одному камню от трёх до шести шагов, приходилось перепрыгнуть на другой, лежащий ниже, через промежуток между ними до двух метров. Со временем это начало всё больше утомлять.
Под верхним слоем этих глыб было ещё несколько этажей таких рядов в недосягаемую глазу глубину. А под всеми ними журчала речка, стекающая с ледника. Звук её потока усиливался акустикой этого гигантского каменного лабиринта. Но воду из неё невозможно было ни достать, ни даже увидеть. Жажда мучила уже полдня, а постоянное гулкое журчание дразнило часами всё сильнее. Часто между «чемоданами» расстояние оказывалось больше, чем можно перепрыгнуть. Тогда приходилось спускаться на лежащий ниже ряд и пробираться по наитию в лабиринте. Так, очень скоро, вся группа потеряла друг друга из виду, поодиночке, то погружаясь, то выходя наверх. При этом, впервые за все дни, кое-кто стал весело перекликаться, развлекая себя от выматывающей монотонности движения. По голосам, я слышал, что это были в основном Мила с Любой и, как ни странно, стало мне – Игорь. О последнем я лишь догадывался, до сих пор пока не услышав ни звука от него.
Казалось, что конца этой каменной реке не будет, сознание стало переходить в какое-то подобие трансцедентального состояния от однообразия движения. Поглядывая на острые вершины боковых скальных стен ущелья, неровными зубцами гигантской пилы врезающихся в тёмно-синее небо высокогорья, мне подумалось, что когда-то давно здесь произошло землетрясение. И, отколовшиеся со скал камни, падали в ложбину распадка и укладывались так, как им было удобно. Другого прагматичного объяснения не получилось подобрать. Я снова шёл замыкающим в очень удобном и уместном для себя уединении, сливаясь душой с окружающей загадочной природой. Хотелось раствориться в ней, но человеческое естество требовало своего и звало не отставать от людей.
Наконец, уже во второй половине дня, мы вышли из каменного лабиринта в распахнувшийся широкий горный цирк, с превеликим удовольствием шагнув на густой ковёр восхитительного альпийского луга. Трава, каким-то чудесным образом, здесь оставалась не по сезону совершенно зелёной и сочной, без крохи выгорания. Этот, почти круглый, цирк, окружённый стенами высоких скал, раскинулся на несколько квадратных километров. В южной части, с высоты в добрую сотню метров, узенькой ниточкой падал водопад, зажатый в узком скальном кулуаре. Он пополнял образованное его же усилиями чашевидное озерцо с прозрачной водой, отражающей цвет неба. Своей чистотой и яркой голубизной, вода манила искупаться, но кончался световой день и позволить себе это я не мог. Сколько понадобится ещё времени на спуск к нашей стоянке, мы не знали, проходя этим маршрутом впервые. А мои спутники, как мне показалось, не испытали и доли искушения на купание.
Прямо в ровной, густой и низкорослой траве, в узеньком мелком русле, через весь луг, из под каменного лабиринта, к выходу из ущелья, текла речушка с удивительно чистой и вкусной водой. Она же и питала нас на стоянке, к которой мы теперь стремились. Поэтому нам оставалось лишь следовать за её течением, было с ней по пути. Созерцая девственную красоту, я будто почувствовал, что в этом сказочном месте, параллельно видимому человеком миру, отдыхает от своих созидательных трудов очень сильный Дух, сам же и обустроив тут всё. Да и в народе это ущелье так и называют «Долиной горных духов».
Даже не остановившись на обед в этой сказке, уставшие за переход, мы, не сговариваясь, поспешили к своей стоянке, на которую надо было ещё спуститься из ущелья по крутому курумнику. И привал не делали, догоняя угасающий день в прямом смысле слова.
Спустившись на морену ледника Ак-Кем, на прежнюю стоянку с нашей продуктовой заброской, мы замкнули кольцо первого, категорийного, этапа маршрута. Спрятанные в камнях продукты оказались в целости, возможно, благодаря близости к ним емкости с бензином, своим запахом отпугивающим грызунов. Сгущались сумерки и все, соскучившись по костру, расселись у огня в ожидании ужина, который торопились приготовить Люда с Любой. На следующий день руководитель объявил днёвку. Надо было хорошо отдохнуть перед главным этапом – кольцом по ледникам вокруг Белухи.
До этого момента мы втроём с Николаем и Любой спали в одном, спаренном из двух, спальнике. Спальники-одеяла у всех участников были самые дешёвые, капроновые с одним слоем тонкого синтепона, давно уже не новые. Спали в тёплой одежде, сняв лишь ветровки и верхние ветровые штаны. Люба лежала в середине, естественно, согреваемая мужчинами. Хоть было и тесновато, но тепло. В утеснённом положении держать руки навытяжку мне было не всегда удобно, они начинали «ныть». И я беззастенчиво обнимал соседку по спальнику, по привычке своей многолетней брачной жизни, в районе талии. При этом чувствовал, что Любе это было приятно. Николай ни разу её не обнял за все ночи, поэтому я был спокоен, полагая, что между всеми нами нет ничего личного.
Но в этот вечер Николай, вдруг, заявил мне вполголоса при всех, как-то трусливо не глядя в мою сторону и недовольным тоном:
– С сегодняшнего дня поменяйся с Людой. Она переходит к нам с Любой ночевать, а ты возьми её спальник.
Люда же, в отличие от всех, до этого спала одна в своём, таком же, спальном мешке.
Тут, наконец, я понял, что растущим недовольством Николая руководила ревность. Наверное, он ночами чувствовал мою руку, обнимающую Любу. А по тому, что никто из присутствующих не подал виду, то, вероятно, всем была очевидна причина его такого решения. Может Николай и считал Любу своей женщиной, но ни в дороге, ни в походе ничем это не выказывал. Они даже ни разу не разговаривали меж собой, ни садились рядом. Каждый был занят своим, и не занят – тоже врозь. Николай никак не выделял её относительно других, даже не смотрел в её сторону. Иначе, при моём изучающем внимании к людям, я не упустил бы ни одного момента, в таких тесных условиях походной жизни. И ни один участник мне ни намекнул, ни сказал, что у Николая с Любой особые отношения. Всё это для меня было более, чем странным, но не менее любопытным. Видимо, такие отношения в группе участники считали высокими, можно было предположить.
Ещё с утра того же дня, по тому, как Люба перестала отставать от группы и шла со всеми в одной цепочке, я начал понимать, что она вовсе и не нуждалась в моей поддержке. Она просто ходила своим темпом, а если отставала, то так хотела. И тем же утром, ещё с ледника Менсу, я интуитивно стал аккуратно сторониться Любы, почему-то даже потеряв интерес к беседе с ней.
В этот же вечер, сразу после заявления Николая в мой адрес, я почувствовал усилившееся отчуждение всей группы ко мне. Исключением оставалась невозмутимая Люба. И в дальнейшем, мы с ней обменивались словом лишь по её инициативе и чисто по делу. Жалеть об оставленном дома пуховом спальнике было поздно. Предстояло непривычно помёрзнуть на ледниках ночами. Весь следующий день уставшая группа молча «чистила пёрышки» на тесной полянке. Каждый был занят собой, своими мыслями. И, видимо, в смущении от нескладных отношений, никто даже не смотрел ни в чью сторону. Зато погода радовала, солнышко припекало – хоть загорай. Только один я оголил свой торс, позволив хоть этой части тела отдохнуть от одежды, остальные, видимо, постеснялись.
Хорошо отдохнув и погревшись на солнечной полянке в шестой день, рано утром, седьмого, мы снова двинулись к Белухе, привычным уже путём и в том же режиме, как и три дня назад, к стоянке у мемориального камня на леднике Ак-Кем. И, на следующий день, нам предстояло пройти по трём ледникам, перевалить через два перевала и выйти на третий, с ночёвкой на нём.
Утром восьмого дня встали чуть свет, день самый ответственный. Наш первый перевал этого дня – Делоне (три тысячи четыреста метров над уровнем моря) круто возвышался совковой лопатой на юго-востоке от стоянки. Его ледяной панцирь был полностью скрыт снегом. На него можно было зайти, не используя никакого снаряжения. Мы с альпинистами-одноклубниками в своё время так же поднимались по более крутому снежнику целых полдня на пик Ленина. А здесь можно было бы за час. Но Николай после завтрака командным тоном спросил:
– Кто пойдёт «перила» вешать?!
– Я! – не дав опередить себя парням, в ту же секунду вызвался я.
Возражений не было и, быстрее всех, поспешив собраться, я рванул к склону. Уж очень хотелось оторваться от неуютной компании хоть на несколько минут, а тем более заняться любимой работой. Мне была понятна мотивация руководителя. «Перила» нужны его женщинам. Они, как я стал догадываться, не очень хорошо владеют альпинистской техникой и, похоже, не очень стремятся к усовершенствованию. Для меня это было удивительным. В предыдущие годы я всегда сталкивался с противоположным. К тому же, я был уверен, что Николай больше перестраховывается.
Подойдя к крутому участку склона, проваливаясь в снег чуть ниже колена, и взойдя по нему на длину верёвки, я стал разгребать руками, в верхонках, снег, чтобы добраться до льда. И не успел вкрутить первый ледобур в лёд, для крепления верёвочного «перила», как у меня перехватил инициативу Владимир, догнавший меня. Мне сразу стало понятно, что это он сделал по указанию Николая, из ревности демонстрирующему мне недоверие. Владимир же проверен им в прежних походах. Так руководителю спокойнее. Вдвоём мы быстро и молча, навесили последовательно обе имеющиеся верёвки, к тому времени, как подошла вся группа. Слаженная работа Владимира, Игоря и меня быстро вывела группу на острый гребень перевала, где взошедшее солнце, кратно усиленное белизной ледника Менсу, резануло нам по глазам, как вспышкой, в миллиард мелких солнц. Здесь нам открылась картина его самой верхней части, круто спускающейся с восточной вершины двуглавой Белухи. Вокруг был лишь холодный белый цвет, слепящий отражёнными лучами солнца, тёплыми тонами света, оживляющими всю округу, так, наверное, чувствуешь себя в раю.
Перестраховка Николая кратно увеличила время на штурм этого перевала. А по тому, как двигались женщины, я увидел, что они могли бы спокойно взойти на склон и без страховки. Необходимости в ней, по технике безопасности, не было. Да и снаряжения руководителем было взято в поход больше, чем требовалось. С гребня Делоне спуск был схожей крутизны, но Николай, к моему очередному удивлению, не заставил вешать «перила». Заметно воспрянув духом, может, потому что Люба шла с ним рядом, он поставил группу в две «связки» в соответствии с двумя имеющимися верёвками, ограничившись лишь такой страховкой. В первую, идущую впереди, он поставил троих мужчин, а сам встал в «связку» с женщинами. Этим он «убивал трёх зайцев». Во-первых: впереди и внизу по склону наш путь перерезали длинные трещины, в верхней части ещё и закрытые снегом. И задача мужской «связки» состояла в разведке, открытию заметённых провалов и прокладке наиболее безопасной тропы. Во-вторых: для изоляции меня от влияния на женщин. И, в-третьих: для контроля за мной, своими верными «нукерами». Меня они поставили в середине верёвки, но мне было всё равно, у меня и такая практика бывала за спиной. Впереди по «связке» шёл суровый Игорь, а позади меня – Владимир.
Связавшись, мы быстро стали спускаться. Солнечная радиация била прямо в лицо и, усиленная отражением от снега со всех сторон, постепенно делала тело «варёным». «Женская» «связка» стала сильно отставать. Но мы, в этой «гулкой» тишине, всё равно слышали увлечённый и весёлый разговор настоящего «пастуха» с женщинами, и я окончательно убедился, что причиной напряжения в группе был я. Неужели из-за меня они всё время и молчали?! Вот это да!
В этой, верхней, части ледника Менсу, особенно на нашем спуске, трещины были широкие, длинные и глубокие, но мы их резво обходили, а через иные – перепрыгивали. А после преодоления всех трещин и, обозначив своими следами безопасный путь второй «связке», мы вышли на ложбину в середине верховья ледника. Она представляла собой гигантское блюдце диаметром с километр. Альпинисты называют такие места «сковородками», потому что в них фокусируется всё солнечное излучение с округи.
Мой приятель Стас, уже не единожды упомянутый мной ранее, поведал мне следующую историю. Проходя, в этом самом месте, как-то раз, он увидел чуть правее на склоне засыпанную и придавленную снегом палатку. Из неё торчали вибрамы, явно одетые на ноги, согласно их положению, а к ним привязана табличка: «Не трогать!» Закон гор: не трогать – значит и не приближаться. Может сам человек захотел остаться здесь навсегда… И я, придя сюда теперь, ярко представил себе эту трагичную картину. Вероятнее всего, в зимний период, его, вместе с палаткой, навсегда засыпали снега.
В самом центре «сковородки» мы остановились будто бы на минуту, оглянувшись посмотреть, насколько далеко отстала вторая «связка». По идее, лучше бы здесь не останавливаться вовсе, тем более, в полдень. Излучение тут максимальное, фокусируемое «сковородкой». Жарко так, что тело начинает слабеть, даже раскисать. Но я, как-то неожиданно для себя, предложил:
– Раз те сильно отстали, может здесь отобедаем, дальше вряд ли будет такая возможность, – предположил я, вглядываясь в дальнюю перспективу направления нашего движения.
Игорь, резко обернувшись на мои слова, с ярким небрежением на лице и впервые глядя мне в глаза, вызывающим тоном язвительно бросил:
– Андрей, ты зачем в горы ходишь?!
– Сюда иди! – немедленно ответил я на вызов.
Между нами было не больше двадцати метров, столько же от меня назад и до Владимира. Игорь не очень решительно, но сразу пошёл навстречу мне. Я стоял в готовности к схватке подчёркнуто на месте, поскольку он выполнял мой приказ. В последний момент Владимир успел выскочить из-за моей спины и встать между нами:
– Вы сдурели?!!! Прекратите!
Мы опомнились, и Игорь, развернувшись, отошёл от нас с Владимиром туда, откуда и стартовал. В ту же минуту, с холодком в спине, я с ужасом осознал, что мы с Игорем сжимали, каждый в своей руке, по ледорубу… Это был апогей выросшего в группе напряжения!
Теперь, не сговариваясь, в тупом оцепенении, мы стояли несколько минут в ожидании приближающейся второй «связки». Солнце слепило им в лоб, спускаясь, они смотрели лишь под ноги через специальные очки от излучения. К тому же они громко, беспрерывно и весело о чём то разговаривали. Поэтому ни слышать, ни видеть произошедшего у нас инцидента Николай с женщинами не могли. А когда они, наконец, приблизились, то Николай сходу весело предложил:
– Может, обед здесь сделаем?
Все молча согласились. Ну а как же иначе, ведь это руководитель предложил! И я быстро достал примус. Движения воздуха не было совсем, и огонь горел идеально, не требуя прикрытия, часто применяемого в таких случаях. Пока женщины в ускоренном темпе готовили обед из одного блюда, Игорь попросил Николая отойти в сторону для конфиденциального разговора. Хоть они и отошли на десяток шагов и говорили вполголоса, но нам с Владимиром, оставшимся ближе к ним, всё было слышно благодаря особой акустике места. Стоя спиной к группе, Игорь заявил Николаю:
– Я, наверное, вернусь обратно, не хочу больше…
– Ты не в себе?! Угорел на «сковородке»?! Что такое..?! – совсем не вполголоса и возмущённо стал «пытать» его тот, при этом глянув в нашу сторону.
Но ни я, ни Владимир не подали и виду, что слышим и вовлечены. Игорь молчал. «Вот ведь как усиливает солнечное излучение, недостаток кислорода и сухость воздуха, уже накопленное напряжение между людьми, в таких условиях, да ещё и на склоне Белухи, – подумал я, – это мне уместнее было бы покинуть группу сейчас. Ну уж нет, не дождётесь!» А Николай, через короткую паузу, выдал Игорю своё решение:
– Никуда не пойдёшь! Я здесь за всех отвечаю!
Игорь больше не проронил в этот день ни слова, собственно, как обычно, и подчинился вердикту руководителя. Наскоро перекусив, мы быстрее покинули «сковородку», чтобы она нас не «дожарила». Спасаясь от жёсткого излучения, мы в максимальном темпе продолжили путь ко второму в этот день перевалу, под названием «Берельское Седло», уже без связки и без другого снаряжения. Перевал был отсюда в поле зрения, и мы мечтали уже через час зайти в его тень. Он являлся юго-восточным плечом Белухи. Трещин на нашем пути уже не было видно, и вся группа растянулась поодиночке на сотни метров. Предпоследней шла Мила, а я, выдержав дистанцию, не дающую возможности разговора, последовал за ней в комфортном, для себя, уединении.
На крутом участке подъёма на перевал мы зашли в долгожданную тень, и прохлада от снега облегчила самочувствие. Но зато пришлось преодолевать сопротивление сухого снега чуть ниже колена. Его здесь, на подветренном склоне, надуло, видимо, постоянным направлением ветров. Снег на этой высоте сухой из-за пониженной влажности, он не налипает на обувь и не пристаёт к одежде, но, на излёте дня, от этого было не легче. К тому же, в сложившейся ситуации, идти было нелегко не только от накопившейся уже, физической усталости, а больше от тяжести нелепого противостояния в группе. В ощущениях время потянулось ещё медленнее. Я даже забыл про свои наручные часы и не вёл хронометраж. И цель лично моего путешествия как-то незаметно стала меркнуть. Движение продолжалось, будто по инерции.
Наконец, выйдя на перевал (три тысячи пятьсот двадцать метров над уровнем моря), я увидел, что он действительно похож на седло с плотно утрамбованным ветрами снегом. С него на юг и влево от нашего курса, в Казахстан, круто сползает ледник Берельский, вытекая далее рекой Белая Берель. Она впадает в реку Бухтарму, та – в реку Иртыш, а он, в свою очередь – в реку Обь. Склон в сторону Казахстана здесь настолько крут, что разглядеть его за ближним вертикальным изгибом невозможно, тем более что он, в этот час, уже находился на теневой стороне – солнце его не освещало. А за ним – в дымке тёплых испарений казахстанских альпийских лугов, в паре добрых километров перепада высот, зеленеет бурная растительность. Правее лежит широченный южный склон Белухи, выпуклым снежным полем, залитым солнцем, скрывающим свои необъятные размеры. Солнце уже клонилось к горизонту, и его лучи, отражаясь от массы снежинок, снова резали глаза, не позволяя глазомеру оценить расстояние на нашей последней, в этот день, прямой.
Поднявшись замыкающим на почти горизонтальную и обширную площадку перевала, я увидел странную картину. Мои спутники стояли с вопросами на лицах перед, придавленной снегом, чужой палаткой и примыкающей к ней утоптанной, окружённой искусственной снежной стенкой, маленькой площадкой, предназначенной для кухни, под открытым небом. Вокруг были разбросаны разорванные пакеты от десерта и сами продукты: галеты, конфеты, шоколад. А Мила, стоящая ближе всех ко мне, протянула мне кусочек шоколада, едва я остановился. Я автоматически, правда, нехотя, взял его в рот, интуитивно почувствовав неправоту команды, члены которой что-то уже жевали.
Николай, с пафосом знатока и опытного горника, стал высказывать свою версию произошедшего здесь:
– Явно, с кем-то из их группы, что-то случилось, и они спускают пострадавшего в Казахстан. Наверное, это казахи…, оттуда и пришли. Всё тут бросили из-за спешки…, ради его спасения, – и он указал при этом правой рукой вниз, в пропасть Берельского ледника.
«Ну и фантазии у тебя! Лишь негативные…» – подумал я. Остальные молчали, внимая своему руководителю. А Мила, вдруг через паузу, жуя трофейный, как я уже догадался, шоколад, обратилась ко мне:
– Андрей, а ты как альпинист, что думаешь о случившемся здесь?
И вся группа с интересом посмотрела на меня, ожидая мою версию. А я, не спеша и уверенно, пояснил:
– Наверное, не стоило нам трогать эти продукты. Ребята, видимо, ушли на вершину и скоро вернутся. Вот и палатку привалили снегом, чтобы ветром не сдуло. А продукты халатно оставили на открытой кухне, вот птицы и растащили… и поклевали кое-что…
После моих слов согрупники потупились, слегка отвернувшись друг от друга. А я отказался от второго кусочка шоколада, по инерции видимо протянутого мне Милой. Через короткую паузу Николай сдавленно и совсем уже не командным, а демократичным тоном предложил:
– Ладно, пошли дальше, закат близится…
Никто не успел сделать и шагу, как я возгласил, увидев три чёрные точки, движущиеся со стороны вершины в нашу сторону и указал правой рукой:
– Вон и они, давайте поприветствуем восходителей!
И все, не сдвинувшись с места, стали их дожидаться. В считанные секунды точки выросли в силуэты бегущих людей. Они весёлой припрыжкой спускались по пологому склону и мы, уже через минуту, разглядели сквозь встречные лучи солнца трёх совсем молодых парней лет двадцати. С сияющими улыбками они не заставили нас долго ждать и на ходу, метров с полста, закричали нам наперебой:
– Привет! Привет! Привет!
– Ну что, с восхождением вас, что ли?! – крикнул я им навстречу.
– Да! – радостно ответил бегущий впереди.
– Поздравляем! Откуда вы будете, ребята? – продолжал я, едва они остановились.
– Спасибо! Мы из Кемерово, – ответил первый, с удивлением поглядывая на непорядок в своём лагере. Остальные весело рассматривали нас.
– Земляки-сибиряки значит!… Видите, как птички похозяйничали у вас тут. У птиц, знаете же, какое зрение, за десятки километров видят, а мы их – нет. Не стоит оставлять открытым хоть что-то в горах. Я тоже имел такой опыт. Ну ладно, нам пора, мы на ТКТ идём, там будем ночевать. А вы завтра спускаться будете? В Ак-Кем? – поспешил я побыстрее закончить общение в неудобном для нашей компании положении, догадавшись, что они мои собратья-альпинисты. Пришли сюда, чтобы сходить на вершину, и сразу обратно тем же путём.
– Да, завтра в Ак-Кем. А вам хорошо сходить! – разводя руками и улыбаясь с лёгкой тенью досады, также поспешил их лидер попрощаться с нами.
По традиции, обычно руководитель первым по праву вступает в контакт со встреченной на маршруте группой, обмениваясь с их лидером не столько любезностями, сколько информацией об изменениях в ландшафте на маршруте, произошедших по естественным причинам. Но в данном случае, я уверенно чувствовал себя вправе заместить в этом Николая, по меньшей мере, потому, что первым увидел спускающихся ребят и предложил дождаться их.
Солнце уже зависло прямо над линией горизонта перевала, к которому лежал наш путь, и мы, с последними словами прощания стартанули на «втором» дыхании, изрядно застоявшись, в щекотливом положении. А на лицах моих спутников я успел заметить неловкость и благодарность мне за инициативу в контакте с кемеровчанами. Лишь Николай нахмурился опять, стал чернее тучи. Всем, я думаю, стало стыдно, даже передо мной. Зато я отчётливо почувствовал, как заметно спало напряжение в группе и ослабло влияние настроения руководителя на остальных. А об этом эпизоде, в дальнейшем, никто ни разу не обмолвился и, я уверен, что не только при мне.
Мы снова шли с набором высоты, потому, что перевал ТКТ (Томский Клуб Туристов – четыре тысячи сто пятнадцать метров над уровнем моря) был выше оставленного позади, на шестьсот метров. На этом последнем отрезке пути сего дня снег был заметно прибит частыми ветрами, потому что выше, в округе, нет больше ничего, кроме самой вершины. Она теперь, за всё время вечернего перехода, возвышалась справа. И хоть легче было торить новую тропу на не крутом подъёме по щиколотку в снегу, но усталость, от пройденного за день, наполняла всё тело тяжестью, усиливающуюся с каждым шагом наверх.
Вокруг была снежная пустыня склонов Белухи от горизонта до горизонта. И только в одном месте – уже позади нас, всё уменьшалось «окошечко», с едва заметной, в дымке сумерек, «зелёнкой» Казахстана, за оставленным нами перевалом Берельское Седло. Солнце уже покинуло наш день, но небо было светлым ещё довольно долго. Так всегда, на превосходящих высотах, в округе, а тем более, здесь. Зная об этом, мы не спешили. Ближе к перевалу снег стал рыхлее и глубже, очевидно, самые интенсивные ветра здесь бывают на Берельском Седле, где остались кемеровчане. Но при нашем посещении, как и во все дни похода, продолжался полный штиль, ни малейшего движения воздуха.
Наконец, мы взошли на самый высокий, из всех в округе, перевал, с удовольствием освободив плечи от рюкзаков. Очевидно, первопроходцами на нём были томичи, и назвали его в честь своего клуба. Так, почти все перевалы и вершины называют, по традиции, первопроходцы. Перевал очень узкий, просто гребень юго-западного плеча Белухи. Мы едва поместили на нём свою палатку, закрепив её ледобурами.
Зато нам открылась сказочная по красоте и широкая вселенским масштабом панорама с востока на юг и до северо-запада, схожая с панорамой, открывающейся с летящего самолёта, где все линии горизонта растворяются в дымке от плотности атмосферы и расстояния. Лишь северную часть горизонта очерчивала вершина Белухи. За изгибами белоснежных волн её плечей, в сумеречной дымке остывающего воздуха, тёмно-зелёным фоном, уже с трудом просматривалась «зелёнка». С самого перевала на юго-запад-запад, почти от палатки, «падал» в пропасть Катунский ледник, внизу, среди сочных альпийских лугов, вытекая мощным потоком реки Катунь. Только для созерцания этой картины уже стоило сюда подняться. Длинный и пологий грязно-белый язык этого ледника, лежащий на два километра ниже перевала, будто раздвигал крутые стены острых гребней, спускающихся с вершины. Широко разливаясь из самого языка в просторном распадке зелёных склонов, тёмные воды реки Катуни вскоре круто поворачивают на юг, в сторону Казахстана, прячась за левой гривой, по которой проходит государственная граница. В районе её излуки ядовито-зелёным пятном выделяется островок плотного кедровника, единственного лесного оазиса среди сплошных лугов. А за ним зелёными волнами в разные стороны расходятся увалы холмистых гребней бассейна Катуни. Срединный, своей гармоничной грядой, мистически напоминает гриву гигантского дракона, до поры спящего в этом курортном месте. Теплота альпийских лугов южных склонов Алтайских гор, посреди казахстанского лета, сразу стала мощно и неотвратимо манить меня к себе настолько, что мне захотелось туда немедленно спуститься.
Ещё, часами поднимаясь сюда, я стал чувствовать растущее остывание прежнего желания взойти на вершину. И всё больше удивляясь себе, я силился понять причину такого резкого охлаждения к цели своего предприятия. Ещё более удивительно, что это чувство меня ничуть не мучило, а наоборот – было будто вполне естественным, можно сказать, эволюционным. Схожее настроение у меня появилось год назад, в Ведьминском ущелье, после ночного явления. А здесь – без внешних факторов, но снова, перевернулись приоритеты. К взаимоотношениям в группе я уже адаптировался, они не имели сколь-нибудь значительного давления на мои намерения, потому что их время неумолимо утекало, как в песочных часах.
Нам сказочно везло с погодой. За все дни переходов по ледникам и перевалам солнце ни разу не пряталось, потому что на небе ни облачка, ни «пёрышка». Не часто Белуха так открывает посетителям «свои объятия», не всех подпускает к себе, не всем даже показывает свою красоту, кутаясь в облака. Бывает так, что паломники днями стоят у подножия и ждут, чтобы хоть увидеть её из долины. А когда она закрыта белым «одеялом», то никто не поднимается на ледниковые склоны, опасно. В это время Белуху орошает снегопад, часто образуя лавины. А если грозовые тучи обнимают гору, то на её «плечах» растёт статическая электризация атмосферы и человека с кучей металлического снаряжения если не ударит молния, то будут бить или больно щипать мелкие разряды. На себе испытал, не однажды, в высокогорье такой казус.
К примеру, однажды знаменитый альпинист Райнхольд Месснер, который, якобы в одиночку, взошёл на все восьмитысячники в Гималаях, прибыл сюда с целью восхождения на вершину Белухи. Так вот, она не подпустила его к себе. Более того, налетевший шквал изорвал его палатку. И, не дождавшись подходящей погоды, он уехал, ни с чем. Тому были свидетелями и местные метеорологи и спасотряд.
А мы, в этом своём походе, как-то даже не задумывались о том, как нам благоволит погода. В динамике движения всё происходящее воспринималось как само собой разумеющееся. Кончался восьмой день нашего маршрута. Заворожённые местом, мы, едва забросив рюкзаки в палатку, не сговариваясь, вышли на сужающийся гребень перевала в сторону его спуска на юг, в Казахстан.
Небо стало с ускорением темнеть, взошла полная Луна невероятной величины. Едва оторвавшись от края небосвода, её румяный «каравай испечённого хлеба» давал очертаниям белых увалов плеч Белухи желтовато-оранжевый оттенок. А в противоположной стороне (на западе) узкой стрелкой в четверть горизонта неба догорал червонным золотом секундами бледнеющий закат. Все линии рельефа и краски в округе расплылись пастелью, и мы увидели живые картины Николая Рериха. Оказывается всё так в натуре и выглядит, как он изображал. Мягче становились все грани и оттенки красок, секундами менялись и медленно бледнели. Вскоре всё стало одноцветно серо-белым с золотым отливом в лунном сиянии. Звёзды на ультрамариновом небе становились всё ярче и своим блеском уже покалывали глаза. Время для нас будто остановилось, мы молча замерли, как перед иконой, затаив даже дыхание в разряженном воздухе.
Резко падающая температура воздуха и усталость заставили-таки всех лезть в свой домик. Опять в тесноте и духоте от испарений примуса и «кухни», поджав плотней ноги, мы расселись вдоль стенок палатки в ожидании ужина при свете Луны. График дежурства в этих условиях перестал соблюдаться, готовили исключительно женщины по собственной инициативе. В таких условиях это было естественно.
Переключившись от созерцания первозданных красот округи, я вернулся к суровому вопросу о восхождении на вершину. Моя интуиция требовала отказа на уровне жизни и смерти, заглушая логику очевидной безопасности маршрута. Моё опасение имело тотальный характер, включая и душу, и тело. Полагая, что нечто неочевидное грозит всей группе, я стал отговаривать ребят от восхождения, уверенно отмахнувшись от возможной насмешки:
– Знаете, собратья по маршруту, я чувствую нутром здесь какую-то опасность. Что-то во мне говорит, что надо быстрее спускаться отсюда. Можете надо мною посмеяться. Для меня же главной целью похода было как раз восхождение, а теперь я вам говорю, что не надо идти на вершину. Да, она открыта нам, но на ней «горит» красный сигнал светофора, я бы так сказал. Задерживаться даже на перевале нельзя! Предлагаю завтра же спуститься к Катуни.
Через значительную паузу после моего предложения последовало нечто совершенно неожиданное, для меня. Сам руководитель, Николай, стал вторить тому же:
– Я тоже не хочу беспокоить священную гору, не пойду. Бывал на ней уже раньше, повторять незачем. Кто хочет, пусть идёт, путь здесь простой, безопасный.
«Ну и руководитель, – подумал я, – вместо положенной организованности, отпустил «вожжи» для анархии. Делайте мол, что хотите…».
И, ещё более непредсказуемо, Игорь немедля вторил Николаю:
– Я не пойду. Не стоит, «не испытывать Бога своего».
Я искренне удивился именно их реакции на моё предложение, чего предположить было никак нельзя, наблюдая твёрдость натур. Продолжительную тишину прервала Люба, уверенно «подобрав брошенный жезл» руководителя и предложила:
– Давайте голосовать! Кто завтра пойдёт на вершину – поднимите руки!
Руки подняли четверо: Мила, Люда, Люба и Владимир.
Николай без малейшей паузы выдал инструктаж:
– Маршрут прост, идите в одной связке. Подъём вам в четыре утра. Пока не взойдёт солнце, наст будет держать, легче идти.
Молча согласились и стали ужинать. Я завёл свой будильник на ручных часах и огласил:
– Спите спокойно, я разбужу, мой будильник гарантирует.
Ночной морозец на этой высоте крепит на поверхности рыхлого снега наст толщиной около трёх сантиметров, если не более. Но при этом надо шагать по-кошачьи, постепенно нагружая своим весом стопу на насте, иначе сразу провалишься по колено. На предвершинном участке снег глубокий.
После ужина все затихли, разместившись штабелем на ночь в своих спальниках головами на восток. Я, по обычной своей скромности, лёг с краю, левым боком к торцу палатки. За этой стенкой – обрыв гребня на юг, в Казахстан. Сна не было у меня совсем. Начало мучить тяжкое ожидание спуска к Катуни, воспринимаемой теперь такой родной и спасительной. Завтра они сходят на вершину и только послезавтра – спуск к «зелёнке». Выдержать в таком состоянии столько времени без движения мне представлялось нелёгким испытанием. Гулять-то здесь негде, днём будет подобие «сковородки».
Поскольку я лежал ещё и в нижней по склону части палатки, то, не преднамеренно, конечно, а просто по закону физики, ребята постепенно сползали на меня, прижимая к холодной стенке. По-другому поставить палатку здесь не представлялось возможным. Согреться и расслабиться было очень трудно, если вообще возможно. Только здесь я очень сильно пожалел, что оставил дома свой пуховый спальник. Время для меня будто остановилось.
Полная Луна уже висела прямо над моей головой, освещая ещё ярче всё в палатке. Она шептала мне: – «Терпи, всё пройдёт, всему свой срок. Надо потерпеть». А во мне всё твердило: – «вниз, быстрее вниз!». Такого со мной никогда не бывало. Не менее мучительно мне было четыре года назад, на высоте шесть тысяч метров над уровнем моря, на предвершинном гребне пика Ленина на Памире. Но тогда мне было жарко в пуховом спальнике лежать утеснённым между товарищами. А мучило совсем другое: горная болезнь и сухость в горле до бритвенной рези. Вытопленная из снега вода не спасала. От этого всего и спать не мог. А здесь, наоборот, физическое состояние прекрасное, но холодно. «Да что ж такое, в самом деле! – говорил я мысленно сам себе, – Спи давай!» Но сна не было. Была боевая готовность…
Стояла тишина, схожая с тишиной в пещере. Вдруг налетел шквал ветра, готовый разорвать палатку. Его будто включили за моей головой, и он трепал тонкий полог несколько секунд. И снова штиль, как «по мановению палочки». Палатка уцелела, только стойка из моей лыжной палки свалилась на меня, и полог опустился на спящих. Никто не шелохнулся. Высвободив руки из спальника, я поставил стойку на место, подняв полог в прежнее состояние. Прошло какое-то время тягостных мучений (часов я не наблюдал) и всё повторилось, один в один. Опять, без предварительного шума, будто ниоткуда (хотя, пожалуй, со стороны Казахстана) шквал ещё сильнее потрепал палатку, считанные секунды. И так же резко исчез, словно «выключили». Опять наступила прежняя тишина. Я снова поднял полог и укрепил стойку. Ветер будто подбадривал меня или игрался. А я ждал знаменья. Может быть за ним, в тайне даже от себя, и пришёл сюда.
Через некоторое время опять всё в точности повторилось. И тут, после третьего сеанса шквала, той же продолжительности, меня осенило: ветер – это осознающая сущность, как и все стихии. И я понял, что он своими порывами просто торопит меня покинуть это место, подтверждая мой внутренний вектор. «Так вот же оно, знаменье! Вот как нынче!» Люди полагают, что ветра образуются от разности давлений в разных регионах и от разности температур. Но это лишь некоторые следствия. А первопричины стихийных явлений лежат в области непознаваемого для человека. Эта область многократно больше доступной для познания сферы. За гранью, между познаваемым и непознаваемым, человек может лишь придумывать сколь угодно версий, равных сказкам, а потом верить в них.
После такого осознания мне стало легче, и я смиренно стал чувствовать себя, как никогда раньше, единым со всей окружающей меня природой. Мне стали понятны не только физические, но и метафизические процессы, происходящие здесь. И подтвердилось, на уровне убеждения, знание о том, что в последующие два дня произойдёт всё по плану и банально безопасно. А вот уже на «зелёнке» я, почему-то, не видел своего контакта с группой…? Это стало интереснее всего. Смирившись со всеми обстоятельствами, я расслабился, и дремота не заставила себя ждать.
Но не успел я уснуть, как в глубинах одежды и спальника прозвонил мой будильник на руке, едва слышим только мной. И я хриплым от сухости воздуха голосом, что было сил, воззвал, как сигнальщик:
– Восходители, подъём!
Соседи зашевелились, стали молча выползать из спальников. Очень аккуратно, чтобы не тревожить сон остающихся, ребята стали одеваться и обуваться, не босыми же в снег. Вязко тянулись минуты, пока они возились, как овцы в загоне при приближении хищника. Без завтрака (как обычно в таких случаях), чтобы до солнца подняться как можно выше к вершине, собрав снаряжение, восходители покинули палатку. Наступила прежняя тишина и облегчение, будто от удовлетворения законченной работой. В палатке стало непривычно свободно, и я отполз от холодной стенки. Чтобы, наконец, согреться, я с головой погрузился в спальник и, приняв позу эмбриона, быстро уснул. Тело очень устало лежать ночами навытяжку и откликнулось благодарной негою.
Проснулся от того, что стало жарко. Это солнце уже нагрело воздух в палатке до банной температуры. Предстояло «париться» весь день. Снаружи – склон по обе стороны от палатки, ни присесть, ни размяться и солнце палит нещадно; мы на горбу у Белухи. Николай и Игорь выползли из спальников одновременно со мной. Я посмотрел на циферблат, но мои часы стояли на четырёх утра, видимо, позвонив из последних сил. Подкрутил головку завода до упора – стоят. Немного потряс часы – пошли. Странно, такого с ними, за пару лет их жизни, ещё не бывало. Ни разу ни ронял, ни ударял. Сверил время с Николаем.
Без взаимных приветствий и не сговариваясь, мы втроём без промедлений высунули головы из палатки, чтобы проследить за движением наших восходителей. Выход из нашего жилища был направлен как раз в сторону вершины. Без труда мы разглядели и посчитали чёрные точки наших людей на стерильно белом поле предвершинного склона. Они уже приближались к вершине, но очень медленно, видимо наст уже растаял. В волнении мы стали неотрывно следить за ними, распахнув входные пологи палатки. И, несмотря на определённую неприязнь ко мне, все трое, плечом к плечу, стали сидеть у входа, даже в мыслях не думая о завтраке. Какой тут может быть аппетит, при волнении за товарищей, да ещё и на жаре. Воздух стоял недвижим, поэтому в палатке, видимо, от холодного днища и под защитой белёсого тента, было легче, и покидать её не имело смысла. А снаружи «разогревалась сковородка» от направленных под прямым углом солнечных лучей, на девяносто процентов отражающихся от чистейшего снега во все стороны. Время потянулось не менее мучительно, чем ночью. Хотелось бежать бегом вниз, к травке.
Наконец, они на вершине. Стоят, может, и машут руками, но нам не видно, на ослепительно белом. Постояв там пару минут, чёрные точки двинулись вниз тем же путём, по более пологому гребню теперь уже слева направо. Снова считаем, каждый про себя, и так на каждом участке. Каждая точка то пропадает, то вновь появляется. Вот четыре снова вместе, слава богу. Но какое-то тревожное чувство, по моим ощущениям, растёт у всех нас троих, как ни странно. Никто не произносит ни слова, и уж тем более не смотрит на соседа. Восходители спустились лишь метров на сто, как вдруг одна точка соскользнула и поехала по крутой стороне предвершинного гребня в нашу сторону, как на санках с горы, и исчезла в снежной стихии через пару сотен метров.
«Что такое?!!! – закричало у меня в голове. Неужели они пошли вниз не в «связке»?! Это же может означать, что кто-то съехал в бергшрунд, других вариантов нет… Какой кошмар!!! Такое предположение хотелось гнать из головы. Каждый из нас троих точно мысленно сматерился. Но мы молча сидели в оцепенении несколько секунд, тщательно всматриваясь и пытаясь посчитать оставшиеся на виду точки наших людей. Видно было пока только три. Разморённые от жары, как варёная морковь, мы молчали, понимая, что нужно идти на выручку.
– Вроде все четыре вижу! – впервые за утро, нарушил тишину я, через секунды.
– Четыре… – вторил мне Николай неуверенно и сматерился себе под нос, – Кто пойдёт? – через паузу строго спросил он.
«Почему бы не тебе самому? Ты же их одних отпустил. Я бы на месте руководителя, превозмогая нежелание, пошёл с ними для страховки, а то трёх женщин «повесил» на одного парня» – подумал я в доли секунды. Мне совершенно не хотелось делать его работу. Но если бы он дал мне команду, то я с готовностью и без слов пошёл бы. Поэтому успел помедлить лишь пару секунд, потому что меня опередил Игорь:
– Я пойду, – и начал быстро собираться.
Я точно знал, что никому из нас троих совершенно не хотелось идти, и инициатива Игоря сильно подняла его в моих глазах. Настоящий воин, с таким можно и в разведку, как говорят. Он быстро обулся и пошёл налегке, не взяв никакого снаряжения. Если не присматриваться, то могло показаться, что он даже не проваливается в снег, но он проваливался выше икр. Силён, солдат! Как будто вчера у него не было тяжёлого перехода. Началось ещё более мучительное и тревожное ожидание.
Чёрная точка, исчезнувшая под вершиной, так и не появилась больше. Другие точки снова то появлялись, то исчезали по одной в разное время, двигаясь несвязно. Посчитать их вместе не получалось. Наверх шли дружно, а теперь в разнобой. А Игорь очень быстро шёл им навстречу и, наконец, они встретились. Без малейшей остановки и вместе стали спускаться. А я снова стал силиться считать их точки, Николай видимо тоже. Уже полдня мы неотрывно всматривались в белую «скатерть» с чёрными «мушками» наших ребят до рези в глазах.
«Один, два, три, четыре, пять – все, слава богу!» – выдохнул я молча.
Николай тоже сдавленно и облегчённо вздохнул. Ребята теперь шли гуськом след в след, не растягиваясь. Теперь они двигались на последней прямой, по своей протоптанной тропе, в направлении палатки. Но не успели дойти нескольких шагов до нас, как Николай, не выдержав, громко спросил безадресно:
– Что у вас там случилось?
– Я спустила пуховку вниз по склону, устала её нести. Было жарко, думала, догоню её, а она съехала не туда… и пропала, – призналась, виновато, тотчас Люда.
Всем стало понятно, куда пуховка съехала – в трещину. Никто не проронил ни слова. Глупость – дело личное. Когда же все залезли в палатку и расслабились, Люда вдруг заявила:
– Сейчас отдохну и пойду её искать, жалко пуховку.
Тут я не выдержал:
– Ты что – дура?! Кто ж тебя отпустит?!
Воцарилась долгая тишина. Никто ни на кого даже головы не поднял. А я почувствовал всеобщую благодарность, направленную в мою сторону, за инициативу «постороннего». На меня-то не грех и обидеться, а им ещё в дальнейшем общаться, в рамках клуба, и поэтому обижать друг друга словом – лишнее. Всем, мне показалось, было понятно, что мне не место в их коллективе. А Люда, согласно её взгляду на меня, нисколько и не обиделась, даже напротив, была благодарна, за твёрдое мужское слово. Наверное, ей в жизни его очень не хватало. Я, быть может, освободил её душу, таким образом, от намерения поиска и привязки к предмету, дав облегчение и телу.
Женщины, отдышавшись, стали готовить обед, ведь никто с утра и росинки в рот не брал. Стало, почти как в парной, от работающего примуса. Таких завжоров, как Люба, я ещё не встречал. Благодаря её подготовке продуктов и участию в приготовлении блюд, трапеза готовилась оперативно и легко. Не сказать, что очень вкусно (на моё восприятие), но питательно. Она всю зиму привычно делала заготовки для похода: сама вялила мелкими кусочками мясо, овощи и прочее для супов. В походах, особенно на ледниках, супы лучше всяких каш, восполняют и потерянную влагу, и лучше питают тело. Сама же Люба и сухари сушила на всю группу, и сливочное масло топила для каш. Потом всё фасовала, на каждое блюдо.
После обеда и до ночи всем пришлось безвыходно сидеть в палатке. Молчание было перманентным и тяжёлым. Завтра предстоит спускаться по леднику к Катуни, может статься, целый день, на более, чем две тысячи метров, только по высоте, а по горизонту ещё больше. А ледник весь рваный и снег в его верхней части по колено – видно опытному глазу. Снова будет подъем в четыре утра с надеждой на крепкий наст.
Делать было нечего, и я, впервые за поход, вспомнил о чтении и достал книгу Карла Кастанеды. Мне, как антропологу-любителю, понравился стиль изложения исследований и ученичества автора, профессионального антрополога. И тут произошло невероятное. Увидев её в моих руках, Игорь вдруг ожил, в нём проявился совсем другой человек. В его взгляде было искреннее удивление и интерес, как у голодного, при виде пищи. Он тут же попросил книгу у меня, уверенно протянув руку. Я охотно отдал, с не меньшим интересом. Найдя интересную для себя страницу и не особо ожидая отклика, Игорь предложил обществу:
– Хотите, я вслух почитаю?
Публика не внимала. Я был готов слушать и с удовольствием предвкушал… Он стал читать, и было видно, как ему нравилось это делать. Какой-то груз с души у меня отвалился, стало легко и даже, к моему изумлению, уютно в тесной палатке. Как будто что-то пере-щёлкнуло в душе, как переключателем: вся группа в этот момент стала для меня семьёй. Но радость моя длилась недолго. Через считанные минуты, видимо, не выдержав альтернативности мировоззрения писателя со своим, Николай рявкнул:
– Хватит, не могу это слушать!
И на сутки воцарилось молчание. А у меня будто обратно повернулся «переключатель». Но напряжение я чувствовал лишь от Николая, а остальные остались подавленными настроением руководителя, но всё равно более близкими мне, чем раньше. Игорь почитал книгу, про себя, ещё несколько минут, и вернул её, из вежливости, мне. Теперь я погрузился в повествование, чтобы облегчить себе неуютную атмосферу вынужденного соседства и с удовольствием переключить своё внимание в другую реальность. Но время всё равно осталось тягучим (один час за три).
Вечер и ночь минули. Они были схожи, с предыдущими, как близнецы. Но, с приближением момента спуска с горы, всё стало уже терпимым. Залог здоровья и состоит в смирении с обстоятельствами, когда изменить ничего нельзя, или же не стоит. Как и положено ему, вовремя прозвонил мой будильник и осёкся. Часы мои встали окончательно, на четырёх часах утра. И сколько я их не тряс, так и не пошли, при полном заводе.
Все стали быстро собирать рюкзаки, готовить снаряжение и одеваться, неизбежно, в тесноте палатки, толкаясь всеми частями тел. Обуваться и страховочную обвязку надевать поверх одежды приходилось внутри палатки, и всем одновременно. Луна уже покинула небосвод, и мы собирались в темноте, на ощупь, по одному выбираясь наружу. Мне удалось собраться и вылезти первым, сразу с рюкзаком на спине. А пока я ждал выхода остальных, то успел замёрзнуть, не смотря на то, что был в пуховке. Особенно мёрзли ступни. Ботинки же не утеплены, в них только два слоя кожи. А между ногой и вибрамом два носка, один из которых толстый шерстяной. Хотелось быстрее двигаться, чтобы согреться. Морозец был крепок, а женщины ещё возились в палатке, когда мы уже выкручивали ледобуры, крепящие её на льду. Потом сворачивали «домик» и, развернув верёвки, встёгивались в «связки».
Николай поменял предыдущие составы «связок». В идущую впереди он поставил лидером меня, за мной Милу, а замыкающим Владимира. Это было разумным для спуска и с моей точки зрения. Я, при этом, торю тропу, открывая возможные трещины, запорошенные снегом, а Владимир, как проверенный в «боях» – страхует нашу «связку». Сколько мне ходить вторым, а тем более последним?!… Я был счастлив!
Отсюда, с перевала ТКТ, Катунский ледник видится вертикально падающим на два километра по высоте, разделённый надвое нисходящей скальной грядой, похожей на гребень ирокеза. Возвышаясь на десятки метров над ледопадом, этот «ирокез» своими острыми зубьями будто взывает к небу, сдавливаемый льдами. Отсюда здорово спускаться на параплане, а пешком – дух захватывает! Но «не так страшен чёрт, как его малюют».
Снежный наст держал, когда мы начали двигаться по-кошачьи. Но при резком увеличении крутизны мне пришлось с усилием пробивать наст, проваливаясь по колено в снег, чтобы не съехать в убийственный спуск. Я шёл серпантином, пробивая остальным наиболее безопасную тропу. Вскоре полоса наста закончилась, оставшись выше, и мы прокладывали тропу по рыхлому снегу ещё около часа. Несмотря на глубину покрова, круто идти вниз было легко, снег гармонично тормозил, не давая разогнаться до опасной скорости. Я бы, вообще, согласно старому навыку, стал спускаться прыжками по-прямой, на два-три метра каждый – так быстрее. Но в «связке» это не возможно, к тому же я ответственно прокладывал удобную колею для коллектива.
Когда закончился снежный покров, перед нами разверзлись гигантские горизонтальные трещины от скалы, что справа, до скалы, что слева. Весь ледник, по вертикали, пугающе раскрыл свою гармонь разломов, сверху донизу. Но в этой части склон его уже не был сильно крут. Страшные, издалека, трещины образовали сказочный лабиринт со стенами более трёх метров высотой. Чтобы не путаться с верёвкой, мы освободились из «связки» и пошли в свободной друг от друга манере. Было видно, что склон постепенно становится всё более пологим и групповая страховка уже не потребуется, поэтому я свернул в буфту верёвку и пристегнул её к рюкзаку в готовности, при случае, применить. Опять все члены группы «потерялись» в закоулках ледового лабиринта. Но Мила решила не отставать от меня, и мы стали обмениваться впечатлением от красот ледовых стен лабиринта, поминутно восторгаясь меняющимися картинами. Это было весело, легко, и так естественно, что я не преминул удивляться контрасту с предыдущими днями отсутствия человеческих отношений.
Широкие трещины образовали, чудесным образом, коридор, как будто для удобного прохода таким, как мы. Я получал удовольствие, выбирая интуитивно повороты в поперечных трещинах, для постепенного спуска серпантином. Следовавшей по моему следу, на припорошенном снегу, группе не требовалось уже внимания для ориентирования. Солнце уже взошло из-за горной гряды, и гладкие стены бутылочного льда светились изумрудами в преломляющихся утренних лучах, украшая наш путь. Мы снова попали в «царство Снежной королевы». Лишь редкий, но звонкий треск рвущегося при движении льда остерегал нас от задержки в этой сказке. Голова уже кружилась от частых поворотов в лабиринте, которому, казалось, не будет конца. Вертикальным ледопад виделся только с перевала, впрочем, как позже оказалось, и снизу, с «зелёнки», тоже. С понижением уклона мы стали с ускорением пробиваться по трещинам напролом, внутренним «компасом» определяя направление.
Всё тело, особенно ноги, радовалось спуску в тёплую атмосферу казахстанского лета. И на душе стало как-то легко, будто бы все трудности остались позади. Покинув ледопад с лабиринтом, мы вышли на почти горизонтальную ледяную реку шириной в сотни метров, всю изорванную широкими поперечными трещинами, преграждавшими нам путь. Они «резали» лёд от края и до края – от одной скальной стены до другой. Ледник горбился, как вдоль своего движения вниз, так и поперёк. И каждый член команды выбирал удобный для себя путь, обходя трещины, либо перепрыгивая очередную, таким образом, теряя из виду остальных. Сложностей не предвиделось и все снова «потерялись» в неровностях ландшафта. Шаг стал вынужденно неровным, как всегда на таких участках и движение к языку ледника выматывало нас не один час. Часто приходилось останавливаться и высматривать приемлемый проход.
Мила предпочла идти со мной до самой «зелёнки» и мы с ней почти беспрерывно обсуждали лишь то, как лучше преодолеть иное препятствие. Обсуждение этого не требовалось, по сути, мы просто так себя отвлекали от усталости, а заодно – развлекали. Я чувствовал, что ей комфортно идти со мной, в отрыве от группы. Только иногда нам виделось, как за изгибами ледника мелькала голова то одного, то другого участника.
На ходу я вспомнил рассказ Стаса о том, что наиболее простой по категории сложности путь на вершину Белухи лежит как раз по этому леднику. И если я в будущем поведу на гору или просто к подножию Катю, либо кого ещё, то сделаю это именно с этого ущелья, красота которого меня сразу покорила.
Спустились мы с языка ледника к левому склону ущелья, когда солнышко уже стало клониться к вечеру. И, уже по крупному курумнику моренного выноса, вышли на берег маленького круглого озерца. Вода в нём отливала изумрудом, преломляя лучики солнца, и была прозрачной до глубокого дна, где, как через лупу, кратно увеличенные в размере, покоились гигантские, круглые валуны. А слева, над водоёмом, нависала вертикальная скала в добрую сотню метров, за которой лишь зелёной травкой успокаивал глаз крутой склон гривы, отделяющей российскую территорию от казахстанской.
Оказалось, что к этому месту мы с Милой вышли последними. На огромных, обкатанных ледником когда-то, округлых валунах, окружающих озерцо у самого среза воды, сидели на единственном за день привале Люда, Люба, Владимир и Николай. Видно было, как все устали, сидели понуро и горбясь спинами. А мне, не смотря на усталость, было радостно, всё же гладко прошло – чего грустить? Игорь, видимо, первым проскочил этот водоём, устремившись к травке.
Крупные камни, размерами и формами схожие с лежащими медведями, красиво окаймляли пруд идеальной формы, согласно закону о золотом сечении. Шёл десятый день похода. А у нас за всё это время не было возможности не то, чтобы помыться, а даже просто раздеться. И так потянуло меня искупаться, что едва я освободил спину от рюкзака, так сразу громко и весело заявил присутствующим:
– Кого будет смущать мой голый вид, тех прошу отвернуться. Я хочу максимально освежиться! Сил нет, как хочется!
И стал быстро раздеваться. Владимир при моём заявлении взвалил на спину свой рюкзак и пошёл прочь в сторону «зелёнки». Не желая мочить (чтобы потом мучиться сушить) ни одного элемента одежды, я разделся догола и нырнул рыбкой в колюче холодную воду. А когда с удовольствием вынырнул на поверхность, то увидел, что Николай последовал за Владимиром с явно недовольным видом, на ходу накидывая на плечи рюкзак. Девушки же начали раздеваться, следуя моему примеру.
– Я не буду на вас смотреть, девчонки, будьте свободнее, – воскликнул я из воды, демонстративно глядя в сторону от них.
Вылезая из воды, спиной к девчатам, я стал быстро одеваться. Моё тело благодарно отозвалось бодростью. Покидая спешно берег водоёма, чтобы не смущать женщин, я слышал позади всплески воды – женская часть команды купалась. А я без оглядки последовал в сторону зеленеющих уже недалеко полян, перемежающихся островками кустарника и редкими, стоящими по одному, низкорослыми молодыми кедрами. Шёл не спеша, желая дойти до обеденной стоянки вместе с женщинами и дольше не видеть Николая. Так я вскоре услышал шаги и разговор догоняющих девчат. И, уже вместе, мы вчетвером зашли на очень уютную полянку с костровищем.
Николай, присев на корточки над костровищем, уже собирал на нём «колодец» из хвороста для костра. Это было удивительно, потому что он впервые при мне занялся походным бытом. Не скрывая приподнятого настроения, я скинул с плеч рюкзак и, едва разогнув спину, не вполне осознанно, направился к Николаю. Но зачем? Ведь и так понятно, что будем здесь обедать. Все мы одинаково устали от недельного пребывания на ледниках, но никто не выказывал состояния облегчения, к моему сдержанному удивлению. Никто не успел ещё ни присесть, ни заняться сбором дров для костра, что надо было делать в первую очередь, потому что со вчерашнего дня ещё не ели.
Видимо, подсознательно стремясь разрядить напряжение между нами, я подошёл вплотную к Николаю сбоку и дружелюбно спросил:
– Что, Николай, на обед встали или ночевать здесь будем?
Он, не поднимая на меня головы и сидя на корточках у костровища, буркнул:
– Пошёл на х…
– Не понял!!!… Ты почему это меня послал?! – повысил я голос, вспыхнув всем нервом. Кулаки мои рефлекторно сжались, а правая рука начала движение к размаху…
В ту же секунду я опомнился, что негоже ударить руководителя при его группе, роняя его авторитет. Да это вообще не по мне. Как сказал Владимир Высоцкий в своих стихах: «…бить человека по лицу я с детства не могу…». Это прямо про меня. А здесь, можно сказать, в экстремальных условиях, меня уже второй раз подмывало к этому…
– Плохо себя ведёшь… – совсем вполголоса пробормотал он, заметно струсив от моей реакции.
Спиной я чувствовал внимание всей группы. Они, конечно, всё видят и слышат. У меня ни доли смущения, а от ребят исходит лишь любопытство, я чувствовал.
От досады неисполненной сатисфакции, я бросил напоследок Николаю:
– Пень ты обоссанный!…
– Тогда, тем более… – облегчённо выдохнул он, видя моё отступление.
Я развернулся к группе и шагнул к ним. Ребята стояли в оцепенении и изумлении от инцидента. Но в их глазах не было претензий ко мне, а лишь открытый интерес. Игоря среди них не было. Мне подумалось, что он, видимо, опасаясь своего участия в случившемся, или немого наблюдения, просто сбежал дальше вниз по ущелью, предчувствуя, что обеда здесь уже не будет. Не медля ни секунды и не обращая внимания на остальных, я подошёл к Любе:
– Выдай мне, пожалуйста, Люба, мою долю продуктов и я пойду дальше один.
При этом я заметил боковым зрением, что Николай, подхватив свой рюкзак, с ускорением ринулся в направлении дальнейшего движения по маршруту, быстро скрывшись за ближайшими кустами. Он так и не успел разжечь костёр.
Девчата, к моему искреннему удивлению, с изумлением от произошедшего и даже с уважением, смотрели мне прямо в глаза, подступив втроём ко мне вплотную. А я, с улыбкой удовольствия от быстротечно разрешившейся ситуации и с благодарностью отвечая им взглядом, молча, уже прощался с ними.
Владимир, тем временем, за их спинами, смущённо и не спеша, взвалил смиренно свой куль на спину и обречённо побрёл вслед за парнями, не думая и прощаться со мной. Люба, в ответ на мою просьбу и видя решимость, деловито и вслух посчитала:
– Идти тебе один день до перевала и через него, три дня спускаться до Тюнгура по Кучерле. Получается продуктов тебе надо на четыре дня. Через какой перевал пойдёшь?
– Через Восточно-Капчальский. Пожалуй, за четыре дня дойду, – уверенно согласился я.
Она быстро выдала мне паёк, состоящий из: трёх горстей риса, немного топлёного сливочного масла в жестяной банке из-под растворимого кофе, хороший кусок сала, горсть карамели и немного сухарей.
– Всё, что могу, не взыщи, продуктов впритык, сам понимаешь. Остальные неделимы, потому, что расфасованы…, – оправдываясь, подытожила она.
В спортивных, да и в любых длинных походах, наедаться не приходится, продуктов много не унесёшь. Все дни впроголодь, но для пополнения сил хватает.
– Я не в претензии, Люба, всё понимаю, – закончил я с этим вопросом.
– Спальник в городе отдашь Люде, а верёвку занесёшь мне. Сам понимаешь, хоть она теперь тебе не нужна, но придётся тебе, по распределению веса, нести до конца. Так что удачно тебе вернуться домой и до встречи в городе. А за клюквой мы с тобой ещё сходим осенью, – со смущением от присутствия товарищей добавила Люба.
Был виден её порыв обнять меня, но она остановила себя, стесняясь девчат, после инцидента.
– И вам удачно завершить поход! – попрощался я со всеми.
Люда неожиданно, в упор глядя мне в глаза, огорошила:
– Андрей, если бы ты не был женат, я бы осталась здесь с тобой… Счастливо тебе и до встречи в городе.
– Удачи! – с теплотой в голосе и во взгляде добавила Мила, поднимая с земли свой рюкзак.
Вообще-то, я хотел уйти вперёд, не мешая их обеду. Но они последовали за руководителем, как тот – за Игорем. Ну, вот и состоялось то, что я предвидел ещё на ледниках. И, расставшись с группой, я почувствовал небывалую свободу, облегчение и удовлетворение всем произошедшим. Мне теперь очень сильно захотелось одиночного похода! Это будет новый для меня опыт.
Глава вторая. В свободном «полёте»
Не успел я перевести дыхание, как девчата исчезли за высокими кустами, словно растворившись в воздухе. Наступила непривычно полная тишина. События дня были столь быстротечны, что моему восприятию потребовались минуты для переключения на иной темп и стиль бытия. Оставшись в одиночестве и имея, наконец, возможность полностью слиться с окружающей средой, включая все чувства, я стал не спеша осматривать окрест. Место было чудное. В сравнении с северными (холодными и сырыми) склонами Горного Алтая, откуда мы пришли, здесь был сухой и жаркий (средне-азиатский) климат. На северных склонах уже началась осень, а тут продолжалось лето. Но, к сожалению, задерживаться даже на день мне было невозможно. И не главное, что продуктов был скудный запас, это меня не очень подгоняло. Главное состояло в надвигающейся непогоде, о чём говорило то, что Белуха, на которую я впервые за день оглянулся, уже укрылась даже не белыми, а серыми, несущими обильные осадки, тучами. А впереди меня «ждал» ледниковый перевал, через который лучше было перейти до выпадения там свежего слоя снега. Да и отсутствие у меня палатки ещё больше торопило в той же связи с надвигающимися в районе дождями. Ко всему прибавить моё обещание домашним вернуться первого сентября. Надо быть осторожнее с обещаниями!…
Завернувшаяся «в печали» толстым одеялом Белуха сильно угнетала мою радость душевного освобождения от надоевшей компании. Вот это да! Едва мы успели спуститься, как благоволившая безмятежностью погода пригрозила нам, будто не угодным в этих пенатах. Как тут не поверить, что и неорганическая порода, и всё вокруг – живое. Но открытый небосвод ещё оставался чистым, по-летнему светило и грело солнышко.
После недельного созерцания белоснежной пустыни, через специальные солнцезащитные очки, окружающая теперь зелень крутых склонов успокаивала глаза и радовала своей теплотой, ароматами трав, листьев, кедровой хвои. На противоположном склоне, разрезая травяной ковёр и «оправу» из скал, серебрилась стометровая ниточка водопада Рассыпной. И кто его так назвал?… Он вовсе не рассыпался, при такой погоде. Позади – устрашающе грозно сползал с Белухи рваный ледник, с которого мы только что спустились. Из его языка, раскрывшего гигантскую «пасть», в распахнувшуюся долину, широким потоком, вырывались на свободу тёмные воды Катуни. И дальше река разливалась на сотни метров, омывая в своём мелководье камни порогов, тянущихся грядами вдоль русла. Многочисленные острова, делившие здесь реку на рукава, густо заросли кустарником, высокой травой и мхом на валунах, образовавших эти кусочки суши.
Весь склон правого берега Катуни в этом ущелье исключительно травяной, потому как обращён на юг. Под прямыми лучами солнца ни деревья, ни кусты выжить не могут. А на «моём» склоне левого берега (на северной стороне) и кустарник островками, и одинокие молодые кедры, потому собрать дров для костра мне не составило труда. Быстро разведя костёр, я сварил себе рис, обильно сдобрив его маслом. Сжавшемуся от чрезмерных нагрузок в экстремальных условиях желудку много не требовалось. Вместо котелка мне оставили алюминиевую миску, которую я обвил проволокой для подвески над костром. Помыв её после каши, в ней же и чай себе заварил из окружающего разнотравья. Ингредиентов на другие напитки мне не досталось. Надо было из дома всё-таки, дополнительно, взять хоть немного продуктов, на всякий случай.
Готовясь к ночлегу заранее, я обнаружил, за ближайшими кустами, с десяток двухметровых брёвен средней толщины. Видимо, пастухи, охотники или альпинисты заготовили их здесь на просушку, чтобы на будущее был запас топлива для костра. Место тут, видно, что удобное и обжитое. Есть старые следы от палаток, уже заросшие поднявшейся травкой, большое костровище. Может статься, что сюда и казахи заходят из смежного ущелья. Граница тогда была символической, пограничников не видно. Несколько брёвен я сложил в три ряда с промежутком в центре для камина, чтобы к ночи перенести туда огонь из костра. А вдоль брёвен с камином постелил каремат и спальник. На случай дождя у меня были два больших куска полиэтилена. Склоны здесь настолько прогреваются за день, что ночи тёплые, несмотря на близость ледников, в десятки квадратных километров, со всех сторон Белухи.
Как только меня оставили одного, я тотчас разулся и с удовольствием блаженствовал, ходя босиком по тёплой земле и мягкой травке. Освободившись от взаимодействия с хмурой группой и, с облегчением, вздохнув полной грудью, я стал мысленно, а то и вслух, разговаривать с представителями местной флоры и фауны. И мураши, и паучки, и птички не были мной обделены. Я был счастлив полностью слиться с окружающей природой, углубляться в суть явлений, слушать шелест трав и листьев, журчание реки и, сдавленный её потоком, приглушённый стук камней, гонимых по дну.
Такое погружённое общение со всей природой невозможно для меня, в компании даже с одним человеком, потому что моя натура концентрируется на нём, на его восприятии, на его запросах и нуждах, печалях и радостях. И даже не важно, кто со мною в контакте. В любом случае, при очевидной необходимости, конечно, я стараюсь чем-либо помочь этому человеку. Чаще словом и примером, понятными ему, глядя на окружающий мир его глазами.
Вернувшись к насущному, я достал подробную карту местности, на которой обозначены все перевалы в округе, чтобы уточнить свой дальнейший путь. Наметил места ночёвок, уже в Кучерлинском ущелье, и участки переходов, просчитав и примерное время их преодоления. Завтра предстоит самый ответственный день, поэтому запланировал самый ранний подъем. За полдня нужно успеть пройти до первого ледника, это самый лёгкий, но и длинный участок. Затем: по леднику, через перевал и вниз по другому леднику, сползающему в Кучерлу, и дойти до дров. Компромиссов этому плану у меня нет, потому что никак нельзя застать непогоду на ледниках. А уж на «зелёнке» в Кучерле ни дождь, ни снег не страшен, идти не опасно.
Не только близость непогоды, скудность пайка и отсутствие палатки, но и интуиция подгоняла меня в направлении дома. Хотя я и не чувствовал тревоги за своих домашних, по сравнению с прошлым годом, но что-то мне подсказывало: «быстрее, чтобы успеть…» А что успеть? – не ясно, как в тумане…
ИНТУИЦИЯ. Она присуща всем людям, как и другим органическим существам, во всяком случае. Но абсолютное большинство людей, предпочитая логические соображения ума, игнорируют её, не слушают, а значит и не слышат. А те, кто слышит, но не доверяет ей – не пользуются подсказкой глубин истины. Интуитивное знание обычно еле пробивается в сознание человека, чаще всего в виде предупреждения об опасности, но без конкретизации картины предстоящего будущего. А чтобы научиться слышать хоть долю предупреждения, требуется не только доверять своей интуиции, но и ввести внимание к ней в повседневную привычку. Однако, чтобы её просто услышать, требуется состояние душевного равновесия («…спокойствие, только спокойствие…»). Обычно человек, хотя бы изредка доверяющий своей интуиции, «услышав» её тонкий «голосок», пытается с помощью логики её расшифровать, интерпретировать. Это часто тупиковый путь. Все рассуждения уводят от правильного решения, особенно в критической ситуации. Лучше действовать спонтанно, не задумываясь, как это ни странно. Такое действие идёт напрямую от интуиции и, значит, в правильном направлении. Поэтому все решения лучше принимать в соответствии с первой мыслью, которая приходит в голову после постановки вопроса. История практики наиболее успешных в жизни людей подтверждает это. Ведь что такое интуиция на самом деле? Это связь со своим высшим «Я», с тем, что выше ума, что можно назвать, условно, разумом. Современный человек в своей суете и потоке информации со всех сторон утерял эту связь, но она силится тонкой «волной» пробиться до сознания. А высшее «Я» у каждого человека знает всё, что ему на самом деле нужно, что предстоит, и никогда не ошибается. Так человек создан «по образу и подобию».
Так, размышляя о пройденных последних днях и других, прошлых, походах, я окончательно решил не ходить с незнакомыми людьми на равных, а тем более, в подчинении чьей-то воли. Другое дело – быть самому руководителем. Подготовка и опыт, для маршрутов средней сложности, уже достаточны. А на сложные больше и самого не тянет, теперь другие приоритеты. Мой природный альтруизм уже мечтал привести сюда и своих близких, да и кого-угодно, кто доверится мне, сможет и захочет. Хочется делиться не рассказами, а всем набором персонального восприятия, получая от этого взаимное удовольствие.
Только что покинувших меня спутников я ничуть не судил, наоборот – хорошо понимал субъективное осознание каждого в отдельности. И даже знал о том, кто и как переживает теперь свои впечатления от произошедшего, от похода вообще. Это не так трудно, когда отбрасываешь любую предвзятость и суждение, когда принимаешь людей такими, какие они есть. Ведь каждый воспринимает и понимает в меру своих личных представлений, знаний, убеждений и опыта.
Мне теперь было легко и даже светло на душе. Всё сложилось так, как, видимо, должно было случиться. И даже хорошо, что ушли они, оставив меня отдохнуть в этом уютном месте.
Закат был умиротворяющим, в прямых линиях, вдоль горизонта, всевозможных оттенков оранжевого и жёлтого цвета, разделённых в середине тёмно-зелёной горбатой гривой «дракона», вынудившей Катунь повернуть в Казахстан. Цвета гаснущего неба предвещали ненастье.
Я перенёс огонь костра в камин, в окно между брёвнами. Он горел всю ночь, грея мне бок, а я, периодически, едва просыпаясь, менял положение тела для равномерности подогрева. А когда чувствовал уменьшение тепла от камина, то сдвигал брёвна подгоревшими торцами друг к другу, и горение становилось веселее. Было радостно и свободно, наконец, поспать под открытым небом, радовавшим стройной картиной ярких звёзд, которые здесь уже не «щипали» зрение, как там, откуда мы спустились. На Белуху я старался не смотреть, потому что вид клубящихся на её склонах серо-чёрных туч портил настроение, грозя дождём. Луна уже взошла, но ещё не выглянула из-за гряды, поднимающейся от моей стоянки. А в волнах Катуни, что струились в нескольких метрах от меня, вспыхивали серебристыми искорками проблески лунной дорожки. Казалось, что кто-то невидимый скачет беззвучно по воде, высекая искры. После спуска из области разряженного воздуха было настолько легко дышать, что я даже не замечал своего дыхания, будто его вообще не было. И лишь наслаждался усилившимися к ночи, от влажности, ароматами зелени и непередаваемым запахом только что вытаявшей из ледника массы воды. После тесноты и духоты ночёвок в палатке, отдых здесь для меня был равносилен пребыванию в раю, место было поистине райским.
Под глухие «шаги» камней по дну, шелест течения и отдалённый шум рвущегося на свободу, из жерла ледника, потока, я спал сном младенца. А едва небо начало светлеть, я поднялся хорошо отдохнувшим. Замоченному, с вечера, рису стоило закипеть, и он был готов, рассыпчатый и вкусный. Меньше часа мне хватило на завтрак и сбор. Рюкзак стал легче, ведь у меня забрали остаток бензина и примус.
Покидать это сказочное место не хотелось, но «делать нечего». Белуха ещё сильнее куталась в своё дождевое одеяло, как будто грозя мне. И я, как марафонец, не планируя в этот день даже привалов, бодро вышел на тропу. В атмосфере утренней прохлады, с удовольствием вдыхая влажный воздух, насыщенный благовониями трав и листьев, я сразу набрал крейсерскую скорость. Солнышко лишь коснулось первым лучиком зелёного «дракона» на горизонте и я радовался, что опередил его этим утром. Идти было многократно легче без зависимости от кого-либо, своим аллюром и без оглядки, тем более на Белуху. И вот что странно: свободный от иных мыслей, чем внимание к неизведанному впереди пути, я поймал себя на том, что меня более не интересуют вершины как таковые. Кажется, угас во мне альпинистский энтузиазм совсем, лишь только альтруизм – сводить кого-нибудь на гору – может ещё простимулировать меня к восхождению. Ай да Белуха, не пустила меня, неведомым образом. Приду ли ещё сюда, хоть раз? Кто может знать?
Ноги уже настолько свыклись с каждодневной многочасовой нагрузкой, что я их ощущал, словно коня под собой. Тропа сначала вела тем же (левым) берегом, очень комфортно, среди сочных трав и высоких кустов. Но, по истечении часа, она упёрлась в реку и едва просматривалась на противоположном берегу Катуни. Стало сразу понятно, что здесь единственный брод, а дальше по течению будет глубже. Дополнительным признаком брода являлась наибольшая ширина русла в этом месте и сплошные пороги, обозначившие мелководье. И хорошо утоптанная тропа на этом и том берегах показывала, что именно здесь, верхом на лошадях, переправляются все местные. Вода была полупрозрачной, в удалении от ледника, постепенно осаждая по пути известковую взвесь Белухи, но её температура была ещё неизменной. К моему вящему неудовольствию, брод пересекал русло ещё и по диагонали (видимо так располагалась мель) и был длинною не меньше двухсот метров. Ориентиром служило начало тропы на другом берегу.
Босиком, чтобы не мочить спасительную, на предстоящем перевале, кожаную обувь и засучив выше колен штаны, я зашёл в поток. Холодная вода обожгла резкой болью разгоряченные ноги. Глубина доходила до середины икр, но захлёстывала порой до колена. Ступням было больно соскальзывать со скользких камней, заклинивая между другими, особенно страдали пальцы. У дна камней было не разглядеть и ступать приходилось вслепую. Камни были не устойчивы, крутились под ногой, а другие били по косточкам, несомые течением. Холодная вода сильно усиливала боль, причиняемую ударами камней. От получасовой этой «пытки» лицо искажалось гримасами, а рот «благочинно» матерился. Пока я штурмовал брод, успело выглянуть солнышко из-за пограничной гряды, оставленной мною позади. И, выбравшись на сухой берег, я присел, с непередаваемым удовольствием, на пригреве, а мои промывшиеся ноги радовались сухим и тёплым носкам и ботинкам. Чтобы их быстрее разогреть, я ускорил шаг, удовлетворённый преодолением единственной водной преграды в этот день. Согласно карте, больше подобных препятствий не просматривалось.
Впереди простирался необъятный ковёр густой и сочной травы, сквозь которую прорезалась утоптанная лошадьми узкая тропка, радуя возможностью лёгкой прогулки. Но радовался я недолго. Через несколько шагов мои вибрамы стали хлюпать по воде, которая сочилась со склона сквозь траву, омывая поперёк тропу. Вода, на удивление, была чистейшей, её можно было пить. Видимо, где-то на склоне, был выход грунтовых вод. Но я, напившись из Катуни по ходу движения, пока не жаждал пробовать эту, разогнавшись в своей гонке. Чтобы поберечь ботинки от намокания, я попробовал пройти выше тропы по склону. И, забираясь всё выше и выше, понял, что это был тщетный поиск суши, весь склон был «болотом», потому и трава была такой сочной. От досады за перспективу мёрзнуть в сырой обуви на ледниках, я разозлился на минуту. Но, изрядно выматерившись, тут же посмеялся над собой. Ишь, размечтался – сухеньким проскочить. Знать судьба такая! Все ж испытания даются по силе. Сам сюда пришёл, никто не звал… И, окончательно смирившись, я хлюпал дальше почти час, ещё надеясь, что не захлюпает внутри ботинок. Но носки всё-таки намокли.
Наконец, я вышел на сухой участок и, не останавливаясь, устремился к приближающемуся островку кедрового леса, предвидя там неминуемую встречу с бывшей группой. Переобуваться не было смысла, потому что носки лишь намокли, а замены шерстяным не было. Через полчаса я уже не чувствовал влаги внутри обуви, настолько ноги уже адаптировались к походной жизни. Густой, непролазный лес ютился на относительно небольшом круглом яру, возвышающемся над Катунью, вынуждая её круто повернуть за границу. Слабая надежда проскочить в стороне от лагеря бывших соплеменников рухнула. Приближаясь к опушке леса, куда вела меня тропа, я разглядел ребят, «загоравших» в утренних лучах под кедрами. Палатки не было видно, а спальные места лежали прямо на траве почти у тропы. Ребята только выползали, по очереди, из спальников. Лишь одна Люба уже гуляла по поляне между их лагерем и мной. Мы встретились с ней поодаль от остальных. Она беззастенчиво и открыто обрадовалась мне:
– Привет! Как ты…? Как ночевал?
– Прекрасно! Как и вы, я вижу… Где ваша палатка? Как настроение у ребят?
– Если честно, настроение кисловатое… Игорь с палаткой куда-то пропал. Как убежал вчера из-под ледника, так мы его и не видели. Искали вечером, но не нашли.
– Вот это да!… А где Николай, его я не вижу? – я попытался разглядеть всех членов команды за Любиной спиной.
– Он рыбачит на Капчале, ты его увидишь, по пути твоего следования, – и она указала левой рукой в направлении тропы, уходящей вдоль русла этой реки.
– Там что-то ловится? – автоматически спросил я, конечно, помня о способностях Николая в рыбалке, со слов Любы.
– Николай везде ловит. Сейчас будет рыбный завтрак или обед. Мы решили здесь днёвку сделать сегодня. Все очень устали. А ты как себя чувствуешь?
– Прекрасно! Бодр. И настроен сегодня же перевалить в Кучерлу, непременно до дров. Альтернативы у меня нет. Видишь, что на Белухе…? Вас здесь дождь накроет. А я надеюсь проскочить.
– Андрей, у меня к тебе просьба: если встретишь Игоря, то попроси его, от меня, вернуться. А если не встретишь, то оставь на перекрёстке, где в Капчал впадает другая речка, записку о том, что не видел его. Там же и тропа должна разойтись: тебе по правой идти, на Восточно-Капчальский, а нам там – налево.
– Хорошо, Люба, договорились. Ну, счастливо оставаться и хорошо сегодня отдохнуть! Пока.
– Тебе счастливо пройти весь путь! – искренне и очень тепло простилась она.
Я махнул, в приветствии, левой рукой увидевшим меня Миле и Люде, они тем же ответили мне. Слава богу, что их лежбище располагалось левее и, метрах в тридцати от тропы, вниз по склону. Совершенно не хотелось контакта с ними. Владимира не было видно. И я поспешил быстрее проскочить мимо их стоянки. Уже оставив позади кедровую рощицу, я вошёл в узкое ущелье реки Капчал, ярко-зелёные травяные склоны которого визуально расширяли его. А впереди поднимались «крепостные валы» Катунского хребта, дланями острых скал воздающие хвалу небу. Зубья этих скальных стен, прикрываясь местами сильно вытаявшими ледниками, рвали, уже дотянувшиеся до них от Белухи, серые тучи. И эти тучи, возмущённо, но безуспешно пытаясь совсем оторваться и взмыть ввысь, смиренно переваливали за хребет, несомые ветром в Кучерлинское ущелье, куда стремился сегодня и я. Тропа ровной лентой создавала густой и сочный травяной ковёр вдоль русла реки, в десятках метров от среза воды, ведя прямо к «крепости» хребта. Капчал бурлил прозрачными струями. В такой воде хариус всенепременно блаженствует, и у ребят сегодня будет праздник живота.
Выйдя на этот простор, я сразу увидел замершую, у среза воды, фигуру Николая. Он стоял вполоборота к тропе и спиной к лесу. Когда я поравнялся с ним, он сразу развернулся к тропе спиной. Понятно было, что боковым зрением он узнал меня, на открытом месте, и не захотел встречи. А по тому, как съёжился Николай в этот момент, я ясно понял, что он боится встречи со мной один на один. И, чтобы не смущать человека, я быстро прошёл мимо без единого взгляда в его сторону. Пока подъём был не крут, я более не сбавлял максимальной скорости. А через пару сотен метров опять потекла с правого (моего) склона вода, омывая тропу, в стремлении к реке. И опять, около часа, мои вибрамы шлёпали по чистейшей воде. Видимо, этот гигантский яр, который я обходил уже который час, весь сочится родниками! Теперь-то, при усиливающейся жаре, я и попробовал эту воду на вкус. Она была, действительно, родниковой. А через минуты я снова почувствовал холодную сырость в стопах. Но уже спокойно и смиренно принял этот факт, предчувствуя, что это ещё «цветочки», а «ягодки» – впереди. И теперь уже неизвестно, когда мои ноги почувствуют приятную сухость. Дальше точно весело не будет.
А солнечная погода пока радовала и добавляла чуточку оптимизма. Но жаркий микроклимат места, после прежней адаптации на ледниках, отнимал свою порцию сил. Одежда стала влажной от пота, который и глаза стал разъедать, стекая со лба. Вот и казахстанское лето! Часы мои стояли, а на небо, для ориентации по солнцу, я не смотрел, в пылу этой гонки. Да в глубине души, наверное, даже не хотел знать, в этот день, в котором часу я прохожу тот или иной участок. Может, даже мой внутренний умник боялся того, что ночь меня застанет на втором леднике, что лежит за перевалом, а может об этом говорила моя интуиция… Не хотел я этого ни знать, ни признать, ведь без костра мне не видать ни горячего ужина, ни горячего питья. Ещё и обсушиться желательно будет. А здесь, на Капчале, ни деревца, ни кустика, и даже укрыться от непогоды негде.
Угол подъёма увеличивался, и от нагрузки становилось всё жарче. Парило перед дождём, и я попытался ускориться. Хребет передо мною рос, всё больше закрывая северную часть неба. Тропа вела меня прямо к скалам, где за крутым травяным яром река Капчал падала водопадом, шум которого пока был еле слышен. Сориентировавшись, я понял, что нахожусь уже на траверзе своего перевала, и круто повернул вправо (в его сторону), сойдя с тропы, которая вела, видимо, параллельно водопаду. Чтобы не терять время на этот крюк по удобной тропе, я полез по травяному склону в лоб, на крутой яр. Осторожно ступая по сочной траве, я всем своим намерением «цеплялся» за землю, веря, что никакая сила не сорвёт меня с этого скользкого склона. Минуты кратно удлинились, перспектива не просматривалась. Но не прошло и часа, как крутизна склона стала уменьшаться, идти стало полегче.
И только тут я, с досадой на себя, вспомнил о своём обещании Любе – оставить ей записку. Остановившись на несколько секунд, я оглянулся, чтобы разглядеть ту развилку на тропе, что незаметно проскочил, наверное. Но отсюда даже тропы не было видно. Вернувшись мысленно назад, я вспомнил, что на монотонном этом травяном ковре я не мог не заметить развилку. Это значит то, что она была, вероятно, дальше, впереди, и я просто не дошёл до неё, свернув сюда с тропы. Ведь «взлетел» сюда, как птичка, выпорхнувшая из клетки зависимости. И, опьянённый новыми ощущениями одиночного похода, я уже машинально отодвинул в прошлое и это своё обещание. Внимательно осмотрев такой же голый противоположный склон, куда планировали идти мои бывшие одногруппники, я не увидел ни палатки, ни Игоря. Всё, кроме троп, просматривалось до ледников и скал хребта. Значит, можно с большой долей вероятности предположить, что Игорь вчера просто забурился глубоко в тот лес, а ребята дальше опушки не пошли. Не мог же он, конечно, бросить их без палатки и перевалить в одиночку в Кучерлу. А значит, моя записка роли не играет совсем, раз Игоря на этих склонах нет. Он, наверняка, теперь уже сам нашёл свою группу. Мне же совсем не хотелось терять время на час – другой, чтобы вернуться, искать развилку, которую даже не вижу отсюда, дабы выполнить обещание.
Так я успокоил (не до конца, конечно) себя и, не оставляя больше выбора, рванул вперёд, как в бой, из которого не возвращаются, не победив. Беззвучно, по сырой траве я, неожиданно резко, вышел с крутизны на горизонтальную поверхность зелёного яра. И перед собой, метрах в пяти, на секунду, заметил сидящего огненно-рыжего, здоровенного сурка. Так близко и такого здорового я в жизни ещё не видел. Он сидел на большом валуне, своей толстой задницей повернувшись ко мне. Услышав или почуяв меня, в ту же секунду зверёк пронзительно свистнул, видимо, объявляя тревогу другим, и мгновенно подпрыгнув с камня, юркнул в норку под ним. В полёте его жирное тело, отъевшееся за лето, грациозно и волнообразно вибрировало, играя красивой шкуркой. А боковым зрением я едва успел уловить такое же движение десятков его собратьев по всей широкой поляне.
Передо мной раскинулась выпуклая и почти круглая просторная лужайка лубочного вида. На добром десятке её гектаров, почти на равном расстоянии между собой, лежали почти одинаковые большие округлые валуны. Под каждым, на ярко-зелёном фоне густой травы, чернела сурковая норка. Значит, здесь постоянно живёт большая колония зверьков. Они мне больше ни разу не показались, явно слыша безостановочный человеческий шаг. За поляной текла, сочась из-под камней морены талая вода, разливаясь огромной лужей и уходя влево, чтобы упасть в пропасть Капчальского водопада. Любоваться водопадом у меня не было ни времени, ни желания. Сколько их я перевидал за годы горных экспедиций…, все схожи и, по-своему, красивы. Похоже, что эта сурковая поляна была давно засыпанной осадочными породами и заросшей травой древней мореной, лежащего передо мной ледника, который бычился на меня круглым лбом, просматриваемый отсюда, как на ладони. Его окаймлял полукруглый скальный цирк, зубастой неприступной стеной закрывавший полнеба. В середине этой крепостной стены Катунского хребта (сразу за ледником) виднелось понижение – это и есть «мой» Восточно-Капчальский перевал. Уже на все скальные зубья опускались быстро чернеющие тёмно-серые грозовые тучи, постепенно двигаясь в мою сторону. Мы шли навстречу друг другу. Между лужей и ледником лежала неширокая полоса крупного курумника небольшой морены. Видимо, этот ледник не успевал сильно вырасти зимой и сильно вытаять летом, сохраняя свой размер и оставляя неизменно узкую полоску своей морены. И, если бы не надвигающийся шторм, можно было бы долго любоваться всей этой картиной горного цирка в целом. Остановившись на секунды, я, в смешанных чувствах, изумился гармоничности места. Только гениальный художник мог создать такую сказочную картину. И этот художник известен. Материя ведь стремится к хаосу, согласно закону об энтропии, поэтому самоорганизовываться не может.
А затылок мне ещё грело солнце. Перескочив, уже без остановки, по камням и лужу, и моренный поясок, я вступил на открытый лёд. «Кошек» не понадобилось, ледник был пологим. Неглубокие, к моему удивлению, рытвины на нём, не требовали сильной концентрации внимания к поверхности. Тем временем тучи уже закрывали небо над моей головой. Стало страшновато, и я последний раз оглянулся на ещё залитую солнцем сурковую лужайку. Зверьки не показывались, они уже приготовилось пережидать непогоду в норках. Вся часть неба позади меня ещё была идеально чистой, но солнышко уже давно перевалило за полдень и клонилось к горизонту. Меня, на мгновение, пробрала оторопь, мозг зароптал, предвидя цейтнот, а глаза, моментально подчинившись, стали тщетно искать убежище среди травы. «Какое убежище ты ищешь там, где его нет! Видишь – негде здесь человеку укрыться, всё, наоборот, продувается, с усилением, на этих выпуклостях ландшафта» – сказал я мысленно себе и запретил впредь оглядываться.
Ни об остановках, ни о перекусе в этот день у меня и мыслей не возникало, равно как во время штурма защищающейся крепости. Пока шёл до ледника, то лишь зачерпывая ладонью воду, позволял себе на ходу утолять жажду.
На леднике мой темп сильно замедлился, небо укрывалось уже далеко позади меня, стало темнеть. Я, всё-таки, оглянулся ещё раз и увидел, что солнышко освещает уже лишь самую дальнюю часть альпийских лугов противоположных склонов долины Капчала. У меня в груди похолодело, очень захотелось перелететь на крыльях намерения туда. В душе шла борьба, и мне было смешно над самим собой, ведь через несколько минут и там всё затянет… С этого момента я окончательно перестал оглядываться. Через минуты всё вокруг стало серым. Чернеющие тучи плотно легли на зубья скал, начал моросить холодный дождик, потихоньку усиливаясь. Резко стало холодно, а я был в промокшей от пота тонкой рубашке. Понимая, что дело дошло сразу до крайнего резерва, я достал, не ставя рюкзак в окружающие уже лужи, пуховку и, утеплённую тонким синтепоном, капроновую кепку. Привычными, отработанными движениями, не выпуская из рук мешок, оделся. И, закрыв собой оставшиеся в поклаже вещи от дождя, я укрыл их внутри полиэтиленом, чтобы сохранить для переодевания. В пуховке с капюшоном мне стало тепло и уже не важно, что она постепенно намокнет. Главное сейчас – перейти через перевал.
Едва я закончил с переодеванием и двинулся вперёд, максимально возможным на кочкообразном льду темпом, как ударили молнии. Они стали бить в пики скал с трёх сторон, в сотнях метров от меня, как близко в моей жизни ещё не бывало. Громкие разряды оглушали, скалы от ударов начали крошиться, с них посыпались массы крупных камней на ледник, разбрызгивая на десятки метров во все стороны гроздья мокрого льда. Стало жутко. У меня возникла ассоциация с моментом конца бала Воланда, когда рушатся стены замка (по Булгакову), но здесь было страшнее. «Вот сейчас, сейчас со мной разделаются, как с непрошеным гостем…» – пытался развлечь себя я. Стало совсем темно. Однако электризации в воздухе я не чувствовал. С точки зрения физики это можно объяснить просто: во-первых, я находился на сотни метров ниже контакта молний со скалами; во-вторых, сильный дождь обнулял, можно так сказать, окружающий воздух, заземляя его водными струями. А в дополнение к объяснению самому себе, я думаю, что молнии, как сущности, просто пугали меня, разряжая свой зашкаленный энергетический потенциал в пики гор, выполняя ещё и свою природную функцию выравнивания земной тверди… Одновременно с грозой резко усилился ветер и вместе с дождём стал бить мелким градом мне в лицо, будто острыми иглами, стараясь, видимо, остановить меня. Козырёк кепки защищал глаза, а борода – горло. Пришлось уронить голову долу и идти, глядя лишь под ноги. В полутьме это было даже необходимым, чтобы не споткнуться.
Не прошло и часа, как закончился участок открытого льда и мои вибрамы стали почти полностью утопать в жиже намокшего снега. Стало легче идти от того, что не нужно уже было смотреть усиленно под ноги, угроза споткнуться отпала. Но вскоре внутри моей обуви захлюпала холодная вода. В груди у меня что-то дрогнуло, и с нижней части живота стал подниматься животный страх конца жизни. Но я быстро «взял себя в руки» и, не останавливаясь, сделал усилие к ускорению. «Только вперёд! Отступать некуда! Через этот перевал – самый короткий путь домой». Теперь я стал поднимать ноги выше, страхуясь от спотыкания о камни, возможно, скрытые под снежной кашей в наступившей близости от скал. Грозовые чёрные тучи закрыли всё пространство, я поднимался всё выше к скальной перемычке хребта. Только белый снег выделял контуры окрестности, без него трудно было бы что-то разглядеть.
Стиснув зубы, я попытался ещё ускориться, страшась близкой ночи. Хотя никакой разницы уже и не было в этой мгле. В стрессовом состоянии души было невозможно почувствовать внутренние часы, которые меня, в спокойном состоянии, никогда не подводили. Призрачно чернеющая полоса предполагаемого впереди горного массива медленно приближалась. Понимая, что всё-таки ещё не ночь, а только конец дня, я ни на минуту не терял надежды дойти до «зелёнки», других вариантов не было. «Врёшь, не возьмёшь!» – твердил я, уверяя себя в победе.
Наконец, я дошёл до конца ледника. Передо мной, вознося свои зубья к небу, встал чёрный гребень, с понижением посредине. Это мой перевал! Полагая, что это скала, я твёрдой поступью сделал пару шагов на крутую её поверхность. Но мои вибрамы сразу съехали обратно, по какой-то глине, и я встал на четыре точки опоры, чтоб не упасть лицом в грязь. Хорошо, что по альпинистскому навыку, выйдя на ледник, я сразу надел шерстяные варежки, а сверху – обычные рабочие верхонки. Согласно моей практики, это самый верный вариант, потому что даже намокшие шерстяные варежки не дают кистям замёрзнуть. Без этих аксессуаров работать с верёвкой и другим снаряжением не безопасно и технически. …Тут я сразу понял, что с «моего» перевала дождём смывало мелкое каменное крошево, раскисшее до состояния глины. И мне пришлось чуть ли не час забираться на четвереньках по чёрной жиже на узкую перемычку перевала, при каждом шаге наполовину сползая вместе с грязью. При этом я даже не заметил, что в какой-то момент дождь и ветер заметно стихли, а град прекратился.
Забравшись, наконец, на перевал (три тысячи триста метров над уровнем моря) и, усевшись на большой камень узкого, как нож, водораздела, я победно и громко рассмеялся с одновременными чувствами спортивного зла и любви к стихиям, как воин, отбивший первую атаку. Радость добавлял вид сверху на сползающие вниз, в разные стороны, оба ледника, в полумраке едва различимые. Удивляясь такому уровню своего ликования, я весело стал переобуваться, не снимая с плеч рюкзака. Отжав из шерстяных носков воду, я снова их надел и быстро обулся. Теперь я был победоносно уверен в себе, как никогда, в такой степени, раньше. При этом я неотвратимо ощущал на себе чьё-то неведомое внимание. Из глубин сознания до меня доходило, что мой ангел-хранитель радуется вместе со мной, от того усиливая безмерное ликование. Одновременно с этим, Дух места как будто предупреждал, что ещё не все испытания пройдены, и рано трубить в фанфары. Такой уровень понимания был мне не привычен и поднимал над ситуацией. В состоянии резко изменённого сознания я, окончательно перешагнув через барьер перевала, вступил на ледник Кони-Айры, растущий прямо от этой перемычки и спускающийся в Кучерлинское ущелье. Даже не предполагая, сколько времени займёт спуск, я с радостным боевым настроем и широкими шагами устремился, как мог, быстрее вниз, зная, что станет с каждой минутой всё холоднее и может пойти снег. Все страхи остались позади, а впереди – иллюзия лёгкого спуска.
Снег, покрывавший верхнюю часть этого ледника, был иного свойства: только сверху чуть подмокший от дождя, а по всей глубине (почти до колена) – рыхлый и сухой, не прилипающий к ботинкам и штанам, как на Белухе. Вот и разница микроклиматов между склонами, расстояние между которыми – метры..! С первых же шагов я разглядел, сквозь окружающий мрак, на белеющем снегу, свежепроложенную тропку. Это был счастливый случай! Было не просто немного легче идти, а главное состояло в том, что, прошедшая передо мной группа, таким образом, вскрыла все, занесённые снегом трещины в леднике. И я, завидя каждую, ни в одну не провалюсь, сквозь рыхлый снег, страховать-то без «связки» меня некому. Этот факт меня дополнительно очень взбодрил. Теперь неожиданных препятствий уже не должно предвидеться.
Впереди ледник, пологой и ровной рекой, уходил вниз, просматриваясь, в сумерках, от силы, на десяток метров. Чтобы не замёрзнуть в уже промокшей пуховке, я попытался полу-бегом, полу-скачками спускаться по неглубокому снегу пробитой тропы. По характеру тропы, слабой утоптанности, та группа составляла не более четырёх человек и, благодаря им, мои ноги проваливались только по щиколотку. Вероятно, эти ребята поднялись из Кучерлы сюда, до перевала, и, из-за ухудшения погоды, спустились обратно на «зелёнку», иначе встречи с ними мне вряд ли можно было избежать. Перепрыгивая через трещины во льду, вскрытые той командой, я радовался и благодарил их мысленно, представляя, как идущий впереди, в «связке», проваливался в каждую, а страховочная верёвка позволяла ему выбраться на поверхность. И, неизвестно, если бы не они, вышел бы я в одиночку отсюда или нет, провалившись в одну из них…
Сумерки сгущались, ветер с дождём усилились, и теперь хлестали мне уже в спину. Видимость ухудшалась, а ледник, уже который час, все не кончался. За пеленой непогоды и его поворотами я тщетно силился увидеть хоть малую перспективу. Желание быстрее дойти до леса безусловно «удлиняло» в сознании ледовую реку. Снежный покров закончился, согласно понижению высоты. На открытом, бугристом, сплошными рытвинами, и рваном, трещинами, льду идти стало кратно тяжелее. Мой темп снизился до минимального. При этом угол сползания ледника становился всё круче, и возникала опасность соскальзывания. Но я не стал останавливаться, чтобы обуться в «кошки», а лишь сам пошёл по-кошачьи, не желая останавливаться. Я понимал, что «греющий» спину рюкзак теперь с мокрой спины снимать нельзя, как и останавливаться тоже. Иначе меня от усталости и холода начнёт трясти и уже точно ослабит. Всё чаще приходилось пересекать ледник поперёк, обходя широкие трещины, теряя на этом время. Я шёл зигзагом, иногда от одной скальной стенки до другой. Силы были на исходе, а дождь всё сильнее хлестал по спине, подгоняя незваного гостя.
Для облегчения перехода я спустился к правому берегу ледяной реки и, опираясь правой рукой о вертикальный скальный борт, чтобы не поскользнуться, попробовал идти так. Но стало ещё тяжелее, из-за дополнительного наклона ледовой поверхности к скальной стенке. Рука быстро устала упираться под весом тела, ледник прижимал меня к вертикальной гранитной скале. Пришлось вернуться к середине ледовой реки. Стало совсем темно, и я перестал видеть рытвины во льду. Теперь, без сомнений, стало понятно, что наступила ночь. Вспомнив про налобный фонарик, я надел его на голову, достав из поклажи. Хорошо, что предвидя такую ситуацию, ещё утром разместил его поближе к клапану рюкзака. При свете фонаря я мог разглядеть поверхность полупрозрачного льда лишь на пару шагов вперёд. Этого было достаточно, чтобы не споткнуться и не упасть. А ветер с дождём всё сильнее толкали вперёд.
Мне стало совсем не по себе, начала затягивать меланхолия. От усталости меня стало покачивать, при каждом шаге, из стороны в сторону, на неровностях скользкого льда, по которому всё сильнее текла дождевая вода. Но я шёл, не останавливаясь, совсем потеряв темп. Крутизна склона стала уменьшаться, но мне было уже безразлично. Я механически переставлял ноги, двигаясь уже лишь под действием гравитации, неумолимо тянущей меня вниз по склону. Уже без ожиданий и радости, в свете фонарика, я вдруг увидел, в метре перед собой, конец льда. Язык ледника острым «козырьком», на высоте ширины ладони, над вытекающей из-под него реки, «глядел» вниз по склону. Водный поток тихонько и умиротворённо журчал, устремляясь по пологому склону вглубь ущелья. Глубины у реки здесь не было, прозрачная вода лишь лизала небольшие окатые камни порога. Это и есть исток Кони-Айры. Оптимизм совсем пропал, когда я, в свете фонарика не увидел вокруг ничего, кроме каменных россыпей берегов реки. Долгожданного леса не было. «Вот и дошёл…, большой привет!», – мысленно, безрадостно и равнодушно, но, всё-таки, в какой-то степени удовлетворённо констатировал я себе.
В совершенном бессилии, я сел спиной к леднику на мокрый крупный валун, лежащий в воде, на удалении двух шагов от ледяного «козырька». Лишь мои каблуки, упираясь в мелкие камни, омывались водой. Я смотрел на утекающую из-под меня речку, и с ней утекала всякая надежда на выживание. «Без костра – конец, скоро замёрзнешь здесь…»– говорил мне мой умник. А ветер с дождём, усиленно хлеща мой капюшон, стремились, видимо, добить… Пуховка промокла насквозь и, на минуту остановившись, я стал безнадёжно мёрзнуть. Сил идти дальше, до невидимого отсюда леса, не было. И, понурив голову, я впервые в жизни признался себе: «ну всё, пропал, мне конец…»
Но вид «живой» и прозрачной воды, весело журчащей подо мной и убегающей, в направлении моего пути, стал еле заметно возвращать к жизни. С минуту глядя на её спокойное и жизнеутверждающее течение, я резко опомнился и сказал себе: «С ума сошёл! Что себе позволяешь?!! Движение – есть жизнь! Ну-ка, вперёд!!!»… В ту же секунду я направил свет фонарика на ближайший ко мне и более пологий правый берег, перенеся фокус света вдаль. Изо всех сил силясь что-либо разглядеть, я сконцентрировался на том месте, где свет фонаря уже растворялся во мраке ночи. На правом берегу что-то чернело огромным пятном на ровном фоне серой пелены ночного дождя. Предположив, что это островок кедрового леса, я встал и устремился в сторону пятна, выйдя из воды на берег, с трудом удерживая равновесие с помощью телескопических палок на «живых» камнях ледниковой морены. Но палки меня «подводили», заклинивая между камней. Цепляясь, будто «якорем», они периодически и по очереди дёргали назад и в сторону, забирая последние силы и только способствуя падению. В очередной раз, еле удержавшись на ногах, я перестал на них опираться. Медленно и осторожно, но уверенно и стремительно я двигался берегом в выбранном направлении. К моему удивлению, этого, единственного за весь день, минутного привала, хватило для восстановления сил не менее, чем на час движения. И вот она, награда! В приближении к тому тёмному пятну, мне удалось-таки, наконец, разглядеть плотную группу низкорослых разлапистых кедров, по знакомым очертаниям их крон. Они росли на скальном яру, который возвышался над берегом, на несколько метров, каменной стеной. Моя интуиция не подвела, вот что значит «взять себя в руки» и «вытянуть за волосы из болота» апатии, подняв над ситуацией.
«Ура, я дошёл до своей цели!» И, забыв про усталость, в радостном настроении забравшись на скальный яр, я укрылся от дождя под кроной ближайшего кедра. Скинув на мягкую хвойную подстилку, пропускающую на всю свою глубину дождевую воду и, при этом, не намокая, рюкзак, сразу пошёл обходом на поиск дров, используя свет фонарика. Но увы, не нашёл в ближайшей округе ни веточки на земле. Место было вычищено, видимо, туристами, до состояния городского парка. Конечно, это было очень красиво, но в данном случае – печально, для меня. На деревьях остались лишь живые, зелёные ветви, не пригодные для костра, жалко их, да и невозможно было бы разжечь. Пришлось смириться с тем, что костра у меня сегодня не будет. В пылу поиска я едва обратил внимание на то, что ветер и дождь заметно стихли, до конца не прекратившись. И, приняв это, как само собой разумеющееся, вернулся к рюкзаку, чтобы переодеться в сухое и готовить спальное место на мягкой хвойной подстилке.
На этом небольшом, круглом каменном возвышении, как внутри крепости, был уютный оазис из красивых вековых кедров, росших так же, по кругу. А природное углубление в середине представляло хвойную перину. Вся жизнь оазиса замыкалась за защитной стенкой магматической породы лавового выхода, разрушающейся уже миллионы лет. Лучшего места для ночёвки я даже не ожидал. Ни минуты не раздумывая, и, несмотря на моросящий дождь, я достал из рюкзака оба куска полиэтилена. Накрывшись вместе с мешком одним из них, я стал переодеваться в сухую одежду: в толстую тельняшку подводника, толстый шерстяной свитер, шерстяные спортивные штаны. А когда, переодевшись, выглянул из под кроны кедра, то, к своему удивлению обнаружил, что дождь и ветер прекратились окончательно.
Чудеса! Как только я «брал себя в руки», переключая душевное состояние на оптимизм, так стихия затихала. Это произошло и на перевале, и здесь. Видимо, небо меня испытывало на прочность, на зрелость мужа. Значит, я эти испытания прошёл, коль скоро нахожусь в душевном состоянии удовлетворения всем происходящим. Оставив рюкзак и мокрые вещи накрытыми полиэтиленом под кедром, я выбрал удобное место, между кедрами, для сна. С деревьев капала дождевая вода, и пришлось стелить под открытым небом. Раскинул на хвое коврик, бросил на него спальник, сверху всё укрыл большим куском полиэтилена, закрепив его камнями по кругу, чтобы возможный порыв ветра не сорвал. Плёнка ещё и задерживает под собой тепло тела холодной ночью. Ходил я при этом по хвойному ковру, уже разутым, в сырых шерстяных носках, как посуху, собираясь ночью так и сушить их на ногах. А вибрамы засунул под коврик в хвою, чтобы не мокли и не задубели за ночь. Если бы завтра мне предстояло идти на ледник, то, как опытный горник, я бы забрал их с собой в спальник, чтобы сушить и греть на животе. Ноги в походах – это главное, и обувь – соответственно. Но в данном состоянии переохлаждения для меня это было бы перебором. К тому же такая экстремальная сушка уже не была настолько важна, потому что на «зелёнке» и в сырой обуви можно легко преодолеть такой дискомфорт.
Перед заползанием в постель я засунул в рот горсть сухарей с карамелькой и одну штучку кураги из лично сэкономленного за поход запаса и стал их сосать, на большее сил уже не было. Радуясь затишью стихий, я, в полной ночной тишине, залез в спальник с головой, в надежде согреться. Но не успел прожевать свой ужин (он же и обед), разом поместившиеся в рот, как почувствовал, что с наветренной стороны продувает холодом тонкий спальник. Высунув голову наружу, я с помощью фонарика обнаружил отсутствие камня, прижимавшего мой «тент» у левого плеча. Лёгкий ветерок, даже незаметный снаружи, откинул угол полога. Осмотрев всё вокруг, я не нашёл этот камень, он исчез! Это кто же его унёс?! Кто шутит со мной?! Мне стало не по себе от неизвестности. Я внимательно осмотрелся: вокруг стояла гробовая тишина, и ни души… С мистическим страхом мне пришлось вылезти совсем, чтобы найти ему замену. А поскольку я уже использовал все, имеющиеся внутри «моего» оазиса, камешки, то мне пришлось выйти за каменный барьер «крепостной» стенки, чтобы найти подходящий. Размышляя о немыслимости происходящего, я закрепил свой полог новым камнем и снова, уже с благоговейным страхом, залез с головой в спальник и свернулся калачиком с намерением – согреться наконец. С неразрешимой задачкой в голове, едва пригревшись, я за минуту уснул.
Проснулся, когда солнышко «пробило» своим тёплым лучиком моё одеяло и его жёлтое свечение подчеркнуло хаотичную структуру тонкого синтепона. Сказочно обрадовавшись улучшению погоды и тому, что удалось согреться и проспать всю ночь, не меняя позу от усталости, я просто выскочил наружу. Но тут же радость моя приутихла: оказалось, что солнечный лучик лишь на минуту пробился сквозь плотную завесу туч и облаков. Всё предвещало продолжение непогоды. А кружок солнышка, еле различимый сквозь облачную пелену, был уже высоко. Значит я долго, не меньше четырнадцати часов, проспал после вчерашнего марафона. И, не смотря ни на что, я громко крикнул всей округе: «Доброе утро!» – приветствуя это новое для меня ущелье вместе со всеми его жителями. Однако, очень хотелось кушать, и я, уже при свете дня, широким охватом обошёл окрестность в поиске дров, снова ничего не найдя. При этом обходе я с восхищением оценил красоту верховий распадка. Ничего похожего я в жизни, казалось, не встречал. И вроде бы ничего нового: «…тот же лес и та же вода…» – как у В.С. Высоцкого. Но такая гармония поросших приземистым кедром и кедровым стлаником склонов, в своей верхней части возвышающихся острыми зубьями скал, режущих полотно туч, не может оставить равнодушным. А с каждым шагом вниз по ущелью усиливающееся течение реки Кони-Айры, «раздвигающее» прибрежные камни, делает окружающую картину невероятно живой.
Вот уже больше суток я не ел, к тому же, преодолев, без отдыха, невероятное расстояние, только по высоте поднявшись на полтора километра, и на столько же – спустившись. И, ни минуты не размышляя, решил идти дальше вниз, пока на глаза не попадётся хворост. Сворачивая спальные вещи, я поднял с хвои коврик и обнаружил под ним пропавший ночью камень. Видимо, первый раз залезая в свой спальный «домик», я ненароком приподнял полог, и камешек закатился под каремат, при прогибании подо мной хвойной «перины», «утонув» в хвое. Вот тебе и мистика, всё оказалось банально просто. Был повод ещё раз посмеяться над собой. Хорошо отдохнувшие ноги резво понесли меня к вожделенному завтраку.
Долго идти не пришлось, и, в течении часа, я нашёл и костровище на берегу реки, и достаточно хвороста на расстоянии «вытянутой руки». Теперь довольный всем, я, не спеша, развёл огонь и с удовольствием позавтракал. Удовлетворение было полным, все трудности казались пройденными. Перевалов до цивилизации не было. Дальше – три дня по лесистому длинному ущелью. Так я видел лишь на карте местности. Но как только, не засиживаясь, двинулся дальше в путь, так сразу зарядил мелкий дождь, и однородно серое небо уже не обнадёживало его окончанием. Меня же это не сильно огорчило, после вчерашних испытаний, а только бодрило и стимулировало к ускорению. И даже не мешало любоваться здешними картинами природы. А ещё как было чем любоваться! Всё вокруг было гармоничным. Казалось, что я попал в сказочный мир с бабой Ягой, лешим и другими обитателями мира Нави, прикрывающимися видимым миром Яви. С первого взгляда я влюбился в Кучерлинское ущелье. По сравнению с Ак-Кемом оно мне показалось совсем иным… Описать всё впечатления невозможно, не хватает слов, одни эпитеты. Вот что значит жизнь без людей. Тропы здесь совсем нет, значит, местные жители сюда не попадают. От этого и блаженствует местная природа.
Крутые склоны распадка, заросшие непролазным лесом, то сужают, то расширяют пространство. Густые заросли кедрового стланика вперемешку с маральником и кустами жимолости прижимают путника к реке, по берегу которой – лишь россыпи крупного камня. Идти пришлось по ним. Дождь сделал камни очень скользкими. Лишайник, украсив курумник зеленовато-бурым рисунком, намокая от осадков, обретает свойства жидкого теста. В этом случае нет разницы в темпе ходьбы или бега – одинаково скользко. И поначалу, привычно используя свои лыжные телескопические палки для страховки, я несколько раз чуть не упал на острые камни. При опоре на них, в движении, палки соскальзывали с камней и заклинивали между ними, при этом невольно выполняя роль якоря, рывком отбрасывали меня вбок и назад. И я, даже на будущее, отказался брать их в походы, как лишний инвентарь и груз. Специально остановившись после очередного риска падения, я пристегнул палки к рюкзаку. И ещё понял, что опора на эти костыли мешает здоровой балансировке при любом шаге или беге, особенно необходимой в горах.
Вынужденный путь, вдоль среза воды, позволил мне рассматривать все окрестности довольно хорошо, для общего представления. А опытный взгляд быстро дорисовывал то, что не попадало в поле зрения, потому что в природе всё закономерно. Впервые я так долго был один среди нетронутой дикой первозданной природы и непривычно ещё (на вторые сутки) слился с ней воедино. Это было новое для меня состояние души, новое мировосприятие. Чувствуя на себе постоянный, неотрывный, но мирный и даже любящий взгляд, я невольно глазами приветствовал каждую новую, открывшуюся мне картину, при быстром движении. По скользким и «живым» камням я прыгал в привычном полубеге, едва касаясь острых граней. Этот «бег силы» был гораздо безопасней осторожной ходьбы в любых условиях. Все чувства были бодрящими и радостными, а движение – возбуждающим. Я понял, что такое возможно лишь в одиночном походе, когда всё внимание приковано к окружающей природе и стихиям. Кроме только опытных и поэтому редких туристов сюда никто не заходит. Для заготовителей даров тайги и даже для охотников эти места бассейна реки Кучерлы недоступны. Крутые склоны и непролазный бурелом ни лошадям, ни простым людям не дают прохода. Поэтому никакой род деятельности здесь невозможен. А туристы, в своём подавляющем большинстве, доходят только до озера в нижней его части, по конной тропе из цивилизации, так же как и местные жители.
В этот день я, ещё с позавчерашнего дня, запланировал переход до верхней части Кучерлинского озера, и снова без единого привала. В одной тельняшке, я уже совсем игнорировал мелкий дождик и, не снижая максимального темпа, с одинаковой скоростью проходил разные по сложности участки. Глаза успевали и «ловить» надёжную точку для мгновенной опоры ноги, и «фотографировать сердцем» всё подряд в этих сказочных местах. Бег силы прибавлял телу энергии, а душе – радость «полёта». Ветви и кусты леса, проросшего сквозь бесконечные каменные россыпи, часто стегали все части тела, видимо, пытаясь меня остановить. Августовские паучки всюду натянули свои крепёжные нити, и я невольно их рвал на ходу, моментально громко извиняясь перед каждым существом.
Через несколько часов курумник закончился, и я увидел, наконец, тропу на грунте, годами набитую туристами. Одновременно, как по мановению чьей-то властной руки, прекратился дождик, до сих пор испытывающий меня тем, что делал скользкими камни, и просветлело небо. А вскоре до моего слуха долетел усиливающийся шум воды. И через несколько минут тропа круто оборвалась вниз, параллельно рухнувшему потоку всё той же реки Кони-Айры, вдоль русла которой я и спускался с самого ледника. Широкий и полноводный водопад со скального уступа. с высоты в пару десятков метров, разбивался о камни и обдавал путника облаком водяной пыли, образуя радугу и сверкая «живыми» бриллиантами в едва пробивающихся слабых лучиках солнца. Стало идти совсем легко, по извилистой тропе уже не крутого склона, обходившей большие валуны и камни поменьше, ныряющей меж многовековых кедров. Главное было не наступить на сплошь пересекающие тропу толстые и мокрые корни деревьев, грозящие опрокинуть человека своей скользкой поверхностью. С быстротой киноплёнки справа, слева и впереди менялись удивительной красоты пейзажи. Ничего похожего я, на самом деле, ещё не встречал. И в голове не останавливались мечты о том, как радостно будет привести сюда желающих…
В какой-то момент я снова услышал впереди приближающийся и усиливающийся шум воды. А через минуты мне открылся справа, смежный основному, распадок бассейна реки Мюшту-Айры. Эта река пересекала мой путь, и уже левее (через добрую сотню метров) впадала в Кони-Айры, образуя из двух потоков реку Кучерлу. Мелкое русло Мюшту-Айры, разделившее тропу, растеклось на порогах больших камней на полсотни метров брода. Чистейшая, как жидкое стекло, вода омывала камни, в мокром виде выглядевшие самоцветами в отсветах еле пробивающегося солнышка. Перепрыгивая по ним, я быстро преодолел эту водную преграду и, не останавливаясь, пошёл широкими шагами дальше. Сориентировавшись по положению кружочка проглядывавшего временами солнышка, я определил, что шла уже вторая половина дня. Слегка подмокшая тельняшка быстро сохла на разгорячённом теле или я уже не чувствовал влаги из-за её шерстяных волокон.
После легко преодолённого брода слегка выпрямившаяся тропа предоставила мне счастливую возможность разогнаться до максимальной скорости широкого шага. При этом я, без сожаления, проскочил очень удобную стоянку с костровищем под разлапистыми кедрами, игнорируя удобство на обеденный привал. А через минуты боковым зрением уловил дым от костра и палатку на берегу Кучерлы, в пятидесяти метрах слева от тропы, с фигуркой человека, сидящего спиной. По инерции я проскочил мимо метров на сто, вскользь размышляя, что не стоит тратить драгоценное, в моей ситуации, время. Но через мгновение вдруг передумал и остановился. Поняв, что успел соскучиться по общению с людьми, я решил воспользоваться безусловным радушием туристов, при встрече в таких условиях, и заодно попить желанного чаю. Чтобы отдохнуть от рюкзака, я оставил его тут же у тропы, выбрав сухое место для него под ближайшим кедром. Если случится, что кто-то здесь пройдёт, то не то что не тронет, а последует моему примеру. Зверь же далеко чувствует и сторонится человека, потому и близко не появится, тем более днём. Разминая освобождённую спину, я подошёл к костру и увидел девушку-туристку, одиноко грустившую у огня.
– Здравствуйте, сударыня! Позволите присесть? – начал я весело и игриво.
– Здравствуйте, присаживайтесь! – сдержанно ответила она и после паузы предложила: – Хотите чаю?
– Очень хочу! – с жаждой и подчёркнутой радостью воскликнул я, удобно усаживаясь у костра на вежливом расстоянии от дивы.
Она налила мне горячий напиток в эмалированную кружку из дымящегося большого котелка, который стоял у самого огня, и протянула мне, вместе с карамелькой и печеньем.
– Это мне сейчас в самый раз, спасибо большое! – с улыбкой удовольствия и благодарности принял я, слегка поклонившись головой.
– Издалека идёте? – после уважительной паузы подчёркнуто сдержанно поинтересовалась она.
– Да, позавчера спустился с Белухи по Катунскому леднику. Я Андрей. А Вас как позволите величать?
– Очень приятно. Я Марина. Вы один ходили на Белуху? – всё так же сдержанно и без доли эмоций продолжала дива.
Она держалась осторожно и очень скромно, в лицо мне не смотрела. Одета была в серую, распашную и бесформенную походную ветровую одежду, скрывающую фигуру. Остроносое и худенькое личико русоволосого европейского типа выдавало молодой возраст (сильно меньше тридцати). Я охотно, но коротко, обрисовал Марине наш маршрут, исключив, конечно, любое упоминание об отношениях в группе.
– А где ваша группа, отстала?
– Я их оставил у истока Катуни. Там группа, вместе с руководителем, днёвку сделали, чтобы отдохнуть после ледников. А я свою собственную задачу выполнил и, пообещав своим домашним вернуться к первому числу, спешу домой. А ваша группа где? – в свою очередь поинтересовался я.
По четырёхместной палатке и количеству посуды у костра мне было понятно, что их команда состоит из четырёх или более человек.
– Они пошли разведать брод и тропу на озеро Дарашколь. Скоро уже должны вернуться, – пояснила Марина, указав рукой направление, откуда она ожидает появления своих.
– Интересное место, мне когда-нибудь тоже надо туда сходить. Вы только туда планируете или ещё куда-то? И что за группа у вас?
– Пока собираемся только на Дарашколь. Нас пятеро и все девушки.
– Ух ты, как здорово! А откуда вы приехали? – дипломатически восторжился я, на самом деле не приветствуя чисто женских команд для выхода в походы. Сразу вспоминаются пару случаев из истории таких экспедиций, когда по неизвестным причинам погибли обе женских группы. При чём, по аналогии с трагедией группы Дятлова, только без таких жутких увечий.
– Мы из Барнаула. Я осталась дежурной, вот – готовлю обед, – и она указала на котелок, висевший над огнём. – Скоро будет готов. Присоединитесь к нам? Оставайтесь, отдохните! – совершенно искренне предложила Марина, постепенно, видимо, осваиваясь в компании со мной.
– Так вы почти местные! А за приглашение благодарю, но неудобно стеснять вас, я то без палатки. И продуктов у меня – протянуть бы на пару дней, даже поделиться с вами нечем… Объедать вас не хочу,– уверенно, но стеснённо отказался я.
– Да что Вы, у нас хороший запас продуктов, подкрепим Вас. Я представляю, что на таком маршруте Вы исчерпали, конечно, свои припасы. Ночуйте с нами, я вижу, что Вам отдых необходим. Вы же устали на таких больших переходах. А завтра, со свежими силами, быстрее дойдёте. Скоро девчонки придут и будем обедать, – стала она, на удивление, прямо уговаривать меня, чуть смелее поворачивая вполоборота ко мне голову.
– Спасибо большое, Марина, я очень тронут вашим провидческим вниманием и теплотой ко мне! Но я вынужден отказаться. Моё намерение сильнее всех мирских благ. Я бы с удовольствием и с вашей группой познакомился, очень люблю общаться. Но не могу отказаться от своего решения – дойти к ночи до Кучерлинского озера сегодня же. Вы же прошли этот участок? А я здесь ещё не ходил. Так можете мне подсказать: успею ли я исполнить своё желание за остаток дня? Как ещё далеко?
– С вашим темпом ходьбы Вы точно успеете сегодня. Это мы, гружёные, сюда с озера два дня поднимались. Но Вы хоть на обед останьтесь… – продолжила она с теплотой, но уже, с грустью, понимая бесполезность уговоров.
Ух ты, какая она внимательная и наблюдательная! Сидела к тропе спиной, но разглядела даже темп моего движения сквозь лес. Видимо я так громко топал, что даже заросли не поглотили звука моих шагов.
– Спасибо ещё раз, Марина! Очень теплы и приятны Ваши предложения! Но даже на обед не останусь. Чувствую, что иначе не успею выполнить свой твёрдый план. Желаю вам успешно исполнить свои желания и получить удовольствие от похода! – стал прощаться с ней я, уже поднявшись на ноги и разворачиваясь к тропинке.
– И Вам исполнить все свои сроки! Прощайте! – пожелала она с интонацией разочарования, не повернув ко мне и головы.
Решительно и без оглядки я поспешил к своему рюкзаку и, подхватив его на ходу, легко закинул на плечи, хорошо отдохнув на этом, неожиданном, привале. Ещё пару минут я пребывал под впечатлением от встречи. И мне подумалось, что по интонации девушки ей явно недоставало мужского присутствия в их «амазонской» команде многодневного похода. Конечно, было бы неплохо хорошо покушать и отдохнуть в женском обществе. Но у меня даже не возникло ни малого на то соблазна. Ни в душе, ни в теле ничего не шевельнулось в пользу этих благ. А решимость, во что бы то ни стало, дойти сегодня до озера, оставалась непреложной.
Я помнил, что, согласно карте, именно в этом месте, где стояли девчонки, и есть брод через Кучерлу, выводящий на тропу к озеру Дарашколь, загадочному и излюбленному горными туристами. Теперь, после разговора с Мариной, уже очень хотелось сходить когда-нибудь туда. Да…, когда-нибудь и с кем-нибудь… Мутные серо-белые воды реки Кучерлы здесь растекались на сотни метров в ширину, согласно расширяющемуся распадку, образуя десятки больших вытянутых островов. Острова эти плотно заросли молодым непроходимым лесом, выдерживающим, видимо, ежегодные затопления яростными потоками весеннего паводка. При моём, быстром, продвижении ежеминутно менялись чудные пейзажи, обрамлённые стволами и кронами кедров. И все были достойны пера художника. Крутой противоположный склон левого берега зеленел яркими красками тайги и альпийских лугов, тянувшихся у среза воды. Вот уже яркой и прерывистой серебряной ленточкой засверкал на этом склоне каскадный водопад речки Йолдо-Айры, вытекающей из озера Дарашколь. Мне, с тропы правого берега, едва удалось разглядеть эту блестящую ниточку, дорисовав в уме остальное.
А вскоре, после очень крутого выноса курумника, который я, с удовольствием, быстро преодолел, мне начал открываться вид на впадение Кучерлы в озеро. Река стекала из разлива, через горло резко сузившихся берегов, по порогам крупных валунов, вязким ленивым потоком голубой воды. А выпуклая (с моего ракурса обзора) и зеркальная, светло-бирюзовая гладь озера, в сочетании с широкой полосой альпийского луга ярко-салатного цвета на противоположном берегу, даже заставили остановиться на минуту от переполнившего меня чувства восхищения. Геометрически идеальный, ровный срез воды и такая же линия раздела между лугом и глухим кедровым лесом, что покрыл весь тот склон доверху, составили изюминку этой картины. Согласно изгибу распадка, в длину, озеро просматривалось лишь на несколько сот метров с любой точки обзора, имея общую длину около пяти километров. Ширина же увеличивалась в сторону истечения воды из водоёма и в среднем имела около двухсот метров.
Вот я и выполнил, снова, свой жёсткий план, чем стал несказанно доволен. Осталось дойти до самого берега озера и найти место для ночного отдыха. Здесь, на его берегах, стоит непривычная, после шума рек, сопровождающего меня в предыдущие дни, полная тишина. У меня, от этого контраста, моментально включилось впечатление, что вся природа, при моём появлении здесь, замерла в ожидании неизвестного. Это иллюзорное представление смешило и развлекало меня, в условиях снова сгущающихся, надо мною, туч, в сочетании с неумолимым приближением ночи.
У самого среза воды было видно, как отстаивается известковая взвесь, заметно опускаясь глубже, а тонкий верхний слой у самой поверхности становится прозрачным. Ещё четверть часа я прошёл вдоль берега водоёма в поиске площадки для сна среди глухой тайги и, подгоняемый начавшимися сумерками, остановился на первой же малюсенькой прогалине с маленьким костровищем. Место было не очень удобным, но я не стал рисковать и тратить время на поиски более удобного, при приближении ночи. Не разглядев толком полянку, я сразу приступил к разведению огня. На моё счастье, среди чахлых кустов ивняка, жимолости, малины и смородины, растущих по краям полянки, я нашёл несколько брёвен и хворост, как на позавчерашней ночёвке под Белухой. Может статься, что это те же люди и здесь побеспокоились о других или о себе, на будущее… А пока мой рис варился, я стал искать удобное место для сна. Оказалось, что под высокой травой – сплошные большие камни, затянутые, уже с годами, корнями и грунтом. И лечь здесь не было возможности. На полузатопленном мыску, прячущемся за высокими кустами, я обнаружил каркас, вероятно, для походной бани, из связанных шатром больших ивовых стволов. Перенеся его ближе к костру, я накрыл каркас большим куском полиэтилена, обустроив себе навес для сидячей ночёвки. Перед навесом же снова обустроил камин их брёвен. Пока ужинал, наступила ночь, и я ещё раз порадовался, что успел устроиться в светлое время. Вместо чая заварил себе листья смородины и малины, которые превосходили по вкусу и аромату равнинные кусты. Ягод на кустах, конечно, не было, посетители места съели их до меня. А снова начавший моросить дождик стал подгонять меня под навес. И, замочив для завтрака в миске рис, я поторопился перенести огонь в камин. Соорудив, из оставшихся брёвен, сиденье и закрепив вертикально рюкзак для спинки с помощью камней, я с трудом поместился под своим навесом. И, укрывшись спальником-одеялом, я, как английский лорд, замер у камина, довольный и тем, что правильно рассчитал время переходов на эти два дня одиночного похода, и тем, что снова удачно устроился на ночлег.
Дождик же, похоже, утвердился на всю ночь, в неспешном напоре «из мелких сит» (как в одной песне из моего детства, где поётся именно про такую ситуацию). Навес мой был настолько мал, что вытянуть ноги для полного расслабления не позволял. Но, когда засыпал, они сами вытягивались к камину, и тогда капли дождя с тента начинали мочить мне ступни чуть выше расшнуренных ботинок. От того я просыпался, сгибал колени и заодно поправлял брёвна своего камина, который грел и сушил мне обувь. Так и продремал, просыпаясь за ночь с дюжину раз. Отдых получился так себе, но всё равно я набрался сил. Чуть только небо осветилось и дождик стих, я, не теряя времени, перенёс огонь в костёр. Лишь закипела вода, как замоченный с вечера рис был уже готов. Позволив мне откушать и собраться, дождик снова зарядил, подгоняя меня в путь. Хотелось уже быстрее попасть в посёлок, но расстояние было слишком большим, и перспектива мокнуть ещё два дня не радовала. Теперь я решил уже ничего не планировать, а просто идти возможным темпом до туда, где ночь застанет, тем более, что на карте указано лишь два удобных места для стоянки на всём этом пути. И не известно, совпадёт ли начало следующей ночи с моим подходом к одному из них.
Наперекор дождевой мороси, спрятав от неё остатки сухой одежды, я опять пошёл в одной полушерстяной тельняшке, как морпех – в бой. После сидячей ночёвки моё тело заставляло останавливаться, пару раз за час, на двух-трёх минутные привалы, усталость накопилась. Но дольше рассиживаться – себе дороже, тело чрезмерно расслабляется и мякнет, идти потом становится тяжелее. Второй день я шёл через стоящий стеной реликтовый кедровый лес. Зато добавлял к своему скудному рациону кедровый орех. Этот год был урожайным, и я уже устал на ходу наклоняться за шишками. Они массово лежали прямо на тропе, уже спелые и слегка начавшие буреть. Если бы я их все собрал только с тропы, то и пустого рюкзака для них бы не хватило. Поэтому подбирал лишь особо понравившиеся, и складывал по боковым накладным карманам штанов, луща очередную на ходу. А когда карманы наполнялись, то на минутных остановках я перекладывал шишки в рюкзак, чтобы привезти сей гостинец своим домашним. К тому же, частые наклоны за ними, сбивали темп движения и это ещё больше утомляло. И тормозить, и наклоняться из-за такой мелочи, как шишка – хуже некуда для уставшего тела. А мой «конь» этого особо не любит, следуя органичным, для себя, аллюром. На коротких привалах, выбрав на ходу удобную валежину для посиделки, я успевал, хоть минуту, полюбоваться нетронутой древней тайгой, усердно луща руками шишку. Но аппетит орехи при такой нагрузке не снижали, а только, наверное, усиливали. Вот поэтому медведь ест шишку целиком.
Тропа вдоль озера шла рядом со срезом воды, поэтому была горизонтальной, без подъёмов и спусков. Зато препятствия здесь были посерьёзнее, чем на вчерашних участках. Из-за боковой крутизны склона по отношению к тропе, многовековые кедры падали верхушками к воде, в дни шквальных ветров. И эти стволы, в два охвата, почти на каждом третьем десятке шагов, перегораживали тропу, возвышаясь над ней гораздо выше пояса. Ни подлезть, ни перешагнуть, а только перелазить их можно, наваливаясь животом и грудью, перебрасывая ноги, не снимая, конечно, рюкзака. Этот участок в пять километров вымотал меня основательно, снизив скорость передвижения до двух (от силы) километров в час и возбуждая сильный аппетит, которого два предыдущих дня я не чувствовал, наверное, из-за быстрого темпа движения. Дополнительной сложностью была опасность наступить на шишку и упасть, настолько здесь их было много. Всё время приходилось неотрывно смотреть под ноги, хотя больше и не куда было, кругом стоял непролазный лес, а гладь озера лишь мелькала меж стволов, хотя отстояла от тропы на полтора десятка метров.
Часа за три я преодолел этот участок, выйдя на огромную поляну у стока Кучерлы из озера. К этому моменту моросящий, с перерывами, дождик усилился и сквозь его пелену я еле разглядел на этой поляне несколько групп палаток, расположившихся поодаль друг от друга. Ещё не выйдя из подлеска на этот простор, боковым зрением я уловил на мгновение, не сразу поняв, что это, голую женскую попу сквозь кусты на уровне своих глаз. От такой неожиданности и отвыкнув слегка от человеческого присутствия, я только через несколько шагов осознал то, что увидел, по доброму умилившись, как умилился бы художник, этому естеству. Видимо, человек не ожидал, что кто-то в такую погоду и в столь ранний час пройдёт по тропе, поэтому не стал далеко уходить в лес для оправления естественных надобностей.
С противоположного берега, возвышаясь над поляной и сливом воды из озера, бычился природный завал древнего селя, запрудивший когда-то Кучерлу, и этим самым образовавший водоём. Этот завал уже зарос глухой кедровой тайгой, сквозь ветви которой едва просматривалась охотничья база местных жителей. По качеству строения я сразу понял, что она используется в коммерческих целях. Между этим завалом и «нашим» берегом обрывался узкий каньон, в который белым бурлящим потоком вытекала из озера вода.
Проходя, уже по поляне, я поравнялся с ближайшей, к тропе, группой туристов. Их стоянка располагалась слева от тропы и ближе к воде. Трое стояли у костра: один поправлял огонь, другой подносил дрова, а девушка готовила завтрак в котелке, висящем над пламенем. Все трое были в городских прозрачных дождевиках. Увидев меня, идущего в одной тельняшке под дождём, девушка призывно помахала мне рукой, приглашая к костру. Отказываться был бы глупо, и я подошёл.
Глава третья. Случайностей не бывает
Лишь только я подошёл к костру, как девушка, пригласившая меня, беззастенчиво притянула меня за руку к себе под полиэтиленовую плёнку, укрывая от ненастья. Поддаваясь властной её хватке, я едва успел, в движении, снять свой рюкзак и поставить между своих ног, тоже пряча от дождя.
– Оля, – без всяких приветствий представилась молодая женщина, – Один, что ли, идёшь или оторвался от группы? – глянула она мне в глаза с приглашающей к тесному общению улыбкой, – Сейчас будем завтракать. Ты не против манной каши, надеюсь?
Её самоуверенность и постановка вопросов говорили мне о том, что я общаюсь с опытным горником, даже, скорее, с руководителем этой группы или, как минимум, – с завжором. Откровенно открытая симпатия Ольги ко мне сразу расположила к тёплому общению.
– Андрей, – представился я, – И ничего не имею против манной каши, даже люблю её, с детства. А от своей группы оторвался ещё позавчера. Они остались на Капчале, на днёвку. А я, исполнив своё желание – подняться на Белуху, заторопился домой, обещав своим домашним вернуться к первому числу, – ответил я встречно с неподдельной радостью. Всегда приятно от тёплого приёма, а тем более в таких условиях.
– Ух ты! Наверное, через Восточно-Капчальский шёл? А расскажи о вашем маршруте, – с профессиональной интонацией и искренним интересом напористо велела Оля.
Лишь только мы успели представиться друг другу, как легко одетая девушка в таком же, как у остальных, дождевике проследовала моим путём, явно из подлеска, и, стараясь быть незаметной, далеко обошла нас сзади, скрывшись в их одинокой палатке, стоящей между нами и озером. Никто из троих не обратил на неё внимания. Всем, как и мне, было понятно – куда и зачем она ходила. Значит, девушка была членом этой же группы. И именно её попку я случайно заметил на склоне при подходе, тем более теперь, не подав виду, что вообще заметил её.
– Да, через Восточно-Капчальский, конечно, – подтвердил я с улыбкой удовольствия от того, что мы с ней говорим на одном языке альпинистов. – А я правильно понимаю, что ты здесь руководитель? – начал знакомство я, наблюдая за тем, как двое парней возятся с костром, не давая ему снижать жар под напором дождя. Их отрешённость от нашего с Олей общения как раз подтверждала это моё предположение. Для Ольги они были мальчиками – исполнителями, это было видно по всем приметам.
– Правильно понял. А что – чувствуется? – с лёгкой гордостью в улыбке подтвердила она и с нетерпением поторопила, – Ну рассказывай!
– Сразу почувствовал! – признался я и начал рассказ.
Пока я нарочито и со сдержанным юмором в интонации докладывал ей о чисто технической части пройденного нами и мной маршрута, исключив, безусловно, любое упоминание о группе и отношениях в ней, Оля подала мне миску с кашей, а один из ребят предложил ложку. И мы вчетвером стали дружно завтракать, а та девушка из палатки так и не вышла. Ребята, будучи всё время рядом, молча слушали наш с Олей разговор, явно принимая меня равным в статусе со своей руководительницей, что соответствовало и моему уверенному самовосприятию. Парни были совсем молоды, лет, от силы, по двадцать от роду. Каша была жиденькой, зато на молоке (конечно, на сухом) и с маслом. Этим лёгкий завтрак и ограничился, но я и такому, второму для себя, был чрезмерно рад. Лишнего перекуса для меня теперь уже не могло быть. Сама Оля была чуть ниже моего (выше среднего) роста, русоволосая, на вид лет тридцати, красотка, плотного телосложения, с гармоничной спортивной фигурой. Её открытое лицо с крупными чертами выдавало прямоту натуры и отсутствие всякой дипломатичности.
– Слу-ушай! – озарённо стала догадываться Оля, – Не с нашими ли ты ходил? Этим же маршрутом и в это же время должна была проходить одна группа из нашего турклуба. У них руководителем Николай, он в очках и почти твоего роста, похоже и возраста тоже. А завжором у них Люба, кандидат наук… А…?
– Точно, ты угадала! Других, подобных групп, мы на нашем пути не встречали. Именно с ними я ходил. По случаю, через общего с Николаем знакомого, я присоединился к ним, чтобы сходить на вершину, – с лёгком удивлением подтвердил я, внутренне сразу огорчившись такому совпадению.
– Ну, расскажи! Как вы сходили, как они там?! – совершенно оживилась Оля, готовая с пристрастием расспрашивать и дальше.
– Да что рассказывать, хорошо, дружно и без происшествий прошли. С погодой повезло… – попытался я представиться не разговорчивым, внутренне смущаясь вынужденному лукавству.
С неприятным чувством в груди, я уже наперёд предвосхитил нелестный отзыв Николая обо мне этой Оле. Они же обязательно встретятся в своём турклубе, и, как руководители групп, непременно станут обмениваться всеми деталями своих походов для пополнения знаний и о естественных природных изменениях в ландшафте относительно описаний маршрутов и, конечно, характеристиками на членов своих команд. Ведь знание о наклонностях всех членов клуба необходимо руководителям для определения психологической совместимости при принятии человека в состав своей группы.
– Ты и о своём маршруте расскажи мне тоже! – попытался я переключить разговор на их поход, с таким же напором перехватывая инициативу в диалоге во избежание дальнейших расспросов.
И она, легко поддавшись, также коротко описала сухую техническую часть их пути, тоже, видимо, не желая говорить об атмосфере в группе, о чём мне что-то уже шептала моя интуиция. И, опираясь на свои ощущения, я не захотел даже спрашивать Олю ни о количестве, ни о составе их группы. Размер их единственной палатки совпадал с размером палатки нашей, теперь бывшей для меня, группы. Это значит, что и Олина группа должна, по идее, состоять из чётного числа участников, что удобно для «связок», то есть из шести. Но пока я видел только четверых, а на завтраке почему-то только трёх…(?).
– Наш маршрут тоже закончен и мы тут тоже на днёвке из-за дождя. Не хочется мокнуть на ходу. Если к завтрашнему разведрится, то уже пойдём в посёлок, – закончила свой рассказ Ольга, а через паузу, с выражением надежды на лице, глядя мне в глаза, воодушевлённо добавила, – Оставайся с нами на ночь, ты и так уже изрядно, видно, промок! Место в палатке найдётся, – и она широким жестом показала на неё, – …Вон как затянуло, видимо ещё на сутки, – кивком головы она посетовала на небо.
– Нет! …Спасибо большое за завтрак! Но я пойду! Может уже сегодня до посёлка получится… Сидеть в палатке под дождём – не много удовольствия даже в приятной компании. В городе встретимся ещё и пообщаемся… – решительно отказался я, дипломатически принуждённо слукавив и не желая больше встречаться по выше названной причине.
– Что ж, …тогда счастливо! – с явным огорчением в голосе и во взгляде пожелала она. А следом добавила уже передающим эстафету тоном и, к моему удивлению, с лёгким сарказмом на лице: – Наши двое тоже сегодня рано утром отправились в посёлок, не захотели здесь пересиживать. Парень с девушкой, ты их сможешь, я вижу, догнать. Вместе вам, землякам, веселее будет идти, а может потом и ехать. Они медленно идут.
– Вот как! Здорово! Буду теперь догонять их, вместе конечно веселее, – оживился я.
Записав домашний номер телефона Ольги в свой блокнотик, я обещал ей при случае звонить, к собственному удивлению, совершенно искренне; своего-то телефона у меня в то время не было никакого. В этот момент дождик заметно стих, но продолжал моросить. Провожая, она пожала мне руку с уважением и симпатией в прощальном взгляде. А я, ни секунды не задерживаясь, стремглав вынырнул из-под её широкой плёнки и, закидывая на ходу свой куль за спину, без оглядки поспешил по тропе к подъёму на крутой травяной склон высокого яра, нависшего над вырвавшимся из озера потоком реки Кучерлы.
Чем выше я поднимался над соответственно уменьшающейся в моём поле зрения поляной, оставшейся позади и внизу, тем больше светлело небо, и стихал дождик. Находясь под сильным впечатлением от этой встречи, я всё больше утверждался в возможной схожести взаимоотношений в группах Ольги и Николая. Все косвенные приметы говорили мне об этом. Неспроста Ольга так обрадовалась новому человеку, то есть мне (может, с первого взгляда разглядев родственную душу), явно игнорируя своих, не участвующих в приготовлении завтрака. И неспроста те двое «сбежали» от неё – так ведь можно и предположить. А ту девушку, скрывшуюся в палатке, все трое так и не позвали к утренней трапезе, и это было странно. Наверное, она оставалась там в одиночестве, раз ни звука оттуда не донеслось. Вот и получается, что их команда и состояла, скорее всего, из шестерых. …Так я развлекал себя, дорисовывая в мыслях то, что было неочевидно глазу. Думать о городских делах повседневной жизни совсем не хотелось, потому что там – неопределённость в работе, заботы о кормлении семьи посредством несвойственной моей натуре деятельности. Думать об этом буду по возвращении! Как говорится: «будет день – будет пища».
А сейчас – только вперёд! И успевай ещё насладиться горной и гореней чистотой!… Но мысли уже, наперекор созерцанию, стремились вперёд – быстрее в посёлок, быстрее домой! – «Если сегодня случиться дойти до Тюнгура, то ночевать лучше в частном доме, у русских. Попить парного молочка, попариться в баньке! Но чувствую, что этим мечтам сбыться не суждено. Можно и на турбазе «Высотник», что спряталась в лесу перед мостом, не доходя до посёлка. Конечно, мне интересно её осмотреть по пути и узнать все условия размещения, поэтому не премину зайти».
Успел лишь я забраться на самое высокое место этого прижима, как дождик совсем прекратился чудесным образом, но просветлевшее небо было ещё затянуто серой дымкой облаков, едва позволяя проглядывать светлому кружочку солнышка, уже взошедшего над горами. А впереди меня «ждала» ещё более глухая стена кедровой тайги, чем на предыдущем участке, нехотя пропускающая, сквозь чащу, ставшую уже конной, тропу. Я оглянулся в последний раз на озеро и поляну с высоты в полторы сотни метров, чтобы попрощаться с нетронутой человеком частью распадка и озером, чувствуя, что нынче такого великолепия больше не встретится. Отсюда открылась самая масштабная панорама этой чудной части Кучерлинского ущелья. Бирюзовая гладь озера, похожая, с этого ракурса, на отполированный монолит бирюзы, бархат верхушек таёжных крон, салатные склоны альпийских трав, поляна с «игрушечными» палатками «разномастных» групп туристов, с огоньками костров и муравьиными фигурками людей – представили мне гармоничную цельность божьего творения. Глаз не устанет и часами любоваться этой картиной…
С силой заставив себя оторваться от её созерцания, я погрузился в чертоги буйно благоденствующей непролазной и непроглядной тайги. Ни неба, ни пейзажей уже не открывалось. Только узкая конная тропа давала проход. Ни влево, ни вправо с тропы невозможно сойти, не провалившись до середины икр в мох, подстилку из хвои, листьев и старой травы. Дальше – больше: трава по пояс, кусты, полусгнивший валежник выше колена и валуны, маскировавшиеся мхами и лишайниками. Даже трудно найти место, чтобы отправить естественные надобности. А промокшая тропа, как толчёная картошка, взбита копытами лошадей. И, цепляясь чёрной жирной грязью за протектор вибрамов, наматывая на него лишний груз, земная твердь, вероятно, желает задержать движение неуёмного пришельца. Здесь уж не разогнаться: или скользишь, или увязаешь, теряя силы на отдаче. Но с другой стороны – узость обзора создавала иллюзию хорошей скорости при любом шаге: толстые стволы деревьев, ограничивая взор, как в ускоренной кинопроекции мелькали с обеих сторон. А осознанность этой иллюзии неподдельно веселила.
Я не был уже так свободен, как в прошедшие дни, поддавшись искушению обрести компанию. «Полёт» души прервался. Зато явился новый стимул к ускорению. Ведь встреча с новыми людьми в едином с порыве к общей цели вселяла надежду на позитивно-интересное общение, отвлекая от угнетающего чувства усталости. И интуиция мне подсказывала, что будет именно так, что те ребята, которых догоняю, совсем не похожи на встреченных доселе. И предвиденье необычно ярко рисовало мне их в целом, включая и внешность, и даже душевные свойства. Такие мысли, чувства и образы, в сочетании с новизной этих мягких таёжных чертогов, невероятно возбуждали и ускоряли стремление, а усталый мой «конь» поспевал догонять сей порыв. Тропка вилась свозь лес вдалеке от реки, шум которой, теперь уж изредка, пробивался слева и снизу, успев вызвать ностальгию по живому потоку. Но со временем всё чаще «падая» вниз и снова взвиваясь по волнам сжатого древним горообразованием склона, тропа всё-таки иногда выводила меня к Кучерле, страшно «кипящей» серо-бирюзовой водой, перекатывающейся по гигантским камням.
Спустившись с очередного прижима к реке, я попал в каменный «мешок» с удобной стоянкой и костровищем прямо у среза воды. Грохочущий поток взлетающих от камней на два метра волн, невероятно узкий, глубокий каньон и готовый упасть на полянку вековой лес создали здесь крайне неуютную атмосферу. Угрюмость места усилила памятная табличка об утонувшей здесь туристке-воднике, прибитая к толстой берёзе, стоящей в трёх метрах от воды. Вдобавок, в сей же момент сгустились тучи, снова грозя дождём. И сжатый склонами узкий проём небосвода совсем помрачнел, будто кто-то оттуда нахмурился на меня. Промелькнула мысль: «…даже в хорошую погоду я бы здесь не встал на ночёвку с могильной печалью о молоденькой девушке, глядящей на стоянку с фотографии. Вот же судьба! Такая красивая и в цвете лет, ничего толком не изведав в жизни и так нелепо, кажется… Вот именно, что кажется! Пути Господни неисповедимы!» Как у М. Ю. Лермонтова в эпиграфе к поэме «Мцыри»: «Вкушая, вкусих мало мёду и се аз умираю».
Мои внутренние часы подсказывали о приближающемся обеденном времени, и мне, в первый раз за поход, так нестерпимо захотелось кушать, что я, несмотря ни на что, решил встать на обед. Видимо, измотанное переходами тело, не получая требуемого питания, с возмущением запротестовало. На скромной порции риса два раза в день трудно долго протянуть. А подтопленный кусок сала был настолько невкусен, что не лез мне в горло. Я и с детства не любил сала, родившись, может, вегетарианцем, но родители и армия от скудности пайка всё-таки «заставили» полюбить мясное. А на ледниках хорошее солёное сало, пропитанное чесночком, и мне очень заходило; там без него туго… Ко всему же прочему, после манной каши, как после аперитива, у меня всегда только усиливался аппетит. Здесь же, в костровище, даже лежала растопка с берестой и рядом стопка дров, укрытая камнями от дождя. Горя желанием, я решил покончить с остатком риса, чтобы успокоить организм. А заготовленное добрым человеком топливо так и манило к использованию. …Но сухая с виду береста не разгоралась ни с первой, ни со второй, ни с третьей спички! Такого со мной ещё не бывало! Обычно костёр я разводил в любых условиях и с первой же… В этот же раз мои сухие спички ровно прогорали, а растопка не желала браться ни на йоту. В тот же момент начал моросить дождь.
– Что, даже поесть мне не дашь?! – громко возопил я в небо, интуитивно чувствуя на себе и строгий взгляд, и властный отказ, как мне представилось – ближнего ко мне из божественной иерархии.
А в голове отразился ответ в виде знания: – Нет, иди вперёд быстрее! Те, кого догоняешь, скоро встанут на обед. С ними и насытишься.
Моментально согласившись и смирясь, я стремглав, что было сил, «залетел» на верх прижима, без оглядки покидая место, которое теперь уж не забыть. И, предельно себя подгоняя, не глядя более по сторонам, где всё почти однообразно стало, я пошёл, словно стайер на дистанции спортивной ходьбы. А дождь, видимо, «не выдержав гонки за мной», сразу отстал. Вот ведь чудеса! Как тут отмахнуться от участия Провидения в нашей жизни!
Наконец, до меня долетел запах кострового дымка, приправленного «духом» горячего супа. И вскоре, выйдя на роскошную и первую после озерной поляну посреди уже начавшегося смешанного леса (в соответствии с понижением высотности), я обнаружил парочку, готовившую на костре обед. Сомнений не было, это были те, кого догонял. Такими их, умозрительно, я и «увидел», ещё в начале дня. Каково же соответствие…!
– Привет, ребята! Догнал вас, наконец! – крикнул я им с расстояния ещё в сотню шагов.
Они вскинули в мою сторону напуганные и удивлённые взгляды, явно не желая, видно, встреч ни с кем. С подчёркнуто дружелюбной улыбкой я быстро подошёл к костру, на ходу скидывая с плеч надоевший сырой рюкзак и, опережая возможные возражения, ещё в движении начал представляться:
– Я – Андрей. Мне ваша руководительница Оля сказала про вас. Я из другой группы одного с вами клуба. Так же, как и вы, оторвался от своей группы, ещё три дня назад. Примете меня в компанию или лучше дальше пойти? – начал я знакомство как можно проще и с долей юмора, видя, как напряглись лица ребят при упоминании имени Оли.
И мне стало до конца понятно, что они точно сбежали о своей руководительницы, моя интуиция мне правильно всё подсказала. Значит атмосфера отношений в их группе, по меньшей мере, не лучше, чем в группе Николая.
– Здравствуйте! – испытующе глядя мне в глаза, ответила не очень уверенно девушка, со сдержанной улыбкой на лице. И без паузы предложила: – Обедать с нами будете?
– Конечно! Трудно отказаться! … А как вас зовут? – искренне весело отозвался я.
– Я – Лена, а он – Владимир. Сейчас супчик будет готов. Располагайтесь! – предложила она, смелея с каждой секундой.
Вот это я успел – прямо к раздаче порций. Вот что значит – слушать свою интуицию!
Небо постепенно светлело, и я перестал искать на нём признаки дождя, чувствуя окончательное улучшение погоды. Владимир, ни разу не подняв на меня взгляда и не проронив ни слова, возился с костром. А Лена, увидев во мне непредвзятость и весёлую непосредственность, начала легко общаться со мной.
– Вот мой вклад на общий стол. И кроме горстки риса ничего у меня уже нет, простите. Я сала не ем, так что распоряжайтесь как угодно, возврата не приму! – предложил я твёрдо, достав залежавшийся его кусок, и отдал вместе с пакетиком сухарей Лене. Она приняла всё без слов.
Грибная похлёбка с сухарями была, вероятно, сытной, но не на мой вкус, зато горячей. За коротким отдыхом после трапезы, Лена спросила меня о нашем маршруте и о моих горных походах вообще, как это бывает всегда при подобных встречах. Я очень кратко обрисовал свой альпинистский опыт для знакомства, но умышленно не стал ни о чём любопытствовать сам, интуитивно понимая, что не стоит смущать их расспросами. Сами расскажут, если захотят. Владимир молчал как рыба, так и не поднимая взгляда, но и не выказывая и доли недовольства, явно приняв меня уже, как данность…
Почувствовав усвоение пищи, мы стали собираться в путь.
– Вы не против, если я пойду с вами, за компанию? Веселее будет, – предложил я, вставая от костра и предполагая то, что вероятно им и без меня не скучно.
– Конечно, идём! И веселее и надёжнее! – с подчёркнутой готовностью моментально отреагировала Лена.
Она была красивой темноволосой евреечкой, невысокого роста, моложе тридцати. Её, мягкая на вид, фигура была гармонично сексуальна. Владимир, похоже, жёстко неразговорчивый человек, выглядел моложе Лены. Он был чуть ниже меня и на полголовы выше своей подруги; своей мужской красотой, плотным спортивным сложением и манерами напоминал белоруса. По косвенным признакам у меня сложилось впечатление, что их отношения только начали развиваться. Может, поэтому он и не выказывал положительной реакции на мою компанию. А я, со своей стороны, не захотел делать джентельменских жестов, тем более, что Лена уже почти радостно привязала меня к ним.
Рюкзаки ждали ребят почему-то на другой стороне от тропы, а я свой укладывал у костра, как и остановился. И между нами, при этом, оказались десятки метров и сама тропа. Вдруг, со спины, я услышал негромкой, но утробный гик, характерный для наездников. Хоть ум мой и отказывался, но я сразу всё понял и, уже готовый к встрече с местными жителями, спокойно развернулся. Со стороны озера, откуда и мы пришли, двигалась ватага всадников. Тот звук был знаком вожака к остановке движения. Как ехали они гуськом, согласно узкой тропе, так и остановились, закрыв от моего взора ребят. Их было девять, все довольно молодые и, кроме одного русского, идущего вторым, все – алтайцы. Одеты они были по-охотничьи, но оружия при них видно не было. Остановившись дружно, спешиваться даже не собирались. Возглавлявший процессию вожак-алтаец лет тридцати, крупного телосложения, явно националистически настроен, с надменным выражением на лице обратился ко мне, не удосужившись даже как-то поприветствовать:
– Верёвку подари! …По моей земле ходишь! – возвысил он агрессивно властный тон на последней фразе.
К этому времени я уже успел застегнуть свой рюкзак. И, нарочито нагло, глядя ему прямо в глаза, приподняв с подчёркнутым достоинством бороду, я, демонстративно луща руками шишку и по-хамски сплёвывая ореховую шелуху, неспешно и нараспев ответил:
– А нет верёвки, её позади моя группа несёт, – и показал левой рукой в сторону общего исхода.
– Тогда нож подари! – продолжал вымогать алтаец.
– Нет и ножа у меня, у нас один на всю группу, – снова соврал я ему.
Не ожидая, видно, такого уверенного отпора от меня, он повернулся в сторону моих новых спутников и спросил что-то у них. Ребята наверняка слышали мои громкие ответы, и, думаю, подготовились как-то, оперевшись на мой опыт. Но мне не было слышно из-за расстояния и преграды в виде конского тела, о чём был у них столь же короткий разговор. Ребята укладывали вещи совсем рядом с тропой, и алтаец прямо нависал над ними. До меня доносился лишь тон голосов. Согласно звукам я понял, что в ответ алтайцу наверняка Владимир что-то пробубнил сдавленным голосом, также, вероятно, отказав. По меньшей мере, было явно, что и ребята не подали наглецу ничего.
Вожак снова повернулся ко мне, очевидно приняв за их руководителя, и пригрозил бандитским тоном:
– Ладно..! Ещё встретимся..!
При этом русский всадник, глядевший тупо всё время в спину вожака, делал вид, что его здесь нет. «Вот так ведут себя предатели среди славян» – подумал я с досадой. «За державу обидно…!» – как говорил герой фильма «Белое солнце пустыни». Остальные всадники смотрели на меня, как на потенциальную жертву рэкета, не смея, видимо, без команды встревать. На лицо у них была жёсткая иерархия. И, более ничего не выразив, ватага, глядя перед собой и также не спеша продолжила движение, очевидно, в село Кучерла, населённое одними алтайцами. А мы, молча взвалив свои ноши на спины, пошли вослед, с надеждой, в дальнейшем, незаметно обойти эту деревню, стоящую на три километра раньше Тюнгура. …И верёвка, и плохонький нож покоились у меня в рюкзаке. Но в любом случае, ничего бы не отдал.
Теперь я шёл уже темпом моих спутников, хотя и в лидирующем положении. Лена шла следом, а Владимир сразу начал отставать, сильно прихрамывая. Мы с Леной, сходу увлёкшись разговорами, продолжая идти уже плечом к плечу её темпом, постоянно отрываясь на сотни шагов от Владимира. И, почувствовав в очередной раз его отсутствие рядом, мы оглядывались и делали короткий привал в ожидании его подхода. Хоть я и не спрашивал, но на первом же привале Лена пояснила мне:
– Он сильно натёр ногу, поэтому мы и ушли вперёд группы, маршрут у нас закончен.
– Тогда давайте пойдём медленнее, а то как-то неудобно, – предложил я и мы с ней поначалу сбавили темп.
– Может уже перейдём на «ты»? – предложила вскоре Лена, видимо разглядев во мне надёжного спутника и интересного ей собеседника.
– Да, конечно, так проще общаться, – согласился я с готовностью, понимая, что надо успевать общаться накоротке, когда есть такое взаимное доверие. Ведь вряд ли случится увидеться ещё.
И, действительно, с первой же минуты нам с ней стало интересно беседовать, и время на ходу пошло незаметно, и сил будто прибавилось. Почти все темы наших разговоров инициировались ею и мнения по ним не вызывали, к моему удивлению, никаких разногласий. Она умела слушать терпеливо, не торопя и не перебивая, что создавало непринуждённость и удовольствие от общения. Умение слушать, надо сказать – это лучшее из качеств собеседника. Однако, увлёкшись беседой, мы, видимо, снова переходили на удобный для Лены темп и отрывались от Владимира иногда уже настолько, что теряли его из виду. И, присаживаясь на очередную удобную валежину, ждали его, продолжая непрерывную беседу. Будучи, очевидно, охотчивыми до разговоров, мы оба, явно, наскучались по хорошему собеседнику. А Владимир подходил с каждым разом всё более хмурым, глядя на беспрерывный и увлечённый разговор. Но нам уже было не остановиться. К тому же Лену нисколько не смущала его хмурость. И, отмечая это для себя, я был спокоен и даже счастлив, ведь счастье – это взаимопонимание между людьми.
Темы нашего разговора удивительно гармонично перетекали от одной к другой. Поначалу мы делились впечатлениями о здешних местах, постепенно раздвигая географию своих путешествий. Я рассказал Лене о своих ощущениях на ледниках Белухи по её просьбе. Повествовал об экспедициях на Тянь-Шане и на Памире, о национальных особенностях племён и народов, с кем имел возможность лично общаться. Постепенно мы перешли и к обсуждению мистической составляющей путешествий её и моих. Было приятно, что наши мнения полностью сходились на любых темах. Разговор шёл почти на равных. Когда мы уже перебрали, будто бы, все «высокие» темы, Лена среди вопросов об этносах спросила и о насущном:
– Как ты думаешь, Андрей, грозит ли нам ещё встреча с местными вымогателями, подобная сегодняшней? И насколько они могут быть нам опасны?
– Встречи такие, конечно, возможны. Но в светлое время дня вряд ли опасны. Несмотря на напыщенный пафос, тюркские племена трусоваты. Но в тёмное время суток они точно будут смелее, однако, не поодиночке, конечно. Будем надеяться, что Провидение нынче избавит нас от подобных встреч, – начал я пояснять свои исследования.
– Это, вероятно, общая тенденция нашего времени – расцвет рэкета во всех сферах, – продолжила тему Лена.
– И это тоже. Но здесь стоит ещё понимать, что у всех, отдалённых от городских агломераций малых народностей, очень отличающаяся, от нашей, культура. У них не только свои обычаи, но и их взаимоотношения между своими нам могут показаться диковатыми, мягко говоря. В одном ряду у них стоят гостеприимство и ксенофобия, бескорыстность и в высокой степени чувство собственности. К земле в том числе, и личной, и племенной. Помнишь, как тот алтаец подчеркнул: «по моей земле ходишь». Значит – компенсируй чем-либо за то, что землю его топчешь. Я думаю, что в их, консервативном, сознании остаётся своеобразный феодализм, но этого никто из них, конечно не признает.
– Даже так?! Это как-то диковато… – удивилась Лена.
– Для нас это так. А для них в порядке вещей такое. В ближайшем из городов найти бомжа, уговорить себе в работники за кров, одежду и кормление. Затем: привезти к себе в глубинку, устроить, одеть мал-мальски, кормить. А за это заставлять работать столько, сколько хозяин захочет. Но если такой работник плохо работает или вообще отказывается, то хозяин его просто вывозит на трассу и бросает подальше от своего хозяйства, не обеспечивая возвращения туда, откуда забрал.
– Откуда ты это знаешь? – с некоторым недоверием спросила Лена.
– Сам слышал, и не раз, как при мне алтайцы без стеснения между собой обговаривали эту тему на вокзалах. При этом они называли любых наёмных людей рабами.
– Все такие что ли? – не хотелось ей верить в такую дикость.
– Думаю что нет, в статистику не вникнешь. Кто бы её ещё вёл?! В разных районах, тем не менее, слышатся такие разговоры, причём и среди местных русских. Но если, по предварительной договорённости, попадаешь к местным в гости, то гостеприимство может быть абсолютно бескорыстным. Особенно если гость ранее оказал хозяину хоть малейшую услугу. Но скоро наступят времена, когда местных научат монетизировать свои услуги туристам и тогда не будет больше такого вымогательства.
Так мы, без умолку, на ходу, рассуждали, оставшиеся полдня, на разные темы, включая и религиозные, и эзотерические. Ущелье постепенно расширялось, открывая нам красивые поляны с многовековыми гигантами-лиственницами, растущими на уважительном расстоянии друг от друга. Они выглядели стражниками, хранителями «заповедного» пространства, своей мощью остерегая посетителей от варварского отношения к природе. При приближении к исполинам возникало подспудное желание испросить у них позволения на проход с вежливым поклоном. А они в ответ, казалось, оценив натуру пришельца, великодушно давали «добро». …И, удобно устроившись под кронами этих стражей на очередной минутный привал, мы с Леной продолжали оживлённую беседу.
– Вот меня всё время мучает такой вопрос: почему носители всевозможных религиозных конфессий как-то постепенно становятся всё агрессивнее, каждый раз, со времени основания мирной и глубоко нравственной религии, – задала Лена обсуждение очередной темы.
– Да, это так, но всё объяснимо. Идейную основу любой конфессии составляет школа духовного учителя, который не может иметь организаторских способностей, потому что они противоречат его натуре и предназначению – совершенно и определённо. Поэтому религиозную структуру может создать лишь властолюбивый человек. А у него и у следующего за ним не могут отсутствовать такие качества, как ревность и зависть, которые рано или поздно, но постепенно проявятся в отношении иноверцев. А это ведёт к возбуждению у религиозных фанатиков агрессивной реакции на инакомыслие. В крайнем итоге всё это приводит к религиозным войнам.
– Ничего себе, как коротко и ясно всё рисуется. Соль истины – есть краткость. Тогда скажи, почему у человечества столько религий и количество конфессий всё растёт? – с усиленным интересом продолжала развлекаться Лена.
– Да потому же, что властолюбивые люди желают иметь личную паству. Ведь любая религия – есть власть над душами. Бесспорно, что все религии несут, прежде всего, нравственные начала, но каждая гласит лишь свою часть истины, необходимую для своей культурной и языковой среды. Каждая религиозная ли, магическая ли, духовная школа обладает только долей истины, всю полноту которой человек знать не может.
– Ну, как же? Человек же создан по образу и подобию!
– По образу и подобию всего земного, прежде всего. Вот, к примеру, волосы и ногти – представляют флору, а всё тело – фауну. В душе каждого человека, конечно, частичка Бога, но только частичка. А если разобраться, то эта частичка – лишь нить, связующая с божественной иерархией. Но современный человек забыл про эту нить, потеряв или, в лучшем случае, сильно ослабив устойчивую связь с «Небом». А она всё-таки пробивается – в виде интуиции. Но, пока человек живёт в этом земном мире, он, в соответствии с божественном законом, сильно ограничен в познании вообще.
– Но почему же, это как-то даже обидно, – продолжала стимулировать меня на эту тему Лена.
– Вот поэтому ему и дана эта связь – через интуицию. И специально ещё для того, чтобы индивид сам, имея свободу мысли и интуитивное чувство, нашёл своё предназначение в земной жизни. Но всё-таки главное для человека – укрепить ту связь, о которой я сказал, доверяя своей интуиции, которая никогда не подведёт, потому что только через неё можно получать достоверное знание. А вот сделка с совестью всегда только рвёт её.
– Ну, хорошо. А если интуиция противоречит логике?
– Логика – и есть капкан, в который человек зачастую сам себя загоняет. Лишь интуиции надо доверять, отбрасывая логическую цепочку, место которой может быть где угодно, только не при принятии решений, спонтанность которых оправдана практикой наиболее успешных в человечестве личностей. …Так я не закончил о религиях. Во-первых, новую религию основывают, прежде всего, в соответствии с культурой конкретного этноса, опираясь, конечно, на прежнюю, и в связи с новыми открытиями в области нематериального. Но новые открытия являются забытыми старыми знаниями. Из-за уничтожительных войн или природных катаклизмов люди много чего забывают. А наступают времена возрождения культуры – тогда новые поколения делают сызнова те же открытия, полагая что – впервые в истории. Таким образом, человечество «блудит» вокруг, да около, коротко говоря, и в духовной области, и в технократической. А все религии, по сути, происходят изначально от одной, монотеистической.
– И какой же? – пристрастно глянула мне в глаза Лена.
– На памяти человечества – это зороастризм. Глубже в древность заглянуть нет возможностей.
– А как же шаманизм?
– Шаманизм не противостоит, если разобраться, никаким религиям. Вера в одного Бога не исключает использование людьми с, так называемыми, сверхспособностями, сакральных знаний, стихий и представителей самых нижних уровней божественной иерархии, для целительства и предсказаний. Всё вместе показывает букет возможностей человека, данных ему Богом, поскольку сами сверхспособности являются такими же естественными, как и всё вокруг, постижимое и кажущееся непостижимым. А вся, так называемая, нечисть, мирно живёт в рамках божьего творения, не вредя человеку по своей воле. Только сам человек, имея от Бога достаточно свободы воли, может использовать её во вред и другим, и себе (в обратку), как говорится – не ведая, что творя. Сама же нечисть, как раз, не имеет свободы воли и даже намерения вредить кому-либо. Она исполняет свои функции в своей области, не связанной с человеческим бытиём. Среди людей же Бог производит отбор, в рамках которого те, кто не искушается на потакание собственным низменным желаниям – будет избран. А те, кто поддаётся искушению на свои слабости и корыстные злоупотребления, тот сам себя накажет, в соответствии с Законом Божьим. Бог же не наказывает, любя все свои создания, наказывает Закон. А между религиями, если опять же разобраться, нет противоречий для вдумчивого человека. Просто многие безграмотные люди, порой даже не читающие, или по-своему интерпретирующие святые писания, трактуют их произвольно, порой провозглашая то, чего в них и нет.
– Откуда ты это всё знаешь? – уже с лёгким вызовом и, тем не менее, с заинтересованностью и доверием «пытала» меня Лена.
– Исследовал, с помощью непредвзятого анализа, накопленные человечеством знания. А эти исследования подтвердились интуицией и определённым личным жизненным опытом. И в результате перешли на уровень убеждения. Ничего сверхъестественного, ибо всё, что человек может знать, видеть и чувствовать – всё естественно.
– А сам ты хорошо ладишь со своей интуицией?
– Пока, признаюсь – плохо. Пока в отрыве от цивилизации, ещё использую её. В городской же суете часто предпочитаю привычную логику, искушаясь своим желаниям и желаниям самых близких. А потом за это получаю наказание от судьбы. И вспоминаю задним числом, что интуиция кричала ведь: – не делай так! Не послушал и сам себя наказал. Вот так и учусь.
– Да уж, все мы так… – вздохнула Лена, а через паузу задала новый вопрос:
– А зачем вообще нужны религии, если есть вера в душе, в сердце?
– Глубокомысленному человеку, может, и не надо. Но такие люди – в меньшинстве. А простым людям, кто заботится только о насущном, нужен пастырь, тот, кто в любой момент подскажет, успокоит, направит. Для стабилизации общества в духовной сфере, консолидации в идеологической, упорядочении в нравственности и морали, в поддержании власти, обеспечивающей порядок и безопасность – вот в чём необходимость религии.
– Трудно не согласиться, – тяжело выдохнула Лена, видимо, желая закрыть эту серьёзную тему. И, естественным образом, впервые в нашем диалоге наступила длительная пауза.
И только в этот момент я увидел, будто вернувшись в реальность, что начало смеркаться. Вот так, при серьёзном разговоре я всегда настолько концентрируюсь на теме, что не осознаю в полной степени происходящее вокруг, как токующий глухарь. Приближение ночи насторожило ум, заставляя задуматься о ночлеге, потому что конца пути как не просматривалось, так как и не предполагалось. А Лена, вдруг, вернулась к непосредственно насущной теме, видимо поддаваясь приближающимся ночным страхам:
– А если эти алтайцы снова встретят нас, к примеру, в тёмное время? Тогда что – придётся откупаться? – взволнованно спросила она, глянув мне в глаза.
– Ни в коем случае нельзя ничем откупаться, показывая свою слабость! Они из той категории людей, что уважают только силу, силу духа, в первую очередь! Надо смело смотреть хоть в глаза, хоть над головой вымогателя, но без вызова. И не вступать ни в какой диалог, если не владеете их разговорной культурой. Единственное, что нужно сказать в нашем случае – спокойно потребовать пропустить на турбазу «Высотник». Это самый оптимальный и даже спасительный вариант. Они подумают, что мы под защитой этой турбазы. Я думаю, что в глубинах своих душ эти, примитивные для нас, аборигены всё равно имеют, хоть и скрытую, может, от них самих, чистую совесть. К тому же ещё и боятся ответственности перед законом и не преступят черту при молчаливом отпоре. Главное – ни чем не спровоцировать их на агрессию и не выказать страха. Быть самоуверенными и спокойными! Как сказал поэт Евгений Евтушенко: – «…Умейте всем страхам в лицо рассмеяться, лишь собственной трусости надо бояться!».
– Да, надо набираться отваги! – в задумчивости вырвалось у Лены.
Владимир вряд ли слышал и этот наш разговор, всё чаще и больше от нас отставая. А я, за разговорами, ослабил и стремление добраться до цивилизации, и, привычное уже, наблюдение за окружающей природой. Небо всё больше открывалось с расширением распадка, давая нам возможность определять время суток. И совсем не хотелось уже холодных ночёвок под открытым небом, когда ещё не угасло опасение новой порции дождя, потому что небо так и продолжало хмуриться, быстро пронося над нами длинные знамёна узких серых туч. Поэтому мы, в какой-то момент, резко остановились, поняв в замешательстве, что стало быстро темнеть, что на самом деле мы «упёрлись» в ночь. В этот момент мы вышли на открытый простор широкого альпийского луга и встали в раздумьях на опушке леса, теперь оставшегося за спиной. Слева – крутой травяной яр, на который мы вышли, круто «падал» к руслу Кучерлы, шумящей на двести метров ниже нас. Справа – травяной ковёр с небольшим подъёмом уводил за горизонт опустившийся, уже низко, правый склон ущелья. Прямо – вилась сквозь густую низкорослую траву «наша» тропка к лесу, лежащему на горизонте и видневшемуся теперь, в густых сумерках, уже чёрной полосой. И мне подумалось, что уже за этим лесом находится село Кучерла. У наших ног справа налево струился ручей с прозрачной водой, стекая затем в Кучерлу. А правее от тропы рос низкорослый ивовый куст со стелящимися толстыми нижними ветвями. За ним мы обнаружили небольшой штабель двухметровых досок, тщательно обтянутых полиэтиленовой плёнкой от дождя. Видимо, кто-то из местных захотел в этом месте соорудить беседку для привала перед «погружением» путников в чащу леса, и заготовил здесь материал. В ожидании Владимира, мы с Леной неожиданно дружно, впервые после обеда, сняли, не сговариваясь, рюкзаки и утолили жажду вкусной водой из ручья, используя лишь ладони. Даже без слов нам обоим стало понятно, что на сегодня хватит. Вода – под рукой и надо выбирать место для сна.
– Что же, наверное, не стоит нам сегодня приближаться к селу, которое, вероятно, за тем лесом. Лучше со свежими силами завтра, с утра пораньше, проскочим его. А чтобы успеть на автобус, я разбужу в четыре утра, у меня ручные часы, – бодро и твёрдо заявил подошедший Владимир, впервые при мне открыв рот и ещё на подходе снимая с плеч свой рюкзак.
Он уже, видимо, рассчитал время на преодоление расстояния отсюда и до стоянки автобуса, опираясь и на время завтрака, и на свою малую скорость передвижения. На горных маршрутах расстояние измеряется не километрами, а часами перехода.
В девять утра из Тюнгура выходил, в те времена, единственный рейс пассажирского автобуса в столицу Республики Алтай – Горно-Алтайск. И если на него не успеть, то будет задержка на сутки, поэтому всё стало строго теперь, для нас. А задерживаться здесь, в рабочем посёлке, после чистой природы, уже совсем не хотелось, когда есть возможность – с маршрута и сразу в транспорт.
«Вот – достойный мужчина! Если говорит, то лишь по делу» – подумал я, моментально зауважав незнакомого, по сути, спутника. А вслух предложил:
– Давайте используем вон те доски и соорудим из них ложе. Поднимается холодный ветер, и ложиться снова на землю совсем не хочется. На этом высоком яру, как на гольце, – хороший разгуляй всем ветрам.
– Согласен с тобой, Андрей! А есть у тебя верёвка? – воодушевлённо отозвался Владимир.
– Да, сейчас достану, – с готовностью ответил я и полез за ней в свой рюкзак.
Аккуратно достав нужное количество досок из того штабеля, мы с ним вдвоём быстро соорудили настил на нижних ветках куста, закрученных аномальной энергетикой места. Между настилом и землёй получился просвет в полметра, защищающий от сырости почвы. Впервые за полмесяца нам предстояло спать не на земле, а даже на древесном ложе, где едва вместились три наших каремата. А с помощью верёвки, которую ловко и профессионально натянул меж верхними ветвями Владимир, мы соорудили навес, используя мой большой кусок полиэтилена. Защита от ветра и возможного ночного дождя получилась в виде полу-палатки. Владимир так быстро и инициативно работал, что я без сомнения, увидел в этом попытку само-реабилитации, перед Леной, видимо, в конкуренции со мной. У меня это вызвало только уважение.
Хвороста на обозримом пространстве не было видно, а возвращаться в ночной лес для поиска дров с фонарём не хотелось, да и сил на это уже не было. И мы решили обойтись сухим перекусом из остатков сухарей, карамели и кураги, запивая водичкой из ручья. Трясясь от резкого похолодания и дожёвывая остатки снеди, мы стремглав залезли в свои спальники с головой, от озноба, как следствия усталости. Я, по своей привычке, лёг, конечно, с наветренной стороны, защищая ребят от холодного осеннего ветра. Посредине, безусловно, разместили Лену. И, прижавшись плотно боками, на узком помосте, мы быстро уснули, ни разу не проснувшись и не шевелясь до утра. Очнулись почти одновременно от того, что кто-то первым пошевелился. Было уже светло, и я сразу понял, что мы проспали назначенный час.
Садился утренний туман, что предвещало в одном ряду с ночным холодным ветром – солнечную погоду днём. Владимир подтвердил, что уже начало шестого утра, и мы спешно начали собираться. Лена раздала нам остатки такого же сухого пайка, и мы с Владимиром, жуя их на ходу, начали быстро складывать использованные доски обратно в штабель, приводя всё в исходное состояние. Смотав пятидесятиметровую верёвку и полиэтиленовую плёнку, я окончательно убрал их в рюкзак. Затем, попив водички из ручья и наскоро умывшись из него же, я поспешил догонять ребят, даже не отерев задубелое на ледниках лицо. Это было уже привычным, в походах, по-спартански, полотенцами не пользовался. Владимир хромал ещё сильнее прежнего и снова начал отставать от нас с Леной. Не долго думая, она предложила мне:
– Андрей, мы с Володей уже точно не успеем к автобусу, а ты можешь. Зачем тебе привязываться к нам, иди вперёд. А нам придется «загорать» в «Высотнике» до завтра.
– Что ж, тогда счастливо вам добраться до дома! – попрощался я с ними, в душе благодаря Лену за логичную инициативу. И это освобождение горячей кровью растеклось по всему телу, готовому взлететь, за недостатком сил на бег.
– А тебе успеть на автобус! – пожелала мне Лена. Владимир же, тем временем, опустив лицо долу, молча хромал в полусотнях шагов позади, не подняв и головы на прощание.
Номер телефона Лены я записал (для контакта в альпинистской сфере своих интересов) ещё предыдущим днём и теперь устремился в максимально возможном темпе, ни разу не оглянувшись. Душа рвалась, ум торопил: – «Давай быстрее, времени очень мало!» А усталые ноги уже не хотели двигаться, и со всей силы воли их приходилось выбрасывать, по-очереди, вперёд. Опустившуюся сырую туманность быстро разогнал, поднявшийся было, утренний ветерок, на том и стихнув, до штиля. Теперь же, снизу, от реки, стал подниматься непроглядно густой туман, который вскоре окутал меня, когда я спустился к Кучерле, позволяя видеть лишь на три шага вперёд. Тропа, вскоре, раздвоилась и я выбрал проезжую, в две колеи, полагая её более надёжной. Места же мне были ещё не знакомы. А дорога случилась путём на покосы и, петляя вдоль русла реки Кучерлы, провела меня через три бревенчатых моста над потоком, стремительно несущим, со скоростью тысячи кубометров в секунду, монолитно-бирюзовую тягучую воду. Таким образом, я трижды перешёл с одного берега на другой и понял, что ошибся, встав на проезжую дорогу, и потеряв не менее получаса драгоценного, теперь, времени. Надо было идти узкой конной. Лошадь не дура, торит короткий путь.
Вот дорога завела в глухой лес, едва проглядывающий сквозь пелену. «Призраки» деревьев провожали меня, помахивая длинными ветвями вослед – то движение волн тумана сквозь хвою обманывало боковое зрение. От последнего моста дорога потянулась вверх на пологий склон и, в проредившемся тумане, меж крон опушки леса стали проявляться первые дома села Кучерла. К моей радости, дорога оказалась объездной, оставляя селенье в пойме реки и правее на сотни метров. Деревня ещё спала, людей среди домов видно не было. Она медленно «текла» мимо меня, оставляя справа и позади дом за домом. Попытки ускориться были тщетны. Вдруг я увидел впереди женщину, идущую в том же направлении и покинувшую село с другого его конца. Она, как призрак сквозь туман, шла в Тюнгур (больше здесь идти некуда), видимо, на работу. Шла спокойно, не спеша. Силясь её догнать, чтобы спросить о времени, я подался всем корпусом вперёд, но отяжелевшие, словно слоновьи, ноги меня уже не слушались. Расстояние сокращалось медленно. Наконец, догнав её, я спросил сиплым, будто не своим голосом:
– Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, который час?
– Начало девятого, – с удивлением ответила она, глянув на меня, как на дикаря.
Счастливая, ей не нужно точное время. Мне же сейчас очень требуется! С минуту я шёл рядом с ней, обогнать не получалось. Как будто на последней прямой спортивной дистанции, я включил, наверное, последний резерв, и медленно оторвался вперёд. По тому, как перед глазами «прыгали» из стороны в сторону камешки на дороге, я, со смехом над собой, представил, какая у меня сейчас пьяная походка. А впереди ещё три километра! Опасение не успеть на рейс усилилось до предела, но ноги уже не могли ускоряться. Туман поднимался, но ещё долго не давал пробиться к земле лучам уже давно взошедшего солнышка. И сырая свежесть утра хорошо охлаждала перегретое от усилий тело и бодрила дух.
Наконец, сквозь дымку тумана, призраком из преисподней, стал проявляться скелет подвесного моста через реку Катунь. На последнем спуске к нему я, с радостью от скорого окончания мучений, попытался перейти на бег, рационально используя гравитацию. Но из этого получались лишь маленькие «пьяные» прыжки. Уже с моста удалось разглядеть автобус, стоящий в центре посёлка. А пока я переходил бесконечно длинный, для меня, мост, туман совсем рассеялся, и солнце обдало меня, забытым уже, теплом. Я будто снова попал в лето.
Около автобуса не было ни одного человека, и я подумал, что он вот-вот тронется в путь, оставив меня на «перроне». До него оставалось больше ста шагов, и я начал махать ему обеими руками и пытаться кричать совсем осипшим голосом, понимая, что его вряд ли можно услышать. Но автобус продолжал, к моей усиливающейся надежде, стоять, с незаведённым двигателем. Удивительной была пустота на улицах, в этот, уже совсем не ранний, час. В нелёгкие времена безработицы, у людей и здесь пропала всякая активность, они вяло начинали любой день, каждый в своей степени справляясь с навязчивой депрессией… Когда же я, уже успокоившись, доплёлся до ПАЗ-а, то, наконец, увидел, с другой стороны его борта, у передней дверцы для пассажиров, четырёх курящих мужчин. Сияющий от своего успеха, я встал рядом с ними, не чувствуя уже приросшего к спине рюкзака:
– Здравствуйте! – шёпотом поздоровался я с ними.
Присутствующие удивлённо-вопросительно уставились на меня, и один из них (думаю – водитель) спросил:
– За тобой ещё идёт кто-нибудь?
– Идут, но далеко, не успеют. Не стоит их ждать. А который уже час? – мне, всё-таки, было интересно – уложился ли я во времени или водитель не спешил, дожидаясь всех желающих ехать.
– Уже десятый! Так, чего стоишь? Залазь в машину, и поехали! Тебя, видно, только и ждали, – скомандовал тот же.
И я, обалдевший от счастья, усталости и непривычно комфортного августовского солнечного тепла, с усилием заставил ноги поднять меня по ступенькам в салон. Сидячие места были, на первый взгляд, все заняты и сидевшая публика с любопытством уставилась на меня, как на необычное явление. Отвыкший от внимания такого разномастного количества людей, я внутренне рефлексивно съёжился, и сразу устремил от этого свой взгляд на галёрку, в надежде рассмотреть там свободное место, ибо стоять сил уже не было. В тот же момент мой, исключительно самонаводящийся, взгляд зацепился за интересную парочку, сидящую в левом от меня, дальнем углу, у задней стенки. Только они были для меня цветными, остальные же пассажиры воспринимались, боковым зрением, серой массой. А эта пара немолодых, мужчины и женщины, будто светились солнечным теплом, им только не доставало нимбов над головами, от моего впечатления. И они смотрели на меня светло и приветливо, как будто увидели забытого приятеля через много лет… С первого же взгляда я, без сомнения, увидел их гармоничной супружеской четой пред-пенсионного возраста. Лицами, одеждой и какой-то внутренней чистотой они отличались от всех людей вообще, а не только от присутствующих. Невозможно было мне, невольно очистившему свои все чувства в единении с первозданной природой, ошибиться в такой возвышенной оценке. И, не отводя взгляда от четырёх лучезарных глаз, я устремился навстречу. Единственное свободное место, будто специально для меня, оказалось напротив них, но через центральный проход. Не отводя от парочки взгляда, я, с полным довольством, сел, поставив свой куль между ног. В этот момент казалось, что больше мне в жизни ничего и не надо. Ни усталости, ни голода, ни жажды я не чувствовал, пока мы ехали часа три-четыре до райцентра Усть-Кокса. С первой же секунды мы с этой парой начали активно общаться, не обращая внимания на удивлённо-отрешённую реакцию соседей из местной публики.
Не успел я расслабить усталые мышцы, откинувшись на спинку сиденья, как женщина, неотрывно с интересом рассматривавшая меня, сказала своему спутнику:
– Смотри-ка, какой красавчик! – и, с теплотой, обращаясь уже ко мне: – Откуда ты и как тебя зовут?
– Андрей, с Белухи давеча спустился, – начал шутливо я, в тон с ней, и с невольной внутренней иронией к себе: – А как вас зовут?
– Юрий Павлович и Римма Михайловна, они супруги, – вдруг представил их мне крупный и статный мужчина, сидящий напротив них и слева от меня через проход. Сразу представился и сам, протянув мне руку для знакомства: – Николай, я водил их под Белуху. А ты кого водил?
Мы обменялись с ним крепким рукопожатием коллег. При его словах я только и осознал, что они тоже из похода и одеты в точности, как я. Уже без паузы Николай с жаждой, усиленной интересом ко мне Риммы Михайловны, попросил рассказать о моём маршруте. И я рассказал им как можно короче о своём походе, словно проведя пальцем по карте, при этом невольно отвечая взглядом на любопытный взор яркой женщины. После моего рассказа Николай ещё заинтересованнее и с сарказмом спросил:
– А ты не с Николаем ли и Любой, случайно, ходил? Они как раз в эти же сроки и тем же путём собирались.
– Именно случайно! И если мы с тобой имеем в виду одних и тех же людей, то наверняка! – с тем же сарказмом утвердил я, удивляясь и внутренне огорчаясь уже второму совпадению. И добавил:
– Тем более, что других групп на этом маршруте мы не встречали.
– А я с ними из одного турклуба, земляк! Как вы прошли, и где они?
«Но каково! Вот же судьба! В который раз приходится сдержанно сокращённо повествовать о прошедшем, усиливая осадок в душе. Для чего-то же это надо моей натуре?! «Небу», наверное, виднее! Это испытание точно свыше, но на что? На гордыню – наверняка, на что же ещё… И снова Николай, также, как и Ольга, принял меня, в равном себе статусе руководителя. Да, всё равно, в их тур-объединении я бы и без этих встреч никогда не появился. «Насытившись» до тошноты всякой общественной работой по принуждению от начальства разных советских структур в первой половине своей жизни, теперь уже никогда не вступлю ни в клубы, ни в сообщества, ни в партии…» – проскочило в голове, пока я, скрепя сердце, готовился правильно, в новой обстановке, формулировать повествование. Так, мне пришлось, при разномастной публике других попутчиков, дипломатично отвечать на всевозможные вопросы Николая и Риммы Михайловны о себе, об альпинистском опыте, об ощущениях в горах и о прочем… А Римма Михайловна, со своей стороны, пожаловалась мне на Николая, с доброжелательным сарказмом и даже смехом:
– Загнал нас своим неуёмным спортивным темпом. Привык в «марафонских» походах носиться, закусив удила… Зато благодарил нас, что первый раз смог разглядеть чудесную природу. А то, на всех своих спортивных горных маршрутах, лишь под ноги смотрел, гружёный тяжёлым рюкзаком, озабоченный временем прохождения и не видя окружающей его первозданной красоты. А вот меня учил правильно дышать при ходьбе – животом, занудно, всю дорогу напоминая…
Николай при этих её словах добродушно и удовлетворённо посмеивался, подтверждая каждое слово Риммы Михайловны. А Юрий Павлович всё время молчал, довольно улыбаясь и редко бросая острый, но дружелюбный взгляд, при этом не глядя никому прямо в глаза. За спиной у Николая, при наших разговорах, оживилась группа из четырёх молодых туристов, как позже оказалось – москвичей. По их виду и рюкзакам было понятно, что они тоже вышли из похода. Трое парней, не оглядываясь на нас, скромно и тихо обсуждали впечатления, от услышанного с нашей стороны. И только молодая девушка из их компании пыталась вступить в наш разговор. Она даже встала коленями на сиденье, обернувшись к нам и наглым взглядом «поедала» меня настолько, что мне было очень неприятно. Её попытки перевести нашу беседу на эзотерические темы легко поддерживала словоохотливая Римма Михайловна. Но Юрий Павлович, раз за разом, осаждал свою супругу очень сдержанно и тактично, лишь прикосновением руки, чтобы окружающие этого не замечали. А мой, самонаводящийся, взгляд периодически поневоле и неосознанно поворачивал мою голову навстречу мощному призывному взгляду москвички. Осознавая, через мгновение, своё нежелание отвечать ей взаимностью, я резко отворачивался, нарочито показывая свою досаду за себя и небрежение к ней, чтобы избежать возможных зацепок за моё внимание. При этом я успевал замечать, что её сосед, молодой парень из их компании, постоянно одёргивал нахалку, невольно выдавая норов своей приятельницы. Автобус останавливался часто, подбирая всех желающих по дороге, но я, за безостановочным разговором, даже не заметил прошедшего времени, как мы прибыли в Усть-Коксу.
На центральной площади, где наш рейс встал на обеденную остановку, были сконцентрированы, наверное, все магазины райцентра и общественная столовая. Водитель объявил двухчасовой перерыв. Вероятно, он был местный и пошёл обедать домой. Толком не евши уже несколько дней, я направился прямиком в столовую, предвкушая грядущее удовольствие. А Николай сказал мне, что они втроём пойдут на берег Катуни, который виднелся, в двухстах метрах отсюда, зелёной поляной. Приняв это за намёк на приглашение в их компанию, я обещал немного погодя последовать за ними.
В столовой, у раздаточной блюд – ни желающих покушать, ни самих блюд на лотках. А в зале, за столиками – доедали свой обед несколько человек. За прилавком, через мгновение, появилась упитанная и недовольная жизнью сотрудница, очевидно и раздающая, и кассирша в одном лице. Я заявил женщине в белом халате без предисловий и твёрдо:
– Мне, пожалуйста, дайте всё, что есть!
– Я так не понимаю, смотрите меню и называйте блюда по порядку, – раздражённо бросила она, неприязненно отвернувшись вполоборота.
Найдя, неудобно расположенное на входе, меню я всё ей перечислил. Выбор был не густ, но чересчур большие тарелки едва поместились у меня на подносе. Правда, на моё жёсткое разочарование, несмотря на зверский аппетит, есть эту еду я не смог, настолько она была невкусна. И, не солоно хлебавши, я зашёл в интуитивно выбранный мной магазин на противоположной стороне площади. В нём был и продуктовый прилавок, и отдел с одеждой. Но не успел я рассмотреть ассортимент продуктов за стеклом прилавка, как боковым зрением заметил подошедшего слева, почти вплотную ко мне, какого-то бомжа. Секунду я не решался, да и не хотел, глянуть в его сторону. А он упорно стоял рядом. Любопытство всё-таки взяло верх, я повернулся и… вздрогнул. Передо мной стоял смуглый, с широко открытыми, полудикими глазами, с лохматыми длинными волосами и неухоженной бородой, дикарь. На нём была не грязная, но и не чистая полувоенная роба и рюкзак за спиной. Я физически, до мурашек, испугался, узнав в нём себя. Это было моё отражение в двухметровом зеркале, которое служило для примерки одежды. В магазине даже не было закрытой примерочной. Смешно мне стало, над собой, лишь при выходе из магазина, где я успел выбрать и купить тёплую булку хлеба и хороший кусок твёрдого местного сыра. С этим я направился на берег Катуни – к моим новым знакомым.
Они расположились в уютном месте поляны, на «мягкой мураве» у воды. Завидев за сто шагов меня, Римма Михайловна приветливо помахала мне рукой, приглашая четвёртым в компанию. Присев в их тёплый круг, я сразу предложил:
– Разделите со мной трапезу? – указав на хлеб и сыр.
– Спасибо, кушай сам, мы уже перекусили, – уважительным тоном и с доброй улыбкой отказалась Римма Михайловна.
А я рассказал им о своём казусе в столовой. На что Римма Михайловна сразу пояснила:
– Ты хорошо энергетически почистился в первозданной природе, тем более в горах, поэтому энергетика столовой пищи для тебя сейчас не приемлема.
И я стал с удовольствием и не спеша кушать свой сухой паёк прямо всухомятку, как делал и раньше, в подобных условиях. А Римма Михайловна с хитрой улыбкой, вдруг, спросила у мужа:
– Юра, ты узнаёшь его? – указывая кивком на меня.
Но он ничего не ответил, в задумчивости глядя в сторону.
– Вы о чём…? – спросил я её с изумлением.
– Ладно, об этом позже… – успокаивающим и одновременно интригующим взглядом и жестом ответила мне она.
Заинтригованный до крайности, я всё-таки расслабился и, в предвкушении получения загадочной информации, видимо, на «десерт», набрался терпения ждать.
– Расскажите тогда о своём походе, пожалуйста, – попросил я всех троих, уже догадываясь в какую компанию попал.
И Римма Михайловна, не выпуская инициативы в разговоре, полноправно взяла на себя эту роль и, с долей иронии над собой, начала:
– Мы двадцать пять дней голодали в укромном месте под Белухой. Ради того туда и шли, чтобы физически и энергетически очиститься для дальнейшей помощи людям в оздоровлении. И Николай не только нас туда провёл, но и тоже, с нами, голодал. В нашей компании туда шли ещё двое парней, но они не выдержали и тайком сбежали в самом начале. Это были те, которых, с позволения Юрия Павловича, я отобрала среди многих, желающих пойти с нами. …К концу намеченного срока очистительного голода мы просто ползали, обессилев. Один раз, утром, чтобы вылезти из палатки, я хотела расстегнуть молнию входа, но не успела, отключившись в обморок. Из голодовки мы выходили жиденькой овсяной кашкой, подножными ягодками брусники и черники. Поэтому мы такие «прозрачные». В своей практике помощи людям мы от них набрали очень много разного энергетического негатива, и от этого тоже потребовалась очистка.
– Да вы совсем не прозрачные, а даже справные, светлые и чистые. Вы, наверное, остановились в посёлке, чтобы привести себя в порядок? Иначе, после тайги, вы бы иначе выглядели, я то уж знаю.
– Догадливый! – со смехом, игриво удивившись, неизменно весёлая Римма Михайловна продолжила рассказ:
– Да, мы несколько дней отдохнули в посёлке после похода, в частном доме. Мы не первый раз здесь. И помылись, и постирались, и отъелись деревенской едой. Если бы ты раньше нас видел, то оценил бы, насколько мы похудели. …Мы поработали и здесь с людьми, нуждающимися в помощи. По всему и не заметно, что голодали.
– А в каком месте вы стояли под Белухой, голодая? – полюбопытствовал я, со свойственным горнику и географу, повышенным интересом.
– В Ярлу, в правом, орографически, цирке, – пояснил профессионально Николай.
Меня такие откровения, чрезмерные подробности которых я опускаю за щекотливостью и ненадобностью, подкупили настолько, что у меня к моим новым, как уже предположил, друзьям в этот миг не осталось никаких секретов.
– А как вы лечите людей? – с крайней степенью интереса начал выспрашивать я, продолжая открывать для себя, с долей благоговения – с кем я сейчас общаюсь.
– Энергетически, – кратко отрезала она.
– Бесконтактно? – захотел я наводящими вопросами узнать как можно больше.
– Да, бесконтактно, но и словом, и советом, при необходимости, – подтвердила Римма Михайловна.
– А компенсацию за свою работу вы берёте? Простите, но мне интересен и этот вопрос, – спросил я, преодолевая смущение от щекотливости вопроса.
– С местных мы ничего не брали, они просто угощали нас едой. А за постой мы заплатили так, как договорились изначально. В городе мы принимаем, не оговаривая платы. Просто помогаем всем. А кто как хочет и как может – сам определяет выражение своей благодарности. С другой стороны, по закону Божию, ничего даром не даётся, включая целительские способности. Да и работа с людьми – это нелёгкий труд. А этот щекотливый вопрос на самом деле прост: вид благодарности за такую работу полагается на совесть потребителя и по его реальным возможностям. Поэтому вознаграждение не обязательно может быть материальным. А уже потребитель за свою честность будет нести ответственность, в итоге, перед Богом. Но нас этот вопрос уже не будет интересовать. Всё зависит ещё и от ситуации. К примеру, если встреча произошла в дороге или случайная другая, то и искреннего «спасибо» достаточно. Нас же, свыше, включают в работу чисто энергетически, помимо нашей воли, в любой момент, и она может проходить как бессловесно, так и бесконтактно. Так какую нам при этом ещё ждать благодарность? Тем более, что, при этом, человек-то не просил… Сам понимаешь. Работа может неожиданно включиться при простом доверительном разговоре. Она происходит на другом уровне измерения. Так что может быть много непредсказуемых вариантов.
– А как всё происходит при вашей работе? – продолжал любопытствовать я.
– Да этого на словах и не получится рассказать. Когда-нибудь, может, сам увидишь, если будем общаться, – уже серьёзно и спокойно завершила тему она.
– Очень хочу продолжать с вами общаться! – с надеждой заверил я и глянул в очередной раз на всё время молчавшего Юрия Павловича. Но он, с едва заметным выражением довольства всем происходящим, глядел всё время чуть в сторону, сидя вполоборота ко всем.
Никто из них троих не выразил энтузиазма на моё восклицание, но и отрицательной реакции тоже не было заметно.
Более расспрашивать у меня язык не повернулся, тема действительно была исчерпана.
За разговором я постепенно умял целую булку хлеба и весь сыр. Вот эта еда была по мне, и вполне достаточна. Будучи «хлебной душой», я очень соскучился по хлебу за эти походные дни. А сыр оказался выше любых похвал.
В свою очередь, Римма Михайловна попросила меня рассказать подробнее о себе, своём мировоззрении, о семье, о роде занятий. Во взаимно доверительном разговоре я удовлетворил все её вопросы, рассказав и о своём казусе на Белухе, чему крайне удивился Николай.
– Дело в том, Андрей, что твоя, по-своему мощная и чисто Ян-ская энергия, могла пострадать от Инь-ской энергии Белухи, кратно более мощной. И твоя интуиция тебя уберегла от разрушения, удалив из души твоё горделивое желание – подняться на вершину. А часы твои взяли удар твоего противостояния горе на себя, принеся в жертву, вот и сломались. Человек поневоле «одушевляет», энергетически настраивая на себя, свои любимые предметы соответствующим отношением к ним. И они так же, энергетически, берут на себя любой негатив, препятствующий человеку свободно жить, даже принося себя в жертву. Так же, как это делают любимые живые питомцы. Так устроил взаимоотношения Создатель. …Так что поберегись теперь восхождений на вершины, слушай свою интуицию. Не просто так угас твой альпинистский энтузиазм…
– Вот это да… А я не мог понять, отчего у меня появились опасения перед дальнейшим подъёмом на вершину, чего никогда не было. А с ручными часами, было совершенно непонятно, что случилось. Они же в один и тот же миг, с разностью в сутки, остановились от собственного звонка. Значит, звонок, своей вибрацией, нанёс ходикам последний удар в «звенящем», наверное, напряжении, – подтвердил я, почувствовав согласие моей интуиции со словами Риммы Михайловны.
В завершении, казалось бы, разговора обо мне, я задал им самый наболевший у меня вопрос:
– Меня давно больше всего мучают угрызения совести от прошлых отношений с женщинами, не всегда морально этичных. Был период, когда я изменял первой жене. Эти грехи теперь мучают…
Я хотел было продолжить вопросом свою тираду, но, на уже прозвучавшее, сразу ответил Юрий Павлович и я впервые услышал его голос:
– Ты просто так общался с ними, по воле судьбы, по-другому ты не мог. Так вы отдавали друг другу кармические долги, того не подозревая. Тебе это нужно было, за неимением альтернативы, в поиске женской любви. И ты, таким образом, искал свою, подходящую тебе, женщину, даже не осознавая этого. Так что не мучайся, всё нормально.
– Живи дальше без оглядок. Так у всех ищущих и происходит. Ты же ведомый свыше, вот и ищешь всю жизнь, но пока как слепой. Ничего, ещё прозреешь, – добавила, в подтверждение, Римма Михайловна, с любящей и сочувствующей улыбкой. А через паузу как будто подытожила весь разговор:
– Ну вот, Юра, есть у нас ещё один проводник, кроме Николая, – и, уже обращаясь ко мне: – Будешь водить желающих на чистку в горах?
– Конечно! – ответил я с воодушевлением, – К этому четвёртый год стремлюсь, это ж моё любимое дело!
– Вот и хорошо, поработаем в этом деле вместе, – утвердила спокойным тоном Римма Михайловна.
Подошло время идти на посадку. «Так вот зачем меня торопила и моя интуиция, и само Провидение! Для этой встречи! Это же счастье! Значит я всё-таки ведомый! Главное – в дальнейшем не ошибаться! Наконец я нашёл своё дело! Да ещё и таких людей! О встрече с подобными мечтал со времени начала изучения трудов Карла Кастанеды. Ещё пять лет назад, когда даже не помышлял о каком-либо духовном пути, посмотрев фильм Андрея Тарковского «Сталкер», я заявил твёрдо семье, что буду сталкером. Моя семья, конечно, не приняла мои слова всерьёз, но мне это было не важно. А важно, что я к этому стремился. И вот оно – состоялось! Я буду сталкером!» – так думал я, в состоянии эйфории, двигаясь бок о бок с родственными душами на посадку в автобус.
Ехали не долго. При тёплой беседе словно переместились в пространстве. Снова казались нескончаемыми разговоры единомышленников, в которые уже смогла включиться наглая москвичка, постоянно склонявшая нас к эзотерическим темам. Римма Михайловна стала поддаваться и отчасти постепенно раскрыла для неё свои глубокие знания… А на меня эта девушка перестала, наконец, смотреть, и в последующем подчёркнуто игнорировала моё присутствие. Очевидно, обиделась на мою откровенную реакцию на неё. …Ещё по светлому времени водитель автобуса встал на ночёвку в следующем райцентре, в Усть-Кане. В те времена этот рейс проходил длинным маршрутом, через два высоких перевала (Ябоганский и Семинский), видимо, поэтому прерывался ночёвкой в этом посёлке (согласно правил, установленных ещё советским законодательством, по технике безопасности).
Автобус водитель поставил у единственной двухэтажной гостиницы в центре и вместе со всеми транзитными пассажирами поселился в ней. Все комнаты были четырёхместными, а удобства – на улице, в деревянной общей уборной. Я попытался поселиться в одну комнату с моими новыми друзьями. Николаю это явно не понравилось, и он меня незаметно стал оттеснять физически, обладая преимуществом габаритов тела. Заметившая это Римма Михайловна соответствующим жестом осадила его, также молча, и ему пришлось уступить. Оба, очевидно, старались, чтобы всего этого не заметил Юрий Павлович. Было смешно, но никто не смеялся. Мне стало понятно, что Николай начал примитивно ревновать, сразу упав в моих глазах. «Видимо, у Юрия Павловича с Риммой Михайловной особого выбора в проводниках не было» – подумал я.
Бросив в номере свои вещи, мы пошли к реке Чарыш, что несла свои чистые воды на «заднем дворе» гостиницы. Очень хотелось размять ноги после долгого переезда и умыться. От здания до воды лежала просторная и чистая поляна шириной в добрую сотню шагов, а в длину – от одного поворота реки до другого. А за руслом поднимался горный склон, приглушённый тенью от заходящего солнца. Прогуливаясь спиной к гостинице, создавалось впечатление, что мы снова в нетронутой человеком природе. Весь тихий посёлок лежал вне поля зрения и забылся за спиной. Это был апогей нашего общения с Юрием Павловичем и Риммой Михайловной, мы были только втроём на берегу реки с прозрачной водой, быстро уносящей из моей души остатки негатива. Я поделился с ними своими, взлетевшими в этот момент, чувствами к жене. Но мои друзья стояли в молчаливом внимании и ответили мне лишь телепатически, что сочувствуют и даже жалеют меня. Я почувствовал их тёплые объятия, хотя они стояли недвижными рядом и так же заворожённо смотрели на быстрый поток. Но я не понимал, почему они меня жалеют. А ещё через минуту мене в голову пришло их беззвучное послание: – «Тебя ждут многие нелёгкие испытания, и ты сам должен со всем справиться. Мы тебе сейчас не в праве чем-либо помочь. Крепись, путь твой не ровен…»
Так, постояв в счастливом беззвучном взаимопонимании несколько минут, мы вернулись в номер. Слова больше не требовались ни уму, ни сердцу.
В гостинице был даже сервис – переходящий от администратора из комнаты в комнату электросамовар. Москвичи, явно желая продолжения общения с интересной парой, попросились в нашу комнату для совместного чаепития, используя, конечно, рациональную подоплёку. И мы, двойной компанией, разместились за одним большим столом на ужин.
Москвичи оказались очень начитанными эзотерической литературой, и, будучи в активной фазе поисков истины, безостановочно фонтанировали, в разговорах с Риммой Михайловной, до самого темна. Не было ни одной малейшей паузы, чтобы я мог вставить хоть слово. Николай только слушал без малейшего позыва к разговору. А Юрий Павлович, радушно улыбаясь, лишь наблюдал за всеми, а когда глянул на меня, то вслух отметил:
– А Андрей только балдеет от удовольствия…
Так оно и было. И мы с ним впервые обменялись тёплыми взглядами взаимопонимания. Иногда, всё-таки, Юрий Павлович произносил весомую фразу, но только когда Римма Михайловна просила его:
– Юрочка, поясни им, как коротко ты умеешь…
При этом все затихали, слушая учителя (в чём у присутствовавших сомнений не возникало). Когда за окном уже стемнело, и стал затухать общий разговор, москвичи попросили Юрия Павловича и Римму Михайловну провести диагностику кармы каждому из них, по очереди. И, не обращая на меня внимания, ребята в своей наглой московской манере наперебой распределили очерёдность между собой. Уединившись в дальний угол просторной комнаты, целители (как я с тех пор начал их называть для себя) принимали москвичей по одному и шептались с каждым минут по десять или больше, в то время, как остальные терпеливо ждали, также тихо переговариваясь. Я скромно ожидал своей, последней, очереди, когда последний москвич покинет нашу комнату. И когда мы, наконец, остались вчетвером, заявил о себе:
– А теперь со мной… – сказал я с надеждой, интуитивно же предчувствуя отказ.
– С тобой будет особый разговор, но не сегодня. Уже все устали и давайте ложиться спать, – с тёплой улыбкой и просьбой на лице, но твёрдо подытожила нелёгкий день Римма Михайловна.
Все четверо дружно стали укладываться по постелям. А я, перед тем как лечь, в непривычно чистую постель, вынул для подсушки из своего рюкзака мокрую, ещё с ледника, альпинистскую верёвку и другие сырые вещи, включая мокрую пуховку, чтобы они совсем не сопрели. Развешал всё на вешалке, на спинках кровати и стула. По комнате сразу разошёлся стойкий запах прокопчённых костровым дымом, пропитанных моим потом и дождевой водой, с её особым ароматом, походных вещей. При этом никто из моих соседей по комнате не подал даже виду, понимая сию необходимость.
Следующие два дня мы ехали вместе, так вчетвером и трапезничая на остановках и пересадках. По инициативе Риммы Михайловны наши перекусы ограничивались свежим хлебом с вкусными местными помидорами. Такое сочетание я всегда любил, а тем более, после скудного питания в походе, для меня это было верхом вкусового блаженства. В салонах попутных автобусов я не раз стал свидетелем энергетической и словесной помощи, то есть работы «моих» целителей с попутчиками. Это происходило так гармонично и ненавязчиво, что мне оставалось лишь любоваться моими новыми друзьями, кем я стал их, про себя, считать. Так, по факту происходящего, я удостоверился в искренности рассказа Риммы Михайловны об их непростой жизни. А ещё она рассказала мне, в пути, что и угла у них своего нет и других источников благ тоже, включая, конечно, денежные. Живут они на квартире, предоставленной друзьями бесплатно. А пенсию будут получать только через несколько лет. Ради такого гармоничного объединения они оставили свои прежние семьи с повзрослевшими детьми, оставшись без жилья. А Юрий Павлович ещё и бросил высокооплачиваемую работу высокопрофессионального автомеханика. Он пользовался в этой сфере широкой востребованностью, как специалист. Но «Небо» призвало его на иное поприще, на то, что они с женой имеют на сегодня.
С москвичами мы тепло расстались в Горно-Алтайске. Дальше мы ехали разными маршрутами. При расставании, та девушка, словно преобразившись, тепло и душевно поцеловала и Юрия Павловича, и Римму Михайловну, и меня с чисто сестринской любовью. Она же и записку со своим контактными номерами телефонов вручила мне, потому что целители сказали ей, что сами они никого не беспокоят своими звонками. И девушка попросила меня закрепить с ними телефонный контакт. На этот же листок я записал и контактный телефон Юрия Павловича (только он отвечал у них на звонки). При нашем прощании уже на следующий день, я нарисовал им свой адрес со словами:
– Приглашаю вас в ближайшие дни ко мне домой. Я живу с семьёй в частном доме и радушно встречу вас! Побеседуем без посторонних, познакомлю с женой и дочкой, – заверял я, даже не надеясь на согласие, потому что почувствовал, уже при этом, их отторжение к своему жилищу, совершенно непонятное мне.
– Ты звони, и как-нибудь встретимся, – уклончиво ответила Римма Михайловна, загадочно глянув мне в глаза и как-то душою, едва заметно, отдаляясь.
Мы тепло обнялись и, не роняя больше слов, расстались, будто навсегда. Такое было чувство у меня, которое захотелось тут же исторгнуть из души, но не получалось.
Солнце ещё не взошло, когда я бесшумно зашёл в свой дом. Домочадцы ещё спали. Я подсел к кроватке полуторагодовалой дочки, любуясь и умиляясь спящей. Не пошло и минуты, как она, вдруг, открыла глаза, прямо глянув на меня, и как-то по-взрослому очень серьёзно произнесла:
– Вернулся?! – и с удовлетворением закрыв глазки, моментально заснула, как будто и не просыпалась.
А днём, рассказывая жене о походе, я с энтузиазмом обмолвился и о своих новых друзьях – целителях. Но она, к моему удивлению, почему-то приняла информацию о них с неприязненным выражением на лице.
– Я их пригласил к нам домой, чтобы познакомить с тобой, но они уклонились от прямого ответа, – признался ей я.
– Вот и хорошо, что не захотели, я тоже не хочу их видеть, – твёрдо заявила она.
– Но почему?! Я ещё ведь даже ничего тебе, о них, не рассказал, – крайне удивился я.
– Я не знаю. Мне не нравится это знакомство, и всё! – отмахнулась она, оставив загадкой свою реакцию.
Вот тогда я понял, в чём причина отклонения моего приглашения целителями. Если моя жена, через меня, телепатически почувствовала отторжение от знакомства, то что говорить про них… И я сразу вспомнил ситуацию в Усть-Кане, когда мы втроём стояли молча на берегу реки. Тогда, на мои откровенные признания в тёплом отношении к жене, не просто так промолчали и Римма Михайловна, и Юрий Павлович. Более того – они на это телепатически выразили мне сочувствие…! И это подтверждалось их едва заметной мимикой. Вслух они не желали меня обидеть или сделать больно. Не хотели этим оттолкнуть меня. Всё теперь встало для меня на свои места.
Через несколько дней мне захотелось встретиться с целителями и я собрался им позвонить, чтобы договориться о встрече. Но бумажка с телефонами москвичей и целителей бесследно исчезла. Обычно я всегда аккуратен со своими записями и десять раз подумаю, прежде чем избавиться от наверняка устаревшей или даже продублированной на другом носителе. Жена же стала совершенно отрицать, что эту записку вообще видела. Меня сразу «стали терзать смутные догадки»… (как говорил Иван Васильевич, менявший профессию в известном фильме Гайдая). Вот так, к моему прискорбию, внезапно исчезла всякая связь, из-за маленькой бумажки. Как теперь найти мне моих новых друзей в гигантском мегаполисе, если я даже их фамилии и адреса (хоть и временного) не знаю…?
С некоторых пор я заметил в своей жизни одну особенность. Когда по судьбе и каким-то жизненным обстоятельствам я расстаюсь с человеком, имея какую-то взаимную недосказанность, то рано или поздно, с ним, случайно, встречаюсь. Случайностей, конечно, не бывает, всё закономерно. Так же не бывает ничего слишком рано или слишком поздно, всё происходит вовремя. В данном контексте так: требуется некоторое время, чтобы каждый индивид внутренне подготовился к встрече, «переварив» и уложив в душе все впечатления, от предыдущей. Главное – не упустить данный Провидением шанс и, отбросив предвзятость, принять встречу подарочным сюрпризом с «Неба». Иногда встреча может быть с диалогом, а чаще бывает достаточным лишь лицезреть взаимную реакцию на встречу. А послевкусие от неё расставит все точки над «и». …Поэтому, без суеты на поиски, я занялся ожидавшими меня насущными делами, оставив «Небу» Его промысел.
Так, например, с Любой и Людой, из группы, с которой ходил, поблизости от наших домов, мы встречались той же осенью, беседуя по-приятельски. По их открытой приветливости было понятно, что они были бы не против общаться и в дальнейшем. Но, увы, в моей интенсивной жизни, места для них не оказалось.
С Владимиром, из той же группы, больше в жизни не встречались, потому что недомолвок с ним не было. С Милой столкнулись лишь один раз, спустя четыре года, хоть и жили тогда в соседних микрорайонах. Она меня даже не узнала. С Игорем – в тот же год, что и с ней. Вот с ним мы, на удивление, встретились тепло и разговаривали около часа исключительно на тему трудов Кастанеды. Случилось это в безлюдном месте, ранним утром на пляже, во время пассивного участия в очередном бардовском фестивале. Я шёл из уединённого места после утренней зарядки и наткнулся на него, сидящего у воды:
– Какая встреча! Привет, Игорь! Как поживаешь? – расцвёл я искренней улыбкой и протянул ему руку.
Он, открыто улыбнувшись, ответил на рукопожатие со словами:
– Привет! Дальше читал Кастанеду?
– Всего!
– А пассы практиковал?
– Только что, вместо утренней зарядки.
– И как тебе?
– Прибавляет энергии, реально, – уверил я.
– А что ты думаешь о традиции дона Хуана?
– Так Кастанеда же её закрыл. Всё, конец истории. Я взял из этой шаманской школы только философскую составляющую, на вооружение. Сам знаешь, что описанные Кастанедой правила и методы взаимодействия с окружающим миром верны, чётки и конкретны.
Далее мы с удовольствием обменялись впечатлением от практического применения тех методик. И, полностью удовлетворившись диалогом, мы расстались по-приятельски, более ни о чём не договариваясь. Оба понимали, что друг другу абсолютно не нужны.
С руководителем той группы Николаем мы встретились в горах через одиннадцать лет. Они вдвоём, с той же Любой, стояли на обеденной стоянке по пути к Средне-Мультинскому озеру, готовя на костре обед. Я же, со своей новой семьёй, наоборот, спускался в посёлок из похода. Мы тоже запланировали заранее обед на этой, известной нам, стоянке. Люба встретила нас нейтрально-радушно, а Николай сначала сделал вид, что не знает меня, заметно съёжившись и отстраняясь. Конечно, он узнал меня, но, видно, испугался. А я уверенно пошёл навстречу с искренней улыбкой:
– Брось, Николай, что было, то быльём поросло. Рад видеть вас снова в деле! – и протянул ему руку.
Моя неподдельная приветливость смягчила его реакцию, и он ответил на рукопожатие, несмело признав меня. Я спросил, куда они идут, Люба спросила – куда мы ходили. И, обменявшись банальными пояснениями, перешли на конкретику. Люба:
– Андрей, ты ходил через перевал Крепкий? – и она для ясности показала в его сторону рукой.
– Ходил.
– Скажи, как лучше через него пройти? Теперь мы вдвоём с Николаем ходим, причём я – руководитель. С того нашего с тобой похода группа распалась, больше вместе не ходили, – прямо и откровенно рассказала она.
– Орографически, то есть отсюда, через Крепкий надо идти, всегда держась левой стороны, часто даже прижимаясь к скале. Правой стороной очень опасно, тяжело, да и ни к чему, – пояснил я предметно.
Едва я успел ответить Любе, как говоруна Николая сразу понесло, он говорил со мной, без умолку, на протяжении всего их и нашего соседского обеда, не позволяя нам с Любой больше обмолвиться и словом. Очевидно было, что он сразу начал ревновать. Чтобы пустить его логорею в интересующее меня русло, я смог вставить свой ему вопрос:
– Расскажи, как ты ловишь хариуса. У меня совсем не получается, даже при использовании правильных снастей.
И он полчаса мне рассказывал, как ловит сам. А когда, отобедав, мы разошлись в разные стороны, пожелав друг другу удачного прохода, у меня «сердце петухом запело» (как говаривала моя любимая бабушка-кормилица). Не смотря на усталость после длинного перехода в этот день, я скакал вприпрыжку, от радости, вниз по ущелью. А мои близкие с улыбкой наблюдали за мной, искренне удивляясь такой реакции от встречи. Такого облегчения я в жизни ещё не испытывал.
Вот так Белуха усиливает и выявляет в человеке и хорошее, и плохое, даже то, о чём он в своей повседневной жизни не знал и не догадывался – какие скрытые стороны натуры у него есть. Горы всегда вытягивают из человека всё низменное, показывая ему зеркало его души. Справиться и смириться с этим, а для начала хотя бы признаться самому себе – дело личное и отважное. В этом уже никто не поможет, это, как говорят, – «домашняя работа». И, независимо от её успешности, высшие силы сводят людей, чтобы замирились, отдали друг другу нравственный долг.
Меня же Белуха «остудила» к восхождениям на вершины. Теперь у меня усилилось желание водить неподготовленных желающих на несложные горные маршруты, мною же и разработанные, в самые красивые места. И всё же Белуха продолжала тянуть к себе, видимо, «испытывая» меня на твёрдость решения. Были попытки, и через год, и через три, но только по просьбе желающих, коим по искушению отказывать не хотел. Более того – хотел в будущем зарабатывать этим на хлеб за неимением постоянной работы. Но…
Найти свою дорогу в жизни
«Гораздо более важно то,
что ты думаешь о самом себе,
чем то, что другие думают о тебе»
Луций Анней Сенека (младший)
Глава первая. Без сомнений и сожалений
Белуха и поход вокруг неё зарядили меня неистовой энергией Матушки Земли, как-то особо сконцентрированной в этом горном массиве. Этот энергетический потенциал неуёмно рвался наружу, подталкивая к созидательным действиям. И вектор свежих сил я, не имея в поле зрения иного приложения, направил на закрепление успеха в коммерции, куда занесла безысходность, в тщетных поисках самореализации, в эти непростые для Отечества времена. Только в этой сфере я видел материальные ресурсы для нового этапа своей жизни, где теперь важнейшей сферой личного интереса стало духовное развитие. И, поскольку сложилось так, что эта работа «сама меня нашла», как собственно и все предыдущие, то отказываться от неё сразу не было разумным. Тем более, что любой труд я настраивался всегда делать с любовью, иначе он был бы неэффективен. А результат труда мне важен, прежде всего, для самоуважения. К прежним же своим профессиям я навсегда закрыл себе возврат. Моё намерение теперь во всех сферах жизни было направлено только вперёд, к новым горизонтам.
Этой же осенью, сразу после похода на Белуху, я с большим энтузиазмом открыл своё дело. Зарегистрировав коммерческое предприятие, даже свой офис я оформил в стиле приёмной какого-нибудь «вельможи» начала двадцатого века. Поначалу дело пошло споро, сразу в рост, при использовании своих старых заделов в этой сфере. Родственники-соучредители, ограничившись лишь финансовым вложением, не приложили и пальца в работу предприятия, видимо, рассчитывая на проценты от прибыли. А мне не захотелось, работая в одиночку по четырнадцать часов в день, выплачивать им дивиденды «за здорово живёшь». Одному тянуть незнакомое дело, да ещё без необходимых знаний, было тяжело и не справедливо. Недолго думая, через пару месяцев, я вернул вкладчикам деньги, исключив их из соучредителей и оставшись в привычном одиночестве.
Наняв сотрудников и сам «засучив рукава», я так работал до весны. Ни на лыжные тренировки, ни на встречи вне работы времени не было. Одного из сотрудников я как-то послал с поручением к часовщику, чтобы тот посмотрел, что стало с моими часами на Белухе. Сам себе я не мог позволить отвлечься и на это. Оказалось, что один из камней оси маятника просто раскололся пополам и часовщик заменил его на новый. Вот это было противостояние моей скромной энергетики и энергетики, сконцентрированной в самой вершине Белухи! И камень, приняв на себя этот «удар», без всякого механического воздействия, не выдержав такого напряжения, просто лопнул! Вот так, в спокойном состоянии – и лопнул!!!
Однако, нанятые мною работники оказывались совсем не трудолюбивы, и это мягко говоря. Советская власть отучила народ от любви к труду. Двух первых бухгалтеров я уволил в первые два месяца. Одна просто не работала, другая стала воровать. А я понял, что когда работал в одиночку коммивояжёром, то успех мой был лишь за счёт моего обаяния. Это было ещё и потому, что моими покупателями были в основном женщины-бухгалтеры и женщины-руководители разных предприятий. А, став руководителем, я вынужден был лишь опосредованно иметь дела с непосредственными покупателями. И, без прямого влияния моего обаяния на них, торговля стала пробуксовывать. Я торговал оргтехникой полного спектра: от калькуляторов до программного обеспечения. И мне, на четвёртый месяц, надоело кормить своих сотрудников-нахлебников. Развития предприятию не «светило», поджимали конкуренты, будучи опытнее и профессиональнее. В марте я понял, что не в том направлении реализовал и израсходовал энергию Белухи. Опять вступил не в ту… «партию».
«Нырнул» то я в коммерцию вопреки своей натуре, где всё мне было крайне чуждо. Зацепился три года назад за предложение хороших знакомых альпинистов, как «утопающий за соломинку». Моя интуиция мне кричала: – «не делай это!» А я ей: – «а что делать, кормить семью надо…!» И «поплыл по течению», не имея желания переучиваться на другую профессию. Да и переучиваться в те времена одичалого капитализма можно было только за деньги, коих у меня не было. А главное – идти в наём уже совсем не хотелось, имея уже какой-то опыт в самоорганизации и даже в предпринимательстве. К тому же, во все времена я был «костью в горле» у любого начальства. Каждый мой руководитель, почему-то, видел во мне конкурента. Наверное, они видели во мне потенциального лидера. Но таковым я никогда не хотел быть, даже несколько раз в жизни отказавшись от руководящей должности. А в коммерции было довольно просто: по знакомству давали товарный кредит, без всякого залога, и работать можно было без собственных вложений.
Коммерсантом то надо родиться. А у меня достаточных организаторских способностей для руководства даже мизерным предприятием не оказалось. Главное же состояло в том, что мне быстро стало и неинтересно, и неоправданно энергозатратно. По сути, я столько же зарабатывал в личный кошелёк и до открытия предприятия, а денег хватало лишь на повседневные расходы. Решение о закрытии своей «конторы» я принял в том же марте, но, до поры, ни единого человека о том не известил. Решимость сама подступила из разумных глубин сознания. Но одно дело решить, и совсем другое – осуществить. Прежде надо найти другое кормящее дело. И закрытие предприятия требуется подготовить, и за нанятых людей ответственность тяготит. Но ни своих идей голова не рождала, ни со стороны предложений не поступало, наступил душевный тупик. В мае от переживаний, забот и возможной переработки, я заболел, не весть, чем.
В больницу не пошёл, совсем к тому времени отказавшись пользоваться услугами медицины и фармакологии. Нашёл иглотерапевта, по хорошим отзывам. Он оказался настоящим восточным целителем, выучившимся во Вьетнаме. С помощью игл доктор провёл мне полную диагностику, подтверждённую моим знанием о своём теле. К тому же этот врач увидел во мне интересного для себя пациента, у нас с ним сразу образовалась какая-то телепатическая связь. Во время его сеансов мы могли молча понимать друг друга, подтверждая это встречным взглядом. На первом же сеансе доктор, с удивлением, спросил:
– У Вас в родословной нет, случайно, китайцев? – в тоне его голоса не было и доли иронии.
– Нет, все русские, – ответил с удивлением я, – А почему такой вопрос?
– Да Ваши точки реагируют также, как у китайца, – утвердительно констатировал он, обратив на это моё визуальное внимание.
Немного погодя я вспомнил, что у моей любимой бабушки всё-таки просматривались не вполне выраженные черты лица и формы тела, схожие, с характерными, китайскими. И ещё: один мой внимательный и вдумчивый приятель однажды заметил, что у меня солнечный загар как у китайца – жёлтый, в отличие от европейского – бронзового. Мы, конечно, с ним посмеялись над этим сравнением, но, может статься, что в этом что-то есть…
С большим трудом, к вящему удивлению эскулапа, ему удалось «поднять меня на ноги» только к исходу второй недели. Наступило лето, и мне захотелось восстановиться физически и ментально в горах, где в отрыве от повседневных дел и забот, сконцентрировавшись на интуиции, может получиться найти нужные мне ответы. Как вдруг, пришло предложение интересного бизнеса, со стороны одной страховой корпорации. Убедившись в серьёзности этого дела при деловых контактах и в кабинетах директоров знаковых в городе предприятий, и в кабинетах властных структур, я включился в него. Для работы в этой сфере требовалась речь и убеждённость, что как раз подходило моей натуре. Общение с людьми на жизненно важные темы грело меня во все времена.
«Любой путь – лишь один из миллиона возможных путей… Один путь даёт тебе силы, другой – уничтожает тебя… Если человек чувствует, что выбранный путь ему не по душе, он должен оставить его любой ценой… Если у пути есть сердце, то он делает путешествие по нему радостным: сколько ни странствуешь – ты и твой путь нераздельны…». Карлос Кастанеда. Из книги «Учение Дона Хуана».
Вот и я начал поиск пути, имеющего сердце. А моё предприятие, по инерции, работало, и я решил пока совмещать оба вида деятельности, положившись на своего партнёра, часто теперь замещающего меня. Я сам его обучил азам коммерции (в том числе и с помощью поставщиков), разглядев хороший потенциал авторитетно отрекомендованного мне юнца, с чистым взором. Однако два месяца усердной работы в страховом бизнесе не дали даже мизерного результата. Мой оскудевший, в эти жестокие времена, круг общения сузился до предела от моих деловых предложений знакомым, а незнакомые люди сразу шарахались, заслышав речь о страховании. Даже один мой одноклассник, во всеуслышание, на юбилейной встрече выпускников нашего класса прокомментировал моё представление:
– Андрей всех уже этим достал…
Так, изверившиеся во всех финансовых институтах, соотечественники молча выслушивали и уходили прочь: кто в грустной задумчивости, а кто и раздражённо. На этой почве я, по своей наивности, лишился приятельства старых знакомых, а друзей мне Бог и не дал. Вероятно, я и сам не умел дружить, легко расставаясь с попутчиками на жизненном пути, хотя и помогал всем нуждающимся, даже по собственной инициативе. И, на этом деловом поприще, я почувствовал крах надеждам на приемлемую работу. Возвращаться снова в лоно коммерции уже не хотелось совсем, словно «нож к горлу».
Это лето оказалось для меня слишком бурным. Ко всему добавился конфликт с матерью. Из-за своих претензий ко мне она невольно сделала меня изгоем для всей родни, на которую имела превосходящее влияние. Недовольство её заключалось в моём отказе идти за ней в баптистскую общину, а также в моём отказе жить в соответствии с её представлениями и убеждениями. Кульминацией стал инцидент с, всегда любимым мною, девяностолетним дедом. Живя в одной квартире с матерью, уже не вполне адекватный к действительности, он круглосуточно находился под её тотальным влиянием. И, неожиданно придя ко мне домой, дед довершил вектор материных претензий полным скандалом. Обозвав меня многоземельником и фашистом (что было за пределами реальности), он набросился на меня с кулаками, видимо, ментально переместившись во времени, одновременно в два периода своей жизни: активиста-раскулачивателя и фронтовика против гитлеровцев. И мне ничего не оставалось делать, как только вытолкать его за дверь. От случившегося меня трясло весь день. А дед всей родне нажаловался, что это я напал и побил его. Прощенья мне не было!… Я был в полном …шоке. И как только смогли поверить, сразу все родственники, что, при моей натуре, я мог побить старика, да ещё и любимого?! Так вот бывает с такими сентиментальными людьми, как я. Искренне любишь всю родню, а твою натуру будто и не хотят ни знать, ни увидеть. …Жизнь как будто «утекала сквозь пальцы».
И в этот момент меня застала Катерина, которой я обещал поход на Белуху:
– Андрей, прости! Может, я не ко времени, но очень хотелось узнать – пойдём ли мы этим летом в поход. С нами хотят идти Лариса и Алексей. Август-то уже в разгаре.
– Ты вовремя, Катя. Мне теперь самое время оторваться от городской суеты. И я с радостью свожу вас. Разведав своими ногами самый простой подъём к вершине в прошлом году, я уже знаю каким путём вас вести. Вам понравится! В воскресенье приходите ко мне домой, все втроём, в любое время, всё обсудим в оперативном порядке и на следующей неделе – в путь.
Так мы и сделали. При встрече я показал ребятам на карте наш маршрут, пояснив подробности прохождения всех участков, и проинструктировал по вопросу сбора снаряжения, одежды и продуктов:
– Групповое снаряжение беру я, а продукты закупаете вы, согласно перечню, который я передаю Кате. Она у нас будет завжор. Деньги за свою долю продуктов я отдам по факту её подсчётов. Катю я могу обеспечить и личным снаряжением, закупил его на будущие походы с группой. Повезёт нас мой водитель на своей НИВЕ туда и обратно.
– Тогда за продукты мы с тебя денег не возьмём! – заявил Алексей.
– Нет, не так. Будет, как я сказал, а с каждого из вас я возьму долю расходов на транспорт, если вас это устроит. А если дорого кому из вас будет, то его долю оплачу с удовольствием я сам. Эти расчёты сообщу вам через Катю. На этом точка. И ещё: может статься, что нам придётся ждать машину после выхода из похода, ночуя на турбазе «Высотник». Поэтому запас денег на проживание и питание в ней необходимо иметь с собой, в резерве, а так же – на питание в дороге.
– Никаких возражений! А сколько нужно средств на проживание в «Высотнике»? – спросила Лариса.
– Я не знаю. Говорят, что на территории базы выделены места, где можно ночевать в своей палатке. И это не дорого, потому что плата взимается только за место под палатку. А у меня как раз четырёхместная на всех нас, и в ней ещё два тамбура: один будет под обувь, а другой – для кухни в дождливую погоду.
– Тогда плату за место под палатку мы возьмём на себя, – облегчённо подытожил Алексей.
– Хорошо. Теперь буду ждать сообщения от Кати о готовности группы. Три дня вам хватит? – обратился я уже к Кате.
– Думаю, что хватит, – утвердительно кивнула она.
– Как только я узнаю от тебя о готовности группы, то буду согласовывать поездку со своим водителем. Он работает у меня по совместительству. И к концу недели, надеюсь, мы сможем выехать в путь. И ещё: мой водитель не разговорчив и вопросов не особо любит, так что лучше воздерживаться от обращения к нему без особой нужды. У него отличное, от нашего, мировоззрение и этим всё сказано.
– А какого он возраста? – заинтересовался Алексей.
– Моего. И, если больше нет вопросов, то до встречи на месте сбора, которое я назначу перед самым отъездом.
– До встречи, – попрощалась Катя вместе с остальными.
На третий день после встречи Катя позвонила на рабочий телефон в моём кабинете (другого у меня тогда не было):
– Андрей, несчастье. От группы я осталась одна. Лариса заболела, а Алексея вдруг срочно включили в состав геологической экспедиции, по его профессии. Он от этого отказаться не смог. Что будем делать?
– Привет, Катя. Конечно, зачем ему отказываться от своего «хлеба». Значит, пойдём с тобой вдвоём, если ты готова.
– Конечно, готова! Спасибо тебе, что не отказался от похода.
– Если я уже настроился сам, то при отказе у меня будут ломки, как у наркомана в отсутствии дозы.
– Смешно. А как быть с закупленными продуктами?
– Не будьте детьми… Разбирайтесь сами. Пусть они заберут свои доли, что-ли… Решай этот вопрос ответственно, ты же у нас завжор. Главное – нас не обидели, ведь меня будешь кормить ты. Расчёт продуктов сделай прагматично на пятнадцать дней, для резерва. Все сделай тщательней, на себе ведь нести. Продукты и снаряжение по рюкзакам распределим в пути, возможности будет предостаточно. Сколько времени тебе потребуется на всё?
– Дня два, – уверенно заверила Катя.
– Буду ждать твоего звонка. И, поскольку мы с тобой собрались идти вдвоём, то потом, при случае, не проговорись моей жене о сокращении группы. Ну, хотя бы, чтобы уберечь человека от неизбежной ревности, в той или иной степени. А я, при рассказе о походе, просто упущу, дипломатично, вопрос о составе группы. И никакой лжи не потребуется. Я то, за себя отвечаю.
– А если я не отвечу за себя в отношении тебя? – шутливым тоном она, видимо, решила смягчить деловой тон разговора, не до конца понимая, что я в рабочем кабинете.
– Уверяю тебя, что при всём твоём возможном желании, я не допущу и тебе ничего лишнего. Об этом предупреждал тебя с самого начала. Надеюсь, помнишь, и больше так не шути.
– Я помню. А что, шутить совсем не будем? Грустно без юмора же.
– Будем, будем. Просто я на работе, а здесь шутить другим не позволяю. Ладно, всё, жду твоего звонка.
– Поняла, извини. Спасибо за то, что подтвердил свои слова снова. Мне это нужно и ты меня успокоил. Я постараюсь все вопросы решить быстро и оперативно собраться. Пока.
Она позвонила на второй день:
– Привет Андрей! Я завтра к утру буду готова. Все дела уладила.
– Хорошо, перезвони через час и, возможно, я тебе смогу уже сказать, когда мы за тобой заедем. Плату за транспорт с тебя не возьму, и это не обсуждается. Да, и подумай о перекусе в дороге. Заготовь что-нибудь повкуснее и посытнее, на троих, с водителем вместе будем кушать, когда – на остановке, а когда и в движении. Рассчитай на два дня пути.
А через день мы уже грузились в машину. Выехали поздно вечером, как предложил мой водитель. Ему так было удобно. Да и машин на дорогах в это время меньше. Я предложил Кате сразу лечь спать на заднем сидении, на что она, без прений, согласилась. А мы с Иванычем, как я его величал, долго ехали молча, периодически коротко переговариваясь. Мы с ним привыкли ездить молча по моим делам. Обычно я садился на заднее сиденье, раскладывая там свои деловые бумаги, как в кабинете, используя и это время для работы. А Иваныч, каждый раз, когда я садился в машину, начинал свою работу словами:
– Привет, Степаныч. Ну, раскладывай там свои бумаги, я тебе мешать не буду, работай. Говори адрес, куда ехать, и будь спокоен.
Мы с ним одинаково чтили труд друг друга. Я платил ему за каждую поездку, по договорённости, и оба были довольны сотрудничеством.
– Тебя, Степаныч, жена-то не будет ревновать за это приключение на пару с девицей? Или ты ей не сказал с кем? – ехидно улыбаясь, спросил меня он, предварительно глянув на спящую Катю.
– Иваныч, не суди, не ведая темы поездки. Твоих подколов мне только не хватало, – с лёгким упрёком и назидательно парировал я.
– Понял. Я не в своё дело влез, прости, Степаныч. Увидел какой-то тяжёлый отпечаток во взгляде у тебя, вот и спросил. Подумал отвлечь тебя шуткой от проблем, – оправдывался он.
– У кого, Иваныч, нынче может быть всё хорошо?
– У меня, – с довольным выражением на лице и лёгкой гордецой, подчеркнул он.
– Это нынче редкость и я искренне рад за тебя. А шутить я не против, но только не на личные темы, – благодушно предупредил я.
– Да, я понял. И даже спрашивать не буду, кто я тебе… – виновато пробубнил Иваныч.
– Если хочешь поговорить, давай. Но только не о моих делах.
– Ладно, Степаныч, не серчай. Давай лучше послушаем радио.
Он нашёл волну на свой вкус, а я, глядя на освещённый фарами и набегающий на нас кусочек шоссе, стал думать о своём, используя для этого полную свободу времени в дороге. Уж мне было о чём глубоко поразмыслить! Хотелось понять, почему жизнь пошла нескладно. Получилось, как в песне Владимира Семеновича Высоцкого «Две судьбы». Первая часть жизни прошла «по течению», как по учению. И было гладко, везде успешно. Но, как только я выбрал свободу, то начал спотыкаться, как слепец, словно не зная жизни.
Первую профессию выбрал не по душе, а по советам ближних, самостоятельно, после школы не видя себя ни в одной из множества. Изначально-то хотел в лётчики, но не пропустили по зрению и я растерялся. Мама для меня, в пору отрочества, была мудрым авторитетом, её советам и следовал. Но она не разглядела во мне гуманитария, отца-то я не видел уже с девятилетнего возраста. …Всё началось ещё с раннего детства. Реальность жизни меня шокировала всеми без исключения картинами. Родителями предлагалось всегда противное моей душе, а мои желания ими игнорировались. С мамой вообще вечный раздор. По её рассказам: в те времена, когда я ещё был в пелёнках, наш с ней день начинался так. Я открываю утром глаза и она с игривой радостью устремляется ко мне:
– И кто это у нас проснулся?! …– и дальше шла тирада прочих «сюси-пуси».
А я, завидя её перед собой – сразу в протестный рёв. Ребёнок до трёхлетнего возраста безошибочно видит суть контактирующего с ним человека. И я, видимо, увидел материно лицемерие. Как я позже случайно узнал, услышав украдкой разговор моих родных тёток, что, оказывается, родителям моим и не хотелось детей. Мама в то время была ещё студенткой и её мать меня, трёхнедельного, забрала к себе в деревню. Вот там для меня был рай, воля и счастье, но, к сожалению, только до трёх лет. Родная сестра матери со своим мужем даже хотели меня усыновить, пока у них не было своих детей. Я им очень нравился, но они не успели. Мать неожиданно забрала меня от бабушки в город, чтобы привязать к дому загулявшего было отца, имитируя семью. Я активно протестовал и родители, приучая меня к городским условиям, начали дрессировать. Так, на самом деле, называется привитие детям своих установок в жёстком стиле, именуемое «воспитанием». Но отец мною вовсе не занимался, по счастью. Потому что каждая из его таких, довольно редких, попыток сопровождалась насилием над моей душой. И у меня наступило облегчение, когда мать выгнала отца из дому за постоянное пьянство и загулы. А до этого они по очереди лупили меня, от души, за разные мелочи. За первую двойку, за задержку на прогулке. У меня в школьном возрасте не было ручных часов, а за солнцем я начал наблюдать и определять по нему время только в старших классах. И, индульгируя в своих романтических грёзах, мог часами неосознанно бродить по улицам и в лесопарках. Так мне было счастливо, в отрыве от гнетущей действительности. И за это получал от родителей по полной… Ещё я любил верховодить соседскими мальчишками на год-другой младше себя. Делил их на команды «русских» и «немцев». Так мы играли в войнушку, часами носясь по дворам. Мне нравилось то, что я у них был непререкаемым авторитетом. Раздавал им имена и звания исторических личностей…
А с началом школьных лет для меня начался просто сплошной ад. Мама учила меня и в школе, и дома. Первыми моими учителями были ветераны войны с гитлеровцами. Они были моложе пятидесяти лет, но выглядели для нас страшно суровыми стариками, недобрыми к нам. У одного не было правой руки, и он писал мелом на доске левой. Другой учитель даже бил, за малюсенькие шалости на уроке, деревянной линейкой по кистям. Поэтому во время уроков всякий раз можно было услышать жужжание мухи. Некоторые девочки, не понимая что-то в точных науках, к примеру, просто учили текст из учебника наизусть (как стих) для ответа на уроке за положительную оценку. Одноклассники над ними смеялись про себя, сдерживаясь от страха. Другие учителя были детьми войны и уже не так жестки. Науки усваивались, но через преодоление давящей атмосферы, а ещё через преодоление антипатии ко многим из учителей. И, наконец, классе в восьмом, пружина давления со стороны педагогов высвободилась разом. Один из уроков не состоялся, видимо заболел учитель. И весь класс, не сговариваясь, как с цепи сорвался. Во всех, без исключения, словно бес вселился. Кто прыгал на партах, кто кидался в одноклассников безопасными предметами, кто стрелял в других бумажными пульками из рогаток, привязав резинку к двум пальцам, кто стрелял во всех подряд заготовленным для той же шалости на переменах пшеном, выдувая его из лабораторных трубочек, стащенных из кабинета химии. Металлическими шариками от настольного бильярда побили плафоны освещения, висевшие на потолке. (Бильярд этот девчонки класса подарили на 23-е февраля мальчишкам, и мы на каждой перемене, по очереди на вылет, играли на нём, устанавливая на учительском столе). Ещё разбили стекло шкафа с минералами. (Наш класс был закреплён за кабинетом географии, потому что учительница этого предмета была нашей бессменной классной руководительницей. Мы её очень любили и уважали, она нас посвящала даже в запрещённую в стране информацию). Всех шалостей не припомнить, но пиком этого бешенства стала выходка самого тихого в классе отличника Серёжи. Он оторвал столешницу от учительского стола и пустил её планером в полёт, направив в застеклённое окно над дверью кабинета. Стекло разлетелось и столешница с грохотом приземлилась к ногам Завуча, проходившего в этот момент по коридору. На этом «банкет» и завершился. Зачинщиков не обнаружили, а коллектив не наказывают. С нами провели беседу на спецсобрании с участием родителей, которые после и восстанавливали испорченное имущество. Но со следующего учебного года учителя вдруг стали обращаться к старшеклассникам, то есть к нам, персонально на «Вы». Нам было приятно, и мы приняли этот факт как должное, даже не обсуждая меж собой.
Класс наш не был дружным, делился на кучки единомышленников, но заводился единым порывом «с полуоборота» на вызовы внешней среды. В начале учебного года, в девятом классе, нас поставили во вторую смену, а мы, всем классом, за это объявили забастовку, и не пошли ни на один урок, тусуясь в школьном дворе. Так продолжалось три дня и в итоге нас перевели в первую смену. А наказание за это понесли родители выявленных или назначенных на этот раз зачинщиков. Они оказались членами единственной в стране и правящей партии, плюс – ответственными работниками в структуре власти. Наказание было выговором по партийной линии. В те времена это было гораздо строже, чем административное, будучи часто чем-то вроде «чёрной метки» для любой карьеры или барьером при устройстве на новое место работы. Мы и в дальнейшем иногда куролесили, игнорируя установленные в школах правила, за что всегда получали неадекватную реакцию учителей, но только индивидуально. Они за наши шалости уже не вызывали в школу родителей, а просто мстили каждому нарушителю занижением оценок наших знаний. Зато через годы наши школьные учителя признавались нам при встрече единодушно в том, что мы у них остались в памяти лучшими. А последующие поколения их приводили в разочарование и уныние, и это мягко говоря.
Дома моя ответственность, с девятилетнего возраста, была за уборку в квартире, пуританский порядок во всём и даже за косметический ремонт в полном объёме. А с семи лет родители годами мучали меня занятием на фортепиано. Отец, семилетнему мне, угрожающе строгим тоном заявил:
– Будешь у меня музыкантом, как я! А если нет, то пойдёшь в ремесленники!!!
Быть ремесленником звучало от него устрашающе ультимативно. Визуально это я представил так: я слабыми ещё руками подношу к наковальне тяжёлую железную болванку, а здоровенный и грозный кузнец ударяет по ней огромным молотом, ругаясь на меня за то, что не поспеваю поворачивать заготовку вовремя. Что-то подобное я до этого видел в кино. Эта страшная картина напугала меня, и я выбрал меньшее из двух зол, согласившись на занятия музыкой. Но на четырнадцатом году жизни, я уже посмел решительно отказаться от этих занятий и за инструмент с тех пор не садился.
Занятия спортом тоже были предложены мамой. Здесь её аргументация была убедительна:
– Спорт сделает тебя мужчиной, а без мышц ты не будешь полноценным…
Гимнастика никакая мне не понравилась, и мама направила к своему знакомому. Он был тренером по классической борьбе. Мотивация в этом виде спорта у меня была в том, что прямое контактное противоборство мужчин закаляет дух и наилучшим способом укрепляет тело. Занимался я, потому что надо, но без особого усердия. Фигуру накачал красивую, зато получил на занятиях две травмы на всю жизнь. А всё потому, что не по душе и это было. И, когда закончил школу, то бежал от матери «сверкая пятками» прямиком в армию – в другой ад. Правда, там быстро адаптировался, проявив свою натуру, удивившую самого себя своей доселе скрытой коммуникабельностью, которая легко делала сослуживцев приятелями. Началась моя служба так:
Среди казарм Второго Николая
Закрытый армией на срок,
Сон мирный граждан охраняя,
В ночном дозоре одинок,
Любимый образ воскрешая,
В своей фантазии лаская,
Впервые в жизни сочинял,
Наук поэзии не зная,
Наполнен страстью мадригал.
Самое первое отрицательное качество я поневоле перенял от ближайшего соседа по казарме, надолго завязавшего со мною дружбу. Эгоцентричная и эксцентричная натура этого холерика быстро приучила меня обижаться на какое-то время. До этого я ни на кого и никогда не обижался. Когда от родителей я получал по заслугам, то за превышение уровня наказания был всегда снисходителен к ним. Сентиментально любил всех родственников, несмотря на не всегда однозначное ко мне отношение… На обстоятельства жизни часто злился, но на людей – нет.
Самым близким мне человеком была моя бабушка-кормилица, у которой я рос до трёх лет, а потом – каждое лето у неё в деревне до одиннадцатилетнего возраста. И всегда считал её главной мамой. У нас с ней всегда было полное взаимопонимание. Она меня не баловала, но и не мешала делать то, что хотел. В деревне у мальчишек всегда найдутся интересные дела… Иногда и от неё я получал по мягкому месту не слабо. А после она удивлялась, что через минуты после порки я подходил к ней с тёплым обращением, как ни в чём не бывало. В редкие часы её отдыха мы с ней беседовали на всевозможные темы, со взаимным удовольствием и пониманием, до конца её жизни. От этой малограмотной женщины я многим мудростям с пелёнок научился. У неё было столько любви, что, несмотря на свою умеренную строгость, она гармонично объединяла своих, очень разных по своей натуре и воззрениям, детей и внуков, чего без её присутствия точно не случилось бы. При полном отсутствии всякого образования моя бабушка до последних дней была разумнее и мудрее всех её образованных детей, включая и своего мужа, то есть моего деда. И неспроста так случилось, что умерла она на моих руках, пока её дети бегали вокруг врачей в беспрестанной суете. Я как раз в тот момент приехал к ней с другого конца страны, будучи в отпуске со своей работы.
А свою мать я ни в чём не винил, даже за то, что, будучи преподавателем-гуманитарием, она не разглядела и во мне гуманитария, так и направив в ремесленники, как «напророчил» когда-то отец. Всегда жалел её за не сложившееся личное счастье. Как можно винить, а тем более обижаться на любого человека, если он всегда поступает в соответствии со своими убеждениями. Если кто считает, что близкий или рядом живущий человек неправ, то учить его не стоит, потому что он не послушает. Научить невозможно, возможно лишь научиться, приложив усилие.
Я даже не обижался на мать за то, что она быстро приспособилась злоупотреблять моею жалостью к себе. Я, всё равно, оставался к ней снисходителен и продолжал жалеть. Как говаривала бабушка:
– Свой своему поневоле брат!
И вот сейчас, при очередном разрыве с матерью, я всё равно остаюсь снисходительным к её претензиям. Ведь снисхождение и есть фундамент христовой любви. Этот разрыв её со мной, удивительным образом совпал у меня с чтением третьей книги Кастанеды «Путешествие в Икстлан», где я подчерпнул самое здоровое внутреннее отношение, как к родственникам, так и ко всем старым и новым окружающим людям, где главными уравновешивающими качествами являются добросердечная снисходительность и равнодушие ко всем. Но при этом не надо путать равнодушие с безразличием. Под равнодушием подразумевается отношение ко всем и ко всему с равною душой, то есть одинаково душевно и с теплотой, но отстранённо для самозащиты от энергетической, да и физической агрессии. Как у А. С. Пушкина: «…хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца».
Большинство же начинающих читать труды Карла Кастанеды, бросают чтение именно на этой книге, на этой теме, чрезмерно радикально понимая текст или в корне отвергая вообще смыслы, заложенные в нем. Однако именно с этой книги начинается всё самое интересное и значимое, а значит – кому-то нужное. А первые две книги – лишь прелюдия, я бы сказал.
Кажется, я начал понимать, где кроется один из корней происходящего и в моём прошлом, и теперь – в дефиците родительской любви. Поэтому я с самого детства интенсивно искал душевности во встречах, искал такую женскую любовь, что возместила бы и материнскую. Но это было моей подсознательной иллюзией, потому что желаемое совмещение любви жены с любовью матери если и возможно, то только в сказочном исключении, наверное. Думаю, что каждый третий, а может и второй человек (обоих полов) имеет эту проблему в той или иной степени, не осознавая, может быть, её вполне. Вот и моё блуждание в поисках подходящей профессии имеет, скорее всего, ту же первопричину. Хватаясь за предложения, хотя бы не имеющие брезгливого отвращения, я задвигал свои природные наклонности и способности в сторонку до момента потребности. К тому же и не видел на, так называемом, рынке труда, реально существующих, близких мне по духу профессий. И, окончательно заблудившись в этом году, продал свой ветхий дом, делая вклад в очередной бизнес, как игрок, в азарте делая ставку – кладёт на кон последнее, что у него есть; как сам Федор Михайлович Достоевский в свои годы. Я, конечно, не игрок, а, скорее, наоборот, но азарт и мне оказался не так уж чужд, когда захотелось показать себя успешным молодой и тоже азартной (по своему) жене. Но случилось ровно наоборот, и я разочаровал и её, и всех близких. И справедливо, нечего браться не за своё…
Теперь всё надо, кажется, начинать сызнова, с этой отправной точки. Может, в отрыве от дома и всех без исключения дел, в горах, я найду в глубинах своей интуиции подсказку… Есть ещё слабая на то надежда. Но к старому «блудный сын» более не вернётся, это уже определённо. Так думал я, как думается только в иллюзорной полудрёме бессонной ночью, до самого утра.
С просветлением неба стал расширяться горизонт обзора, отрывая от диалога с самим собой. Унылый равнинный пейзаж проплывал за бортом с обеих сторон, обещая грустить по нам. И каждый из нас троих, возвращаясь в реальность бела дня, молча и угрюмо думал о своём. В Сростках, на знаменитом базаре, мы купили гигантских горячих вкусных пирогов на завтрак и медовухи на ужин перед сном. А когда начались холмы предгорий, мои спутники немного оживились, очевидно, здесь ещё не бывали. И я, кроме штурманского участия в движении, включил себя ещё и в экскурсоводы, с превеликим удовольствием. Тягучее молчание осталось на равнине. Обедали на бережку речки Семы, съехав с трассы на поляну перед подъёмом на Семинский перевал. В термосах к тому времени чай закончился, и я для скорости приготовления достал свой примус. Пока наскоро готовился обед, я спустился к воде. С берега меня видно не было и я, донага раздевшись, по своему обыкновению, с головой нырнул в очистительный поток. Тело моментально откликнулось благодарностью за омовение, освобождаясь от суетных энергетических наслоений, накопившихся за год.











