Читать онлайн Собрание сочинений. Том I. Поэтические сборники
- Автор: Павел Шубин
- Жанр: Стихи и поэзия
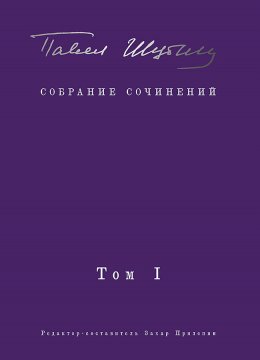
Полмига Павла Шубина
Захар Прилепин
В его случае так можно сказать безо всяких натяжек: Шубин – поэт сталинской эпохи. Её порождение и её отражение.
Когда случилась революция, ему было три года, когда умер Ленин – 9 лет, а оттепели Шубин не застал.
Как настоящий поэт Шубин начался в 1933 году, и в тот же год Европа всерьёз захворала фашизмом. Дар его достиг пика в годы Великой Отечественной.
Поэтический его, в два неполных десятилетия, путь – это осмысление событий Гражданской, предчувствия новых сражений, сама война и, наконец, – память о войне.
Тема войны, конечно же, – не единственная.
Была тема детства и тема малой родины. Любовная тема. Тема странничества и великого строительства. И, вмещающая всё перечисленное, тема абсолютной любви к Отечеству.
Однако война в самом конкретном смысле неизменно становилась поперёк всякой темы, любой мелодии.
Это поколение, входя в жизнь, знало о грядущей войне наверняка, готовилось к ней и – во многом благодаря этому – преодолело напасть.
- Всё равно нас не укараулить —
- От волны, от пропасти, от пули…
Более того, в кровавое и кромешное будущее то поколение вглядывалось жадно, как бы призывая грозу на себя. За что и расплатилось сполна. И тем не менее:
- Я хочу себе такую долю,
- Чтобы до последних дней боец,
- В час, когда меня, как колос в поле,
- Встречный ветер срежет под конец, —
- Вспомнить горы в голубом покое,
- Холод неизведанных высот,
- Тропы, мной исхоженные, коих
- Никогда никто не перечтёт.
Хочешь себе такой доли – получишь.
Сформировавшийся целиком в советской, сталинской эпохе, Шубин был по-настоящему свободным творцом. До самых последних лет – никакого ощущения скованности, приверженности унизительным догмам, сдавленности голоса.
Напротив: наглядно независимый. Умеющий улыбаться; даже дерзить. Умеющий влюбляться и отстаивать любовь.
В стихах своих он был равен себе – человеку.
Каким запомнили Шубина?
Красивый: такой русской, простонародной, чуть хулиганистой красотой – хотя на иных фотографиях красота эта кажется почти декадентской.
Крепкий, широкоплечий. Мемуаристы настойчиво отмечают его явное, зримое, настойчивое телесное здоровье и буквально «косую сажень в плечах», которую сохранившиеся шубинские фотографии, увы, в полной мере не передают.
Походка, как подметит один его фронтовой товарищ, «с кавалерийской раскачкой».
И «лермонтовские» (многократно отмеченные мемуаристами) глаза – с печальной поволокой.
Надо сказать, что и по лермонтовским портретам часто создаётся ложное ощущение почти субтильности его фигуры. В то время как современники вспоминали, что Лермонтов был очень крепок и плечист: даже не вполне естественно для своего маленького роста.
Шубин был повыше Лермонтова, но это вот сочетание – лермонтовские глаза и наглядная, удивительная физическая сила – внешне этих двух поэтов роднит.
О внутреннем, поэтическом родстве мы скажем позже; пока же дорисуем портрет Шубина.
Смуглокожий. Сероглазый. Голос приятный, грудной.
Поэт Ярослав Смеляков в шутку (но и всерьёз) характеризовал любимого товарища Павла так: «Роковой красавец, брюнет».
Снимайся Шубин в кино – он был бы всенародной звездой. Располагающий к себе. Разговорчивый, весёлый, выпивоха. Долгие годы никогда не болевший даже сезонными простудами.
Несуетный, умевший себя держать.
«Нежный и снисходительный ко всему, что не касалось поэзии», – так о нём говорила последняя любимая женщина, жена Галя.
В поэзии при иных обстоятельствах он мог бы претендовать на звание первого поэта страны: на незримую, будто самим мирозданием утверждаемую должность Блока, Есенина, Маяковского, Твардовского… А почему так не случилось, мы, быть может, поймём, дойдя до финала.
Павел Николаевич Шубин родился 14 марта (по старому стилю – 27 февраля) 1914 года. В год столетия со дня рождения Лермонтова. Место рождения: Орловская губерния (сейчас – Липецкая область), Елецкий уезд, село Чернава (оно же – Чернавск).
- О чём сказать? Как тёмное виденье,
- На будущую Марну, на Стоход —
- По всем полям прошёл мой год рожденья,
- Тяжёлый год, четырнадцатый год.
Шубин имеет в виду два сражения Первой мировой: Марнское – между германскими войсками с одной стороны и войсками Великобритании и Франции с другой, состоявшееся в сентябре 1914 года, на реке Марне, и сражение на Стоходе – бои на подступах к Ковелю между Особой армией генерала Владимира Безобразова и австро-немецкими войсками в июле 1916-го, когда русские полки вброд под шквальным огнем противника форсировали болотистые рукава реки Стохода.
- И по пятам – глухие дни, в них – слёзы,
- Седая мать, холодный едкий дым,
- Протезы брата, выбитая озимь,
- Голодный страх над чугуном пустым.
- И кто-то сгибший в пушечных колёсах,
- Сто панихид в селе и бабий вой…
- Глухие дни. Три года надо сбросить —
- Их не было у детства моего.
Река Большая Чернава, на которой стоит родовое село Шубина, – левый приток реки Сосны. Река Сосна – правый приток Дона.
- Я ходил речонкою Чернавкой —
- Вся она в купавах и куге —
- С жёрдочкой, проложенною навкось,
- С тишью, красноватой, как багет.
И хотя это верховья Дона – казачья тема для Шубина (не казака по происхождению) является одной из ключевых.
Сам он к роду казачьему не принадлежал, но на южных рубежах России встречаются такие, как у него, замечательно красивые мужские лица, словно бы с какой-то давней южной примесью в крови. Генеалогией, впрочем, уже неразличимые, потому что со всех сторон Шубин по роду был русский крестьянин – внук крестьян, правнук крестьян.
Если всё-таки копнуть на самую глубину, то обнаружится вот что.
Несмотря на то что село Чернава относилось к Елецкому уезду, старинный город Ливны, что в Орловской губернии, к Чернаве располагается ближе Ельца.
В перечне служилых ливенских людей 1682 года присутствует городовой сын боярский Самойла Климов сын Шубин.
Ещё в XVI веке в Ливнах жили всего несколько сотен семей; и почти наверняка этот Шубин – непосредственный предок поэта.
Поясним, что дети боярские – особое сословие, существовавшее с XIV до XVIII века. Боярские дети несли сторожевую службу по охране русских границ: а в те времена шубинская малая родина была самой что ни на есть окраиной. Командиры засечной стражи и сторожевых разъездов набирались, как правило, из детей боярских. Однако надеяться на придворную карьеру они не могли. Сословие детей боярских сложилось как из числа в самом прямом смысле потомков бояр, так и из числа боярских слуг, а также казаков. Имелась ли у Шубина боярская кровь – вопрос, в сущности, неважный: с XVII века она поистратилась, омужичилась.
Однако более чем вероятно, что потомки того Шубина были воинами и участвовали в походах.
Отец Павла – Николай Григорьевич Шубин – о тех временах не помнил и не знал. Он трудился слесарем и токарем на местной чернавской писчебумажной фабрике.
Семья жила в маленьком домике на берегу реки.
Будущий поэт был младшим, одиннадцатым, ребёнком в семье. Четверо детей к 1914 году умерло, шесть оставалось, а Павел – седьмой. Имелись старший брат Андрей и сестры: Анастасия, Клавдия, Анна, Елена, Софья.
В соседских рассказах упоминается также, что отец был кузнецом, что не вполне точно: кузни у них не было, но, видимо, кузнечным ремеслом в какой-то степени Николай Григорьевич владел.
Кроме того, со ссылкой на стихи Шубина утверждается, что отец был ещё и художником-самоучкой: как минимум печь в их доме отец расписал витиеватыми узорами. Ну, возможно, хотя больше нигде и никак эти данные его биографии не зафиксированы.
Что известно доподлинно, так это страсть отца к чтению. Шубины имели в доме свою собственную (хоть и не слишком большую) библиотеку, что для крестьянства начала века являлось фактом исключительным.
Первая книга, согласно семейной легенде, которую отец прочитал Павлу, была «Жизнь животных» Альфреда Брема.
Отца селяне запомнили как человека достойного и… атеиста. В церковь не ходил и детей к тому не приучал.
Отцовский атеизм на заре XX века являлся скорей приметой ищущей души и критичного рассудка. В разлад с казённой церковью вошли тогда многие русские люди, чьими именами нация горда по сей день, – от Льва Толстого и Максима Горького до Александра Блока и Сергея Есенина: что ж тут про шубинского отца говорить.
Чернавские жители помнили: местный батюшка, у которого Николай Григорьевич арендовал дом и огород, часто спорил с ним – притом находя в Шубине желанного собеседника и явно уважая этого вольнодумца. Верил, не верил – а поговорить с ним было о чём, да и детей Шубины воспитывали достойных. Старшие дочери (Анастасия и Клавдия) отучились на учительниц и уже преподавали.
Атеизм шубинского отца вызывает удивление скорей в силу некоторых иных причин.
В том же селе Чернава, в семье местного настоятеля родился в 1815 году богослов, епископ Русской православной церкви, прославленный в лике святителей Феофан Затворник (в миру Георгий Васильевич Говоров) – один из самых почитаемых в России религиозных мыслителей. В 1872 году в Вышенской пустыни Тамбовской епархии он ушёл в затвор и пребывал в нём до своей смерти в 1894 году.
То есть чернавский батюшка унаследовал тот же приход, в котором служил когда-то отец самого Феофана Затворника. И будущий святой бегал когда-то по тем же улочкам и в той же речке купался, что и будущий советский поэт Павел Шубин.
Более того, в соседнем Ельце в 1800 году родился другой знаменитейший проповедник, епископ Православной церкви, архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий (в миру Иван Алексеевич Борисов), позднее причисленный к лику местночтимых святых.
А в недалёких Ливнах в 1871 году родился ещё один крупнейший русский богослов, православный священник Сергей (Сергий) Николаевич Булгаков, к моменту рождения Павла Шубина уже известный, в том числе, например, благодаря такой работе, как «О религии Льва Толстого».
Тем не менее, как мы видим, «гений места» никак не сказался ни на старшем Шубине, ни на его сыне, советском поэте: сколько в его стихах ни ищи – никакой, даже мимолётной, связи с трудами Феофана Затворника, архиепископа Иннокентия и Сергея Булгакова там не обнаружишь. Напротив, от отца он унаследовал иное:
- И проклял я курные клетки,
- И темь, где в вековую грусть
- Мои неграмотные предки
- Псалтырь учили наизусть…
С другой стороны, и святых, и религиозных мыслителей, и поэтов единила сама русская земля. Шубинское отношение к земле вполне можно определить как религиозное:
- Санная дорога до Чернавска.
- Вьётся,
- Вьётся снежная пыльца;
- Свист саней от самого Ельца,
- Ветер – у лица. И – даль. И пляска
- Тонкого поддужного кольца…
Те же картины на той же дороге видели в своё время и Феофан, и Иннокентий, и Сергий.
- А в снегах – без края, без конца —
- Древняя, дремучая побаска,
- Всё звенит, всё бредит детской лаской,
- Лепетом младенца-бубенца;
- До зари вечерней опояска
- Где-то там, у отчего крыльца.
- Дальнозоркой памятью увижу
- За сто верст отсюда на закат
- Низкую соломенную крышу,
- Вровень с ней – сугробы, а повыше —
- Дым над черепичною трубою:
- Башенкой белёсо-голубою
- В небо он уходит, языкат…
- ………………………………
- Родина! В подробностях простых
- Для меня открылась ты однажды,
- И тебе я внял кровинкой каждой
- И навек запомнил, словно стих.
И видя ту зимнюю дорогу, и слыша зимний ветер у лица, и Феофан, и Иннокентий, и Сергий, быть может, испытывали те же самые, что здесь описаны, чувства, для которых просто не нашли столь же точных и сияющих слов, – да и не искали: предназначение их было иным.
Но если долго ехать по этой зимней дороге, вглядываясь в зимнее небо, можно однажды догадаться, что молитвы и этих священнослужителей, и святых, и стихи этого маловера были на самом деле об одном и том же. О любви, переполняющей человека.
Мать Павла Шубина звали Ольга Андриановна.
Она была неграмотной, но при том помнила наизусть не только народные, казачьи, малороссийские песни, но и классические стихи русских поэтов. Причём, помимо хрестоматийных Пушкина и Лермонтова, она знала живых классиков – Блока и Есенина.
Слышала – и на слух запоминала.
Удивительная, безразмерная память поэта Шубина, о которой мы не раз ещё вспомним, унаследована от матери. И его выносливость, его работоспособность – тоже.
Соседка, А.М. Подколзина, вспоминает: «Ольга Андриановна была очень трудолюбивой женщиной, никогда не знающей усталости. Она была искусной ткачихой, великолепно плела кружева. Она работала беспрестанно, даже в праздники». Время от времени, когда беременность позволяла (их в ее жизни было одиннадцать), мать трудилась на той же фабрике, что и отец Шубина, браковщицей.
Крестьянского хозяйства у Шубиных не было.
Гражданская война ту местность не миновала: в 1919 году кавалерийские части генерал-лейтенанта Константина Константиновича Мамонтова заняли Чернаву. Некоторое время жили под белыми – хотя пятилетний Павел едва ли сохранил с тех пор хоть сколько-нибудь осознанные воспоминания.
Рос, как и все сельские мальчишки в ту пору.
Одежду донашивал за старшими. Разница со старшим братом была слишком большая, а дальше шли сёстры, так что всё на маленького Пашку приходилось перешивать. Но это если у матери руки доходили: в младенчестве бегал в девчачьих распашонках.
Рассказывал потом, что в день, когда надел первые в своей жизни штаны – с лямкой через плечо, – горд был до невозможности.
Было ему в ту пору лет шесть, и, раз уж теперь на нём штаны, пацанёнок решил подтвердить мужскую свою природу, забравшись на сельскую колокольню. На самый верх. Естественно, безо всяких верёвок.
Мальчик подверг себя очевидной смертельной опасности.
Все селяне собрались, крестясь и ожидая, что младший Николая Григорьевича сынишка рухнет – и убьётся.
Но он не сорвался, хотя с какой-то минуты почувствовал неладное, и спускаться ему было, пожалуй, даже страшней, чем забираться.
Ожидания оправдались: дома отец его нещадно выпорол, что, вообще говоря, в доме Шубиных практиковалось нечасто.
В те же шесть лет он самовольно, на попутной подводе, что твой Ломоносов, сбежал учиться. В неблизкое, но той же губернии село Никольское, где школьными преподавателями трудились сёстры.
Мальчишку вернули домой, но он упёрся: отпустите учиться, а то опять убегу.
Отец махнул рукой: ладно, мол, учись, раз ты такой настырный.
В школе стали проверять, а он программу первого класса уже знает назубок.
Так младший Шубин пошёл сразу во второй класс школы. В шесть лет!
Учился там с 1920 по 1924 год.
Одноклассница вспоминала: «Лицом своим он скорее был похож на девочку. А по его открытому и светлому взгляду казалось, что всё для него ясно и понятно. Он пришёл уже умеючи хорошо читать и писать. Из нас тогда никто так не читал, как он: очень быстро и чётко, совсем как взрослый человек. Был он сообразительнее и умнее нас: умел хорошо и быстро решать задачи. Помню, что он сидел впереди, на первой парте, так как был меньше нас, потому что был моложе всех».
То есть весь класс был его на два-три года старше, но Шубин всё равно был первым учеником по всем предметам.
Далее из воспоминаний одноклассницы: «Павел любил книги: он приносил их в класс, читал на переменах и давал нам читать».
Вообще его могли бы обижать, такого мелкого, и к тому же – вечно читающего книжки. Однако ничего такого одноклассники не припоминают.
Объяснение тому на самом деле простое: он был не только самый умный в классе, но и самый сильный.
Из начальной Павел был переведён в среднюю семилетнюю школу в город Орёл, это 170 километров от села Чернава. Совсем далеко от дома! Выживал теперь самостоятельно. Родители навещали редко. Домой – только на каникулы.
Вспоминают: на любых спортивных соревнованиях он – в числе лучших, если не лучший. Тогда были в моде физкультурные пирамиды – он неизменно в центре, а не на самом верху, потому что у этого ещё мелкого пацана – железные руки.
Рассказывают соседи: «Однажды заспорили братья Чичурины с Павлом о том, кто из них самый сильный. Какие только выкрутасы не придумывали братья, а Шубин на это только сказал: “А я к вашему дому огромный голыш прикачу с речки!..”»
На реке лежал тот самый камень, который и взрослые парни не могли сдвинуть. Павла засмеяли.
Утром огромный камень лежал возле дома братьев Чичуриных. Как этот камень туда попал – бог весть.
В городки и в крокет он играл тоже лучше всех ребят на селе.
Периодически встречаются упоминания, что в юности поэт беспризорничал. Легенду эту он запустил сам, и кто-то принял стихотворную шубинскую мифологию на веру.
Впрочем, настоящих малолетних бродяг он повидал немало – это было в те годы неизбежным. Само его детство совпало с лавинообразным ростом беспризорности, охватившей Россию после Первой мировой и Гражданской войн, а также после эпидемии голода 1921–1922 годов, случившейся на территории по меньшей мере 30 губерний с населением до 90 миллионов человек. На первые десять лет жизни Шубина пришлись две страшные войны и один мор. Отсюда в стихах:
- Я вспомню всё: ночлежки и приюты,
- Мякинный хлеб, приво́ды и моих
- Товарищей – раздетых и разутых,
- Изломанных в притонах воровских;
- Я вспомню всё: тифозные вокзалы
- И пожелтевший протокольный лист —
- Где слово «малолетний» не смывало
- Проклятого клейма «рецидивист».
Всё это было социальной географией его детства и самостоятельного проживания в Орле в пору ученичества: явно драматизируя, он всё равно не слишком выдумывал. Даже если описанное коснулось его не в полной мере, это происходило рядом, вокруг.
Как минимум в форме коротких побегов и мальчишеских, лихой компанией, загулов на несколько дней он подобный опыт имел. Для чуткого и внимательного сердца будущего поэта подобных впечатлений оказалось достаточно.
И отмечаемая современниками дерзостная смелость Шубина, и даже, быть может, склонность его к розыгрышам – наследство тех лет.
- Детство – это кони и повозки,
- Десять цинков стреляных патронов,
- Заменивших бабки и игрушки;
- Облачка шрапнелей по-над Доном.
- Это берег одноцветный, плоский,
- Свежие окопы, ругань, розги,
- Голод, шлях и, наконец, теплушки
- И асфальт заплёванных перронов.
- Это выучка у хитрованцев
- Воровать спокойно и без риска.
- И ещё – чужой язык жаргона,
- Почему-то ставший самым близким;
- Потный страх от первых операций
- Над вещами по чужим вагонам,
- Осторожность,
- Чтоб в конце концов,
- На ходу под насыпь оборваться
- И лежать за дальним перегоном
- С тёмным запрокинутым лицом.
- Вот и всё здесь, многословья кроме.
- С первою любовью по соседству
- Юность начинается в детдоме.
- И за нею – тенью по следам —
- Ненависть и злоба против детства —
- Тяжкая.
- Большая.
- Навсегда.
Строго говоря, жизненная реальность перечисленных в этих стихах атрибутов детства спорна: всё-таки общежитие при школе – не детдом. Но здесь можно сослаться на то, что слова эти произносит лирический герой, который не обязан быть идентичен автору.
Говоря о малой родине, Шубин будет в своих стихах упоминать в первую очередь Орёл.
- Ока, разогнавшись, ударит о ряжи,
- Но поезд пройдёт по мосту невредим,
- И снова орловская родина ляжет
- Развёрнутым платом за следом моим.
Или вспомним ещё целое признание в любви всё тому же городу, интонационно, кстати, противоположное стихам о ненавистном детстве:
- Городок – он о́тдал нашей силе
- Всё, что стало на ветру грубей:
- Рыбоводы пескарей ловили,
- Лётчики гоняли голубей.
- И от пустырей его просторных
- В мир – поющий, выпуклый, цветной —
- Сто дорог легло прямых и торных
- Для мальчишек с улицы одной.
- Но и всё измерив новой мерой,
- Не отдам тебя во власть годов,
- Первая моя любовь и вера,
- Светлый город яровых садов!
Впрочем, упоминая как малую родину и Липецк, Шубин снова говорит о погубленном детстве:
- Чтоб садов твоих надречных свежесть
- Здесь не увядала никогда,
- Чтобы шли по синему безбрежью
- С яровой пшеницей поезда,
- Чтобы там, где навсегда бездомным
- Сгибло детство горькое моё,
- Выносили липецкие домны
- Золотое, тяжкое литьё.
Поэт – не бухгалтерская книга, он имеет право на непоследовательность и противоречивость.
И с этого места – чуть подробнее.
За год до окончания школы, в 1927 году, 13-летний, рано возмужавший Павел Шубин на летние каникулы не отправляется домой, а совершает путешествие с целью, судя по всему, подзаработать.
Фабрика, на которой работали отец и время от времени мать, была закрыта ещё в 1919 году, родители получили землю – но едва сводили концы с концами.
В автобиографии, написанной 5 ноября 1939 года, Шубин коротко сообщает: «Самостоятельно начал работать в 1928 г. Работал грузчиком в порту до 1929».
В каком именно порту, не уточняет. В Орловской губернии никакого порта не было.
11 сентября 1941 года, заполняя так называемый личный листок по учёту кадров, Шубин, отвечая на вопрос «Был ли за границей», пишет «да». На вопрос «В какой стране (указать город, место, цель поездки)», отвечает: «В качестве моряка был во многих портах Европы, Америки, а также Китая и Японии. Всё это в период с 1927 по 192…» – последняя цифра в анкете переправлена до неузнаваемости: не поймёшь, 8 там или 9.
На следующей странице уточняется, где именно он работал: «город Одесса. Одесская пароходная контора», а следом – кем: «юнга, потом матрос». Далее он пишет, что работал в Одесской конторе до 1930 года.
Это, сразу скажем, неправда.
Правдой, однако, могло быть то, что он возвращался в Одессу в летние каникулы 1928 и 1929 года.
В автобиографии, написанной 15 ноября 1943 года, Шубин снова сообщал: «Был воспитанником судового комитета парохода Одесской конторы “Дзержинский”, на котором 4 года плавал».
Про четыре года Шубин снова преувеличивал, но Одесса была в тот момент под немцами, и отправить запрос в контору «Дзержинского» возможности не имелось.
Тем не менее настойчивость, с которой Шубин говорил об этом своём опыте, позволяет предположить, что он действительно был в Одессе, действительно работал там грузчиком и, вероятно, юнгой, совершив в этом качестве некоторое количество плаваний. Но до Китая и Америки он точно бы не доплыл – ему ж в школу возвращаться.
Косвенно факт плаваний Шубина подтверждает тот факт, что он хорошо владел английским и немецким и более-менее мог изъясняться на французском. Такой вот орловский крестьянин из многодетной семьи, проведший юность, в сущности, без родительского пригляда.
Достоверно известно другое: в 1929 году, пятнадцатилетним, Павел переезжает в Ленинград, чтобы продолжить учёбу.
В Ленинграде уже обжилась вышедшая замуж старшая сестра Анна, у неё он поначалу и поселился.
Шубин поступает в ФЗУ (школу фабрично-заводского ученичества) металлургического завода им. Сталина. Муж сестры Анны сразу же устраивает Павла на этот завод. Шубин пошёл по стопам отца – начал трудиться слесарем. Работа у него ладится – вскоре он становится ударником. Будущий поэт с лермонтовскими глазами был способен к мужицкой работе.
Павел добросовестно проучится и проработает на заводе с 1929 по 1931 год.
Как обычно, он много читает и пробует писать стихи.
Любимым писателем пошедшего в люди Шубина был в те годы не, как можно было бы предположить, Максим Горький, а не самый знаменитый – Александр Грин.
В 1930-м, шестнадцатилетним, Павел Шубин отправился в Крым – познакомиться с Грином, показать ему свои стихи.
Грин жил в Старом Крыму – это город в восточной части полуострова.
Апокриф гласит, что Грин Шубина принял, стихи прочитал и посоветовал юноше получить хорошее образование.
Никаких других свидетельств о том путешествии нет. Даже в шубинских стихах никаких подробностей той крымской поездки не найти. Всеволод Азаров, шубинский товарищ в 1930-х годах, вспоминал: «Он был великим выдумщиком. Мыс Горна, мыс Доброй Надежды, где он якобы проходил со своим кораблём, повторялись в его рассказах часто».
Реакция была самой разной – от «Да ладно тебе, Пашка, заливаешь ты!» до попытки поймать его на неточностях, раскусить, но всякий раз выяснялось, что Шубин действительно хорошо знаком с материалом.
Обладавший отличной памятью и прочитавший всё, что только возможно о тех или иных путешествиях, он держал в голове огромный набор фактов, деталей, заставлявших уняться даже самых суровых скептиков: может, и правда ходил в далёкие плавания? Вон какой крепкий, загорелый, походка враскачку – как у бывалого моряка; а глаза какие честные.
На фоне повествований о посещении мыса Доброй Надежды упоминание про краткий визит к Грину кажется вполне невинным, тем более что Шубин будет про ту встречу время от времени вспоминать до самого конца жизни, причём в разговорах с самыми близкими людьми.
Возьмём на веру: был, виделся, получил напутствие. И решил учиться литературе.
В 1932 году Шубин приходит в литературную группу при ленинградском журнале «Резец».
Несмотря на своё нарочито пролетарское название, это было литературно-художественное, весьма достойное, два раза в месяц выходившее издание со вполне себе весомой по тем временам молодой и деятельной редколлегией. Редакторствовал в том 1932-м году в «Резце» 28-летний критик Анатолий Горелов, в редколлегию входили знаменитый тогда писатель Юрий Либединский и Пётр Чагин – ценитель литературы и партийный деятель, в своё время опекавший Есенина.
Литгруппа «Резец» состояла примерно из сорока человек и включала прозаическую, поэтическую, критическую секции и киносекцию. В Ленинградской ассоциации пролетарских писателей «Резец» был представлен своей группой.
Литгруппа эта могла похвастаться тем, что выпустила в жизнь замечательного поэта Александра Прокофьева. В 1931 году у того вышла первая поэтическая книга. Участник Гражданской и бывший сотрудник ВЧК-ОГПУ, Прокофьев вскоре займёт одну из ведущих позиций в советской поэзии.
Наряду с Шубиным занимались в «Резце» ещё два поэта, которые получат определённую известность. Бронислав Кежун (ровесник Шубина, тоже с 1914 года, родом – петроградский, из поляков) и Борис Костров (на два года старше, с 1912-го и опять же петроградец). Все они попадут на Великую Отечественную. Кежун проживёт долгую жизнь, выпустит десятки поэтических книг; Костров погибнет в марте 1945-го, меньше чем за месяц до победы, успев издать одну книгу стихов.
Руководил группой литературовед Валерий Друзин – впоследствии профессор и большой литературный начальник.
Поэтическое мастерство в «Резце» преподавал Михаил Троицкий – 1904 года рождения, петроградец, автор на тот момент шести сборников стихов, переводчик; основной темой его стихов была армейская служба и предстоящая война. Троицкий окажет на Шубина большое влияние.
В том же году у Шубина получаются первые настоящие стихи. Что характерно – о путешествии во Владивосток.
- Будто уж если ветер не хлёсткий
- И заводские будни просты, —
- Так далеко я от владивостокской
- Необычайной двадцатой версты.
- А не нынче ли лёгкой походкой
- Через вечер и тень пронесло
- Круторёбрые абрисы лодки
- Просолённое морем весло.
- И растаяла звёздная высыпь
- С тихим шумом расколотых льдин,
- Натолкнувшись волною на пристань,
- Охранявшую мыс Басаргин.
Голос поэта оживал, пробуждался.
Можно вообразить себе его радость, его счастье: я умею! Бродя по ленинградским улицам, шептал свои стихи, пьянея от слов, которые ещё вчера были чужими, а сегодня стали – его.
Жил Шубин по адресу: Полюстровская набережная (сейчас Свердловская) – через Неву от Смольного – дом 25, строение 2, квартира 41. Маршруты его прогулок – в самом центре, вдоль Невы.
«Эскиз» Павла Шубина был опубликован в 14-м номере журнала «Резец» за 1933 год.
Это первые его, но не последние стихи о Владивостоке.
Владивосток в шубинской поэзии станет главным соперником Ленинграда и оставит далеко позади родной Орёл.
Уроженец Владивостока, современный писатель Василий Авченко подметил в шубинских стихах несколько ошибок, которые мог бы разглядеть только коренной житель.
В своей работе, посвящённой Шубину, Авченко пишет: «Вызывают недоумение “фиорды” – никаких фиордов и близко нет, “губа” – во Владивостоке нет заливов, именуемых губой, а также то обстоятельство, что до Русского острова – “верных полста” вёрст (ширина пролива Босфор-Восточный, отделяющего город от Русского, – всего около километра)».
Далекоидущих выводов Авченко тактично не делает: может, был, Шубин во Владивостоке в 1932 году, а может, и не был.
И здесь снова, как и в случае с мысом Доброй Надежды, возникают вопросы.
Может, он и Владивосток придумал?
Молодой, влюблённый в прозу Грина Шубин мог считать проблемой отсутствие романтической фактуры в его поэзии. Талант, как выяснилось, имеется, но не про Чернаву же всё время писать.
Газета «Молодой рабочий» в том же 1933 году дала любопытную справку: «Шубин Павел – член литгруппы “Резец”. Родился в 1911 г. Комсомолец (бывший беспризорный). Печатается с 1933 года».
Информация эта, во-первых, явно предоставлена самим Шубиным, а во-вторых, она, конечно же, не верна.
«Бывший беспризорный», родившийся, как мы помним, в 1914 году, накинул себе три года (тем более что стихи, процитированные нами выше про «тяжёлый год, четырнадцатый год» своего рождения, Шубин ещё к тому времени не написал).
Зачем ему было нужно увеличивать свой возраст?
В эти три года помещалось всё то, что ему было необходимо для достойного поэтического старта. Если ему всего 19 (как и было на самом деле) – и к этому времени ухитрился закончить школу, побывать в Одессе, отучиться в ФЗУ, следом поступить на вечернее отделение конструкторского техникума им. Калинина, одновременно став ударником на заводе, – когда бы он успел всерьёз побеспризорничать, походить по морю, а после ещё и во Владивосток съездить? Причём съездить до того, как он пришёл в литературную группу «Резец», потому что с тех пор, как он там занимался, Шубин вроде бы никуда надолго не уезжал.
Въедливые наблюдатели, узнав, что он родился в 1914 году, сразу бы сосчитали: Паша, в 1920 году тебе было шесть лет, в 1922 – восемь, в 1924 – десять, а дальше началась такая активная борьба за бездомных детей, что за несколько лет проблему беспризорности свели на нет.
В те годы люди подобные вещи считывали легко, и Шубин тоже про это знал. «Где же прячется твоя беспризорная биография?» – спросили бы строгие товарищи, недобро ухмыляясь.
Это Прокофьеву повезло! Родившийся в 1900 году, в 1919-м он вступил в РКП(б), воевал на Петроградском фронте, был в плену у Юденича, бежал, в 1920-м окончил Петроградский учительский институт Рабоче-крестьянской Красной армии – вот это, знаете ли, биография!
А Шубину что было на этом героическом фоне делать? Как о себе заявить?
Революционной и боевой биографии не досталось. Ну так хотя б иными трагедиями раскрасить годы юные.
В том же 1933 году появляется у Шубина стихотворение «Колокол».
- Эту церковь строили недавно
- (Двадцать лет – совсем пустячный срок…)
- Вот она блестит пустыми главами,
- Жёлтыми, как выжженный песок.
- В год, когда навеки исчезали
- В битвах имена фронтовиков, —
- Колокол в Тагиле отливали
- В девятьсот четырнадцать пудов.
- ………………………………
- Месяц для него опоку ладил
- Тщательно, как делать всё привык,
- Старший брат мой, пьяница и бабник,
- Лучший по округе формовщик.
- И в земле, очищенной от гальки,
- Выверенной с каждой стороны
- Деревянный шлем заформовали
- В яме двухсаженной глубины.
- Печь плескала раскалённой медью,
- Выпуск начинать бы хорошо…
- Мастер ждал хозяина и медлил.
- И ещё хозяин не пришёл —
- Брат мой крикнул: «Выпускай-ка, Костя!
- Что хозяин! Ждать их – сволочуг…»
- Мастер, задохнувшийся от злости,
- Обругался шёпотом и вдруг,
- Багровея бородатой мордой,
- Как медведь присадист (ну, держись!..)
- Снизу вверх ударил в подбородок
- Кулаком… И брат свалился вниз
- Прямо в форму. Бросились, немея,
- К лестнице в двенадцатый пролёт:
- Может быть, они ещё успеют,
- Может быть, кривая пронесёт…
- Но уже, рассвирепев с разлёта,
- Искры рассевая высоко,
- Шёл металл сквозь огненную лётку
- Белый, как парное молоко.
- И когда с шипением и гудом
- Подошла белёсая гроза,
- Брат ещё смотрел – через секунду
- Лопнули и вытекли глаза.
Старший и единственный брат Павла – Андрей, конечно же, был вполне себе жив.
Но если в случае с этой балладой можно сослаться на то, что рассказчик здесь – лицо абстрактное, равно как и его брат, то про автобиографические стихи 1935 года «Слово в защиту», где Шубин рассказывает о себе, так сказать уже сложнее.
Там у старшего брата-повествователя появятся протезы (напомним процитированные выше строки: «Седая мать, холодный едкий дым, / Протезы брата, выбитая озимь…»). Читатель неизбежно догадывается, что брат потерял конечности в сражениях империалистической войны.
На самом деле ноги-руки у Андрея были на месте.
Но что там брат! Годом раньше Шубин безжалостно похоронил мать своего лирического героя:
- Но не этим памятно мне детство…
- Не его дешёвое наследство
- Мне дано сегодня вспоминать —
- Боль мою вынашивать такую…
- Кто-то умный всё, о чем тоскую,
- Выразил коротким словом – мать.
- …………………………………….
- И доныне памятной осталась
- Тела её слабого усталость
- К вечеру почти любого дня…
- И ещё я смерть её запомнил…
- В чёрных, бо́льных трещинах ладони,
- Сроду не ласкавшие меня.
Родившая одиннадцать детей Ольга Андриановна, быть может, не всегда имела возможность приласкать младшего сына; в любом случае проживёт она долго – схоронив ещё в молодости четверых малых детей, переживёт, увы, и младшего своего сына – поэта.
Отношения меж ними, оговоримся сразу, были добрейшие, и, едва начав зарабатывать литературой, Шубин будет неизменно переводить деньги в родной дом, с какого-то времени, по сути, начав содержать стареющих родителей, а потом и вовсе заберёт мать к себе жить.
Единственный сын Павла Шубина, внук Ольги Андриановны, напишет в воспоминаниях, что отец был у неё самым любимым из всех детей – с самого его младенчества она души в нём не чаяла.
Но поэзия! Поэзия требовала с него жертв неслыханных!
Во все времена поэзия – не только безжалостное соревнование в мастерстве, но ещё и в перипетиях биографий. Поэтому в 1935 году Шубин пишет программное стихотворение «Где-то за Окой»:
- Я нигде не мог ужиться долго.
- Мне хотелось навсегда узнать,
- Чем живёт страна,
- О чём над Волгой
- Зори астраханские звенят.
- Широко открытыми глазами
- Мне хотелось видеть светлый мир,
- Где Хибиногорск цветёт садами
- И дымит заводами Памир.
- И меня во все концы бросало
- На пути открытом и глухом,
- От Владивостока до Урала —
- Слесарем, шахтёром, пастухом;
- И везде дарила жизнь простая
- Мне работу, песни и жильё.
- И не знаю я, когда устанет
- Сердце ненасытное моё!
Из трёх перечисленных профессий (слесарь, шахтёр, пастух) Шубин официально владел и занимался только первой. Впрочем, здесь стоит признать, что большинство поэтов и одной не владели.
В том же 1935 году в стихотворении «Родина» Шубин пишет:
- Семь лет я дружил с незнакомою речью
- В казахских кибитках,
- В калмыцких возах.
- Долины Памира, сады Семиречья
- Семь раз отцвели у меня на глазах.
- Я мёрз или слеп от горячего пота,
- Меня малярия трясла через день.
- И всё же подруги-друзья, и работа,
- И радость, и песня встречали везде.
- Мы хату, где выросли, любим. И всё же
- Я твёрдо не знаю до нынешних дней,
- Донская ль станица мне будет дороже
- Иль, может, сады Семиречья родней.
Как бы он сочинял такое, если б три года себе не накинул!
Тогда же, в 1935 году, в стихотворении «В который раз идти на перепутья…» к Уралу и Семиречью прибавляются Днепрострой и некое не названное море, куда, вполне возможно, уходит лирический герой в плаванье:
- А я, носивший к Днепрострою камень,
- Я видел от Кремля в полуверсте
- И лирика с трахомными глазами,
- И первый трактор, уходящий в степь.
- И всё, что было,
- Всё, что есть сегодня,
- Солёным ветром бьющее в глаза,
- Уходит в море, поднимая сходни,
- Чтоб никогда не приходить назад.
В следующем году тема будет продолжена:
- В глазах дремучей зеленью рябя,
- Шумел Амур, и кедрачи шумели.
- Нас было трое молодых ребят,
- Небритых сорок дней.
- И перед нами
- Лежали пади, словно в полусне.
- Я вижу их с закрытыми глазами
- Сейчас смелей и, чем тогда, ясней.
- Я понял дух охотничьей удачи,
- Когда, всадив по обух топоры,
- Над краем зверьей, сумрачной норы,
- На старых кедрах, розовых, как медь,
- Мы сделали зарубки, обозначив,
- Где людям жить и городу греметь.
Если бы он стал однажды по-настоящему знаменит, завистники и ревнивцы разыскали бы, разрыли вехи его истинной биографии. Откопали б осмысленную путаницу в датах, ложную беспризорность, брата в добре и здравии, неслучившиеся поездки.
О, как бы в него вгрызались тогда, как бы кусали, как бы выводили на чистую воду! Требовали бы покаяться и замолчать навсегда!
На самом деле всё это значения не имеет – был, не был.
Это – великолепные стихи. Мы же читаем стихи, а не к трудовой награде Шубина посмертно представляем? Стихи – вот. Полнокровные и яростные. Неважно, где он там был, не был. Он уже самим фактом написания стихов – был там, работал на это.
И тем не менее.
Когда б шубинскую биографию на самой беспощадной чистке разобрали бы на самые малые составляющие, в какой-то момент он взял бы да и выложил на стол свою трудовую книжку.
(Чудо, но одна из них сохранилась до наших дней!)
Да, там нет Днепростроя и казахских кибиток.
И тем не менее в трудовой Павла Николаевича Шубина значится: «1 ноября 1931 – 7 марта 1932, место работы: Владивосток. Должность: слесарь».
Он взял – и махнул из Ленинграда во Владивосток! И отработал там четыре месяца! Он там был! Просто когда, спустя год, сочинял стихи, напутал некоторые вещи – такое случается.
Более того.
Вернулся на свой прежний завод и был восстановлен в прежней должности он только 21 ноября 1932 года! То есть семь месяцев неведомо где скитался.
Вот откуда эти семь лет! Каждый месяц – за год шёл!
Быть может, следы его путешествий разыщутся, но пока никаких документальных известий о том периоде в жизни Шубина нет. Трудовая книжка их не зафиксировала, а воспоминаний о том времени никто не оставил.
Может, он и успел в эти семь месяцев, минуя трудовые договоры, поработать пастухом, а то и на шахте – на самой неквалифицированной работе.
С этим – вполне себе весомым опытом – он и вернулся в Ленинград. И шагнул в поэзию.
Домысливая в мелочах и датах, он не обманывал в главном!
Поэтому совершенно спокойно утверждал:
- Я говорю суровые слова —
- Так жизнь меня большая научила.
- И песня, как тугая тетива,
- Всегда звонка и так же осторожна,
- И, как стрела в груди врага, права.
- И, может быть, моя простая сила
- Лишь только тем красива и жива,
- Что никогда не знала дружбы с ложью.
Отучившись год на вечернем отделении конструкторского техникума им. Калинина, Шубин его бросил, точно теперь уже поняв, что призвание его в другом.
В 1935 году он поступает на филологическое отделение Ленинградского пединститута им. Герцена.
И прямым текстом жалуется на невозможность жить сразу несколько разных жизней:
- Мне б в хлебном поле вырастать,
- Мне б полыхать огнём,
- Водить в тумане поезда
- В безбрежии твоём;
- В Магнитогорске лить чугун,
- Лететь сквозь ночь к звезде…
- И горько мне, что не могу
- Я сразу быть везде!
Характерно, что стихотворение это носит симптоматичное название «Зависть». По смыслу оно созвучно его же посвящению Николаю Островскому под названием «Жадность».
Он жадно и завистливо желал обрушиться в жизнь, при том что уже успел зачерпнуть и её дорог, и её ветров.
Но, обретя опыт путешествий, проехав наискосок всю страну, Шубин твёрдо понял: если не научишься быть настоящим поэтом – ни о чём рассказать всё равно не сможешь. Опыт сам по себе ничего не значит. Чтобы петь о свершениях – нужны не только свершения: в первую очередь надо выучиться петь.
Строго говоря, и Эдуарда Багрицкого судьба в «сабельный поход» не водила и на кронштадтский лёд не бросала, и Владимир Маяковский город-сад, им воспетый, не строил, и большинство из тех событий, о которых сочинял сначала частушки в «Окнах РОСТА», а потом писал огромные поэмы, воочию не наблюдал.
И тем не менее именно они стояли в центре советской поэзии.
И вот, предвкушая своё огромное, невероятное, от Памира до края мира будущее, Шубин описывал и ту жизнь, которую теперь ему, студенту, пришлось познать:
- Как мы жили? —
- В немеркнущем гуле
- С поздних лекций
- В столовую шпарь…
- Песни,
- Смех,
- Толкотня в вестибюле,
- Ночь.
- Закутанный в иней январь.
- И – кино на углу, за полтину,
- И – квартал в болтовне искружив, —
- Сон в четвёртом часу,
- Ламартина
- До утра под щеку положив.
Надо понимать, что свою мифологию Шубин создавал ещё и в силу гласного и негласного студенческого соревнования.
Современник (на год моложе) Шубина, выпускник ЛГПИ им. А.И. Герцена 1938 года писатель Константин Константинович Грищинский вспоминал, как в 1930-е выглядел набор абитуриентов в Герценовский институт: «Тогда я не замечал ни мамаш, ни папаш. В очереди стояли люди большей частью в зрелых годах. Одеты были все по-разному: кто – в городском костюме, кто – в рубашке с деревенской вышивкой, кто – в красноармейской гимнастёрке».
И хотя здесь Шубин уже был не самым молодым (ему исполнился 21), но в институт зачастую шли ребята куда опытнее его, и с настоящей беспризорностью, и с войной за плечами.
Несмотря на то что Шубин, кардинально сменив направление, решил учиться филологии, на вступительных экзаменах, помимо литературы и обществоведения, ему пришлось сдавать химию, физику и математику; а дальнейшее обучение также предполагало предельно широкий кругозор.
Учили там – строго, всерьёз, многому.
Грищинский продолжает: «Внимание к вопросам дисциплины было исключительно высокое. Прогул на фабрике и прогул в институте считались деяниями почти что равноценными. Спуска в этом не было».
Жил Шубин в одном из четырёх герценовских общежитий.
«В каждой аудитории обитало до полутора десятков человек. Посредине каждой из них стоял пятиметровый длинный стол – наследие бывшего Воспитательного дома. Кроме тумбочек и дряхлых стульев, иной мебели здесь не было.
<…>
У входа была устроена вахта. Охранники-старики дежурили круглые сутки. А рядом, в холодной камере, были полуголодные овчарки и дворняги. Днём их держали взаперти, а ночью выпускали. Собаки в поисках пищи бегали по коридорам и лестницам, охраняя тем самым кафедры и деканаты от возможного проникновения нечистых рук.
Собаки обретали свободу в полночь. Беда студенту, если он приходил в общежитие позднее. Стучишь в окно сторожки и не достучишься. Кряхтя, встает со своего ложа недовольный сторож-старик и, поминая всех святых, открывает скрипучую дверь. Свистком собирает разбежавшихся собак, придерживает их за ошейник и напутствует: “Ну, беги, малец! Смотри, чтоб успел… Злые ведь…” Что есть духу бежишь по темным катакомбам в сторону столовой. Благо каждый выступ и поворот знакомы. Одного боишься: как бы не упасть, потеряешь время».
Где подрабатывали студенты?
«На Фонтанке, от Невского до самого цирка, по той стороне, где ныне филиал Публичной библиотеки, была мощённая булыжником набережная с редкими, тускло светившимися фонарями. Вся эта набережная представляла собой грандиозный склад дров. К гранитному берегу реки причаливали баржи, груженные осиновыми, ольховыми и березовыми плахами. Вот эти баржи студенты и разгружали. Деньги выдавались грузчикам наличными…»
Шубин, физического труда никогда не чуравшийся, имел тогда ещё и должность корреспондента газеты «За большевистские пед. кадры», где выступал фельетонистом.
Грищинский вспоминает одну историю про Шубина: «Однажды под псевдонимом “Троглодит старший” (“младшим” был один из его сокурсников) он написал фельетон “Придётся дать выговор”. В нём он живописал поход по общежитию № 1 комиссии, возглавляемой пом-директора Яковлевым (А. И. Яковлев (род. 1903 – погиб на фронте в 1941) – прим. З.П.). Толкнув дверь комнаты № 589, Яковлев решительно шагнул вперёд. В комнате на грязном столе лежала внушительная куча окурков. Засиженные мухами лампочки почти не освещали комнаты. На подоконниках лежала пыль ещё доисторического периода.
– Как же вы тут живёте? – обратился Яковлев к взъерошенной фигуре.
– Так я же Жук! – весело ответила фигура. – Нам в навозе сподручно. И вообще, у нас даже староста, именуемый Карасём, привык и великолепно плавает.
Студент Жук на следующий день после выхода газеты пришёл в редакцию. Он был возмущён, что фельетонист отождествил его с навозным жуком. Редактор выслушал его внимательно, а потом сказал, чтоб тот уносил подобру-поздорову ноги, а то фельетонист бока намнет, чтоб не ходил жаловаться».
Слава у Шубина в герценовском была совершенно однозначная. Он был хороший и весёлый товарищ, но физическую силу, если на то была необходимость, применял без раздумий. Раз уж назвался беспризорником, прошедшим к тому же горы и моря, – отступать некуда.
Он и не отступал.
Грищинский характеризует его так: «Умный, сильный и злой».
И далее ещё точнее: «Вот он: бритая летом голова, большие надбровные дуги, волевая челюсть и взор – глубокий, словно сверлящий, испытывающий».
«Жизнь не баловала Шубина», – пишет Грищинский, и здесь мы понимаем, что все его сокурсники в поэтическую шубинскую мифологию верили совершенно всерьёз.
«…и был он, вероятно, на самом деле злым», – продолжает Грищинский.
(«Злой» – как отметит вскоре советская критика, один из самых частых эпитетов в стихах Шубина. «Злой» и ещё: «горький»).
«Шубин любил позлословить. Одним это нравилось, другим нет. Жук, высмеянный в фельетоне, отнюдь не был единственным и главным его недоброжелателем.
Пожалуй, самым яростным противником Шубина как поэта был Михаил Горелов, студент с физмата. Высокий, худой, с растрепанными длинными волосами, Горелов обладал странностями: то до сумасшествия штудировал учебники по астрономии, то рассеянно бродил по коридору, то писал стихи. Однажды он принёс в редакцию целую тетрадь своих стихов. Дали их прочитать Шубину, на рецензию. Павел, не стеснявшийся в выражениях, назвал гореловские стихи чушью».
«Однако был злым Павел скорее внешне. В глубине души томились чистые и ясные чувства любви к товарищам, родному краю, институту…»
«В институт поступил не только для того, чтобы стать педагогом, а “для ликвидации недостатка культуры”», – пишет Грищинский, судя по всему, цитируя самого Шубина.
Развивался он, впрочем, сразу по нескольким направлениям.
Накануне поступления в институт Шубин всерьёз займётся боксом. На второй год занятий получит боксёрский разряд. И начнёт участвовать в соревнованиях на ринге. Сокурсники ходили на него смотреть.
Кажется, это исключительный случай в русской литературе. Подраться у нас иные любили, но чтобы выйти в профессионалы – это редкость.
При этом вот ведь какой парадокс! Слесарное дело хотя бы упоминал, про беспризорника, пастуха и шахтёра говорил, а про бокс и победы на ринге – даже вскользь не вспомнил.
Равно как и про одесские свои дела моряцкие – которые в поэзию его странным образом не попали.
Равно как и впоследствии – про собственные военные приключения.
Скромность? Да вроде бы, на первый взгляд, не его качество. И тем не менее…
Грищинский продолжает: «Мы шагали в будущее непроторёнными дорогами. Сегодня даже не представить себе, как мы тогда ликовали, когда комендант объявлял, что для набивки матрацев привезли свежую солому. Белья постельного не было и в помине».
«В институтском клубе ежедневно играл студенческий джаз-оркестр, и мы все поголовно учились танцевать – кто в специальной школе, а кто самоучкой. Просто удивительно, как сочеталось это несколько наивное увлечение модными танцами с походами на разгрузку барж, жаркими речами на комсомольских собраниях, настойчивым желанием сдать на “Ворошиловского стрелка”».
Помимо джаз-оркестра и танцевальной школы, в клубе были духовой оркестр, кинотеатр, драматический коллектив, университет культуры, кружок стенографии, тир, аттракционы. Обязательно проходили новогодние костюмированные балы и маскарады.
Грищинский: «Какими чудесными были вечера-маскарады! Должно быть, целое костюмированное ателье проката рядом с Казанским собором опустошалось нашими студентами, лишь только объявлялось об очередном вечере».
«Работали лектории – литературный, музыкальный и др<угие> высококачественные, бесплатные и потому доступные для всех».
«Устраивались встречи с писателями и поэтами. Запомнился вечер стихов Н. Асеева, М. Светлова, И. Уткина. Уткин интересно рассказывал о своей жизни, а одет был так ярко, что в шутку студенты назвали его Индюковым. Были и другие встречи – с Б. Лавреневым, Н. Брауном и др.»
И неожиданно упоминает: «Шубин тоже выступал с чтением своих стихов».
Это были первые его публичные выступления.
Грищинский: «Если разобраться, чем жили мы в те годы, то нужно честно сказать, что жили мечтой. Молодёжь есть молодёжь. Нам хотелось и танцевать, и любить, страдать. Были не прочь и выпить после удачно сданного экзамена».
О герценовском институте Шубин напишет несколько блистательных стихов: то время явно заслуживало самого поэтического к себе отношения.
Даже невзирая на происходившее тогда в стране.
Пожалуй, именно благодаря институту, обучаясь с 1935 по 1939 годы, Шубин в известном смысле «пропустит» пик репрессий. Пребывавший пока ещё вне перипетий литературной и тем более политической жизни, не имевший ни должностей, ни связей, живший в общаге, непрестанно читающий, готовящийся к разнообразным экзаменам, подрабатывавший грузчиком, занимающийся боксом, молодой, истово верящий в социализм, безусловно счастливый – он вернётся к теме репрессий только после войны. Эта тема сама его нагонит.
Тогда же на повестке стояло совсем другое.
Грищинский: «Среди студентов тех лет почти не было равнодушных. Были споры, несогласия, ошибки и заблуждения, но так, чтобы плыть по волнам, таких примеров среди нас не было.
<…> к власти пришёл германский фашизм. А кто не понимал, что фашизм – война!
<…>
К военному обучению все относились спокойно. Как-то получалось, что если не занимаешься оборонной работой, то грош тебе цена как комсомольцу и студенту. Значок “Будь готов к труду и обороне” был таким почётным, что на обладателя смотрели как на орденоносца.
В институте было два больших тира. Один находился в подвальном помещении, второй – на чердаке. Каждый вечер под сводами нижнего и верхнего тиров раздавались резкие хлопки выстрелов. Студенты-осоавиахимовцы под руководством инструкторов терпеливо отрабатывали технику стрельбы из малокалиберных винтовок.
Чтобы стать “Ворошиловским стрелком”, надо было извести не один десяток патронов и основательно потренироваться в наводке. Со специальной вышки начиналась и учёба парашютному спорту. Ринуться вниз с вышки на парашюте должен был уметь каждый студент без исключения. Поэтому парашютныхвышек существовало в городе не менее чем полдесятка».
Шубин, ещё в детстве штурмовавший колокольни, с парашютом прыгал неоднократно. Имел значок ГТО.
«…В расписание наше, кроме обычных предметов, вошло и военное дело. Студенты наизусть изучали уставы, русскую трёхлинейную винтовку, овладевали строем».
И снова о Шубине: «Твёрдый характер и отличная физическая закалка выдвинули Павла и в армии. Он оказался на редкость требовательным помкомвзвода, неумолимым службистом. Едва горн на вышке лагеря проигрывал сигнал “Вста-а-в-а-й!”, как Шубин, носивший в петлицах три треугольничка, врывался в палатку».
(Три треугольника означали старшего сержанта.)
«“Гррыщинский! – рычал вбежавший в палатку Шубин. – А ну вылезай на физзарядку. Ещё раз опоздаешь – получишь два наряда вне очереди!” Я вылезал в трусах, босиком и мчался бегом на плац, покрытый утренней росой. “Вот тебе и товарищ!” – мелькала смешанная с чувством обиды мысль.
Однако “гроза” быстро рассеивалась. Через пару часов, на стрельбище, в ожидании своей очереди я ложился за бугорком подремать. В такие минуты ко мне подходил Пашка и устраивался рядом. Обычно мы говорили о поэзии…»
Шубин предельно серьёзно относился ко всему: учёбе литературной и учёбе военной. Он знал, что это и его личное будущее.
И ещё он чувствовал ответственность перед сокурсниками и преподавателями, что уже прошли то, к чему он себя готовил.
О чём отлично напишет в стихах:
- …Но вот этот угрюмый, лобастый
- Человек,
- Что за кафедру встал, —
- Он, тащившийся Нерченским, узким
- Трактом,
- И в двадцать пять, облысев,
- Он поёт с нами и по-французски,
- Задыхаясь, читает Мюссе.
- Что сказать? —
- Разве в Пинских болотах
- Были ночи на отдых добрей,
- Если
- Выдержал сотни походов,
- Там,
- Под шквальным огнём пулемётов,
- Под огнём полевых батарей,
- Томик Пушкина без переплёта
- Вместе с кольтом лежал в кобуре, —
- Что, романтик?
- Так – прочь эту патоку
- Трезвых:
- Сон от зари до зари;
- Наплевать нам на трезвость!
- Гори,
- Наша звонкая,
- Наша романтика,
- Наша молодость, чёрт побери!
Чьи имена в поэтическом смысле были тогда для Шубина определяющими?
Точно не Маяковский: не был тогда и никогда не будет.
Время от времени назывались в литературоведческом разговоре о Шубине имена Багрицкого и Тихонова. Односельчане вспоминают, что этих поэтов, наезжая домой, он мог декламировать буквально часами. Их влияние безусловно присутствовало, но и оно не стало основным.
Говорят также о влиянии поэтики Есенина на Шубина.
Однако есенинское воздействие сразу, с первых же публикаций Шубина, было преодолено.
Шубин вообще пропустил период эпигонства.
Влияние Есенина было скорей опосредованное – через трёх есенинских в самом широком смысле учеников: Ивана Приблудного, Бориса Корнилова и Павла Васильева.
Иван Приблудный (настоящее имя Яков Петрович Овчаренко) родился в 1905 году в Харьковской губернии, в малороссийской станице, успел застать Гражданскую и повоевать.
Борис Корнилов родился в 1907 году в нижегородском селе.
А Павел Васильев появился на свет в городке Семипалатинской губернии, в казахских степях, в 1910 году (по старому стилю – 23 декабря 1909 года).
Разница у всех троих с Шубиным – в возрасте и происхождении – совсем небольшая, но они первыми коснулись ставших ключевыми и для Шубина тем.
Гражданская война, стройки, эпоха свершений.
А также: полуголодная жизнь провинциальная – которая и горечью наделила, и стала великим даром – ведь до их появления из этих уголков в большую Россию, в её столицы не являлся ни один поэт.
А они явились! Ражие, яркие, все красивые, как на подбор. Цепкие, хвастливые, задорные.
Приблудный публиковался с 1923 года, первую книгу выпустил в 1926-м.
Корнилов начал публиковаться в том же 1923-м и первую книгу выпустил в 28-м.
Васильев публиковался в периодике с 1926-го. Несмотря на то что единственная его прижизненная книга вышла в 1934 году, с 1930-го он присутствовал на страницах самых престижнейших, «центровых» советских журналов и газет, явственно претендуя на звание первого поэта нового поколения.
Получалось в итоге, что к моменту, когда заявил о себе Шубин, каждый из них сначала пережил взлёт, а потом и падение, не всегда, впрочем, заметное для стороннего глаза – в том числе для студентов Герценовского института, которым никто, конечно же, не сообщал, что Васильева арестовали ещё в феврале 1937-го, Приблудного – в апреле того же года, а Корнилова – в ноябре.
Но стихи всех троих Шубин отлично знал, помнил наизусть, носил в сердце. О всех троих он был так или иначе наслышан.
Про Васильева и его хулиганские скандалы писали в центральных газетах.
Корнилов из нижегородской своей деревни в 1926 году приехал в Ленинград и славу приобрёл уже здесь. Шубин мог его видеть на поэтических вечерах и точно был знаком с его первой женой – поэтессой и красавицей Ольгой Берггольц: она публиковалась в журнале «Резец».
Приблудный тоже некоторое время жил и даже учился в Ленинграде, когда перевёлся из Высшего литературно-художественного института в Ленинградский университет – правда, это было задолго до приезда Шубина в город на Неве.
У Приблудного Шубин позаимствовал приём самоиронического отстранения. Когда лирический герой смотрит сам на себя со снисходительной улыбкой, как бы заранее понижая пафос. Тем же умением обладал, хоть и в меньшей степени, Корнилов, но у Приблудного этот приём возведён был в основной: тут, кажется, играло роль ещё и его малороссийское происхождение – сами эти, чуть дурашливые, интонации верхнедонскому Шубину, кстати, вполне себе прилично «размовлявшему», были изначально понятны.
Взгляните, к примеру, на эти вот стихи Шубина:
- Это всё же как-то странно:
- Кто же встанет утром рано,
- Чтоб извлечь кусок штанины
- В кипятильнике из крана?
- Кто же, уподобясь гуннам,
- Спляшет, нашего быстрее,
- Перед идолом чугунным —
- Вечнохладной батареей —
- И, во сне увидев лето,
- Свирепея на морозе,
- До упада, до рассвета
- Будет спорить о Спинозе?
- Как смогу на свете жить я
- Без такого общежитья!
И теперь сравните эту интонацию с интонацией (в данном случае уместно сказать – с походочкой эдакой, враскачку, с папироской, зажатой в углу рта) Ивана Приблудного:
- Монреаль, как вам известно
- (а известно это всем), —
- Живописнейшее место
- Для эскизов и поэм.
- Он и в фауне и флоре
- Лучше Африк и Флорид;
- Тут и горы, здесь и море,
- Синь и зелень, и гранит.
- Если б был я Тицианом,
- Посетив эти места, —
- На Венеру с толстым станом
- Я не тратил бы холста.
Или его же:
- Например: вчера, недаром,
- Репортера суетливей,
- Копошился во мне Байрон,
- С «Чайльд-Гарольдом» в перспективе,
- Жоржи Занд во мне галдели
- Мягко, женственно, цветисто,
- И высказывался Шелли
- Против империалистов.
- И сейчас во мне томится
- Что-то вроде «Илиады»,
- Но едва начнёт родиться,
- Как стеной встают преграды.
- И слегка коснувшись лиры,
- Пропадают, бесталанны,
- И Гомеры, и Шекспиры,
- И Гюи деМопассаны…
Оба эти стихотворения из второй книги Ивана Приблудного «С добрым утром» (1931), которая (как вспоминала жена Шубина – Галина) имелась в его библиотеке.
Но ещё больше дали Шубину Васильев и Корнилов.
У них общая моторика стиха – с её повествовательностью и некоторым многословием: когда краски как бы набрасываются с размаху на холст, когда авторы «вытягивают» не по одной словесной рыбе, а сразу сетью – авось, поймается и золотая: если широко закинуть, водорослей и лиственной пади не боясь.
У них общая, почти нарочитая (точно не есенинская) – бодрость подачи. Ставка на преодоление, победительность.
Общий – географический (снова не есенинский) размах – когда поэт хоть в степи, хоть в море, хоть на горе чувствует себя своим, на своём месте.
Сравните, скажем, стихи Павла Шубина о преодолённой беспризорности, путешествиях, стройках, что мы цитировали выше, – с этими стихами Бориса Корнилова:
- Я землю рыл, я тосковал в овине,
- Я голодал во сне и наяву,
- Но не уйду теперь на половине
- И до конца как надо доживу.
- И по чьему-то верному веленью —
- Такого никогда не утаю —
- Я своему большому поколенью
- Большое предпочтенье отдаю.
- Прекрасные, тяжёлые ребята, —
- Кто не видал, воочию взгляни, —
- Они на промыслах Биби-Эйбата,
- И на пучине Каспия они.
Есенин никогда б не стал писать стихов о горах или океанах. У него были «Персидские мотивы», но и те с постоянной оглядкой на рязанский месяц и рязанских кур.
Есенин много прожил в Петрограде, но не оставил, в отличие от Шубина, никакого «ленинградского текста», кроме разве что «Воспоминания» 1924 года, в то время, как у Шубина Ленинград – одна из ключевых тем наряду с казачьей, степной, наряду с орловской, наряду с карельской, наряду с владивостокской (и это не конец и даже не середина списка).
То же самое характерно и для Корнилова, и особенно для Васильева – у которого, как и у Шубина, наблюдается нарочитая географическая щедрость, присутствует и московская тема, и казахская, и казачья (степная), и владивостокская (морская), и сибирская, и много ещё какая.
И те метафорические ряды, что последовательно выстраивали Корнилов, Васильев и Шубин, иной раз делают их стихи родственными до степени смешения.
Борис Корнилов:
- Всё цвело. Деревья шли по краю
- Розовой, пылающей воды;
- Я, свою разыскивая кралю,
- Кинулся в глубокие сады.
Павел Васильев:
- Сначала пробежал осинник,
- Потом дубы прошли; потом,
- Закутавшись в овчинах синих,
- С размаху в бубны грянул гром.
Павел Шубин:
- Там ведут свои стаи на плёсы
- Голоса лебедей-трубачей,
- И бегут по лощинам берёзы,
- Словно вестники белых ночей;
- <…>
У одного – деревья идут по краю воды, у другого – осинник убегает, прячась от дождя, берёзы бегут по лощинам. И как же это всё зримо, как прекрасно.
Животное чувство языка, животная, кровная метафорика роднит всех троих, и объяснение тому, пожалуй, самое элементарное: в детстве у всех троих – ну или у их соседей точно – скотина в доме жила, они знали её тепло и запах, они выбредали из своих изб к первой зелени и радовались ей, как живой, потому что она несла жизнь – и человеку, и зверью. У них общая зрительная, слуховая, обонятельная память.
Борис Корнилов:
- Мы ещё не забыли пороха запах,
- мы ещё разбираемся
- в наших врагах,
- чтобы снова Триполье
- не встало на лапах,
- на звериных,
- лохматых,
- медвежьих ногах.
Павел Васильев:
- У этих цветов был таинственный запах,
- Они на губах оставляли следы,
- Цветы эти, верно, стояли на лапах
- У чёрной, подёрнутой страхом воды…
Павел Шубин:
- А ночь всё плывёт и плывёт. Только глухо бормочет
- Река, выползая на мягких, на бархатных лапах,
- Из старого русла. Да первый взъерошенный кочет
- Горланит и гасит огни в керосиновых лампах.
Ожившая природа (когда деревья ходят или бегут; река не только разговаривает, но и боится; и вместе с тем река, цветы, а то и людские сообщества имеют лапы) ведёт себя схожим, «животным» образом всюду, куда бы этих поэтов ни заносила судьба.
У Корнилова на дыбы встаёт вода, у Васильева дождь идёт горлом, у Шубина вздыбливается солёный морской ветер.
Борис Корнилов:
- За кормою вода густая —
- солона она, зелена,
- неожиданно вырастая,
- на дыбы поднялась она…
Павел Васильев:
- Да, этот дождь, как горлом кровь, идет
- По жестяным, по водосточным глоткам,
- Бульвар измок, и месяц, большерот.
- Как пьяница, как голубь, город пьёт,
- Подмигивая лету и красоткам.
Павел Шубин:
- На серую бухту туманы ложились
- От Чуркина мыса до самой губы,
- С полно́чи росли, поднимаясь, приливы
- И ветер солёный вставал на дыбы.
И такая словесная щедрость у всех троих! Как будто сам язык им по-женски отдался, по-звериному оказался предан, податлив и мягок – как глина в умных руках.
Даже если самым знающим людям прочитать эти стихи и спросить, чьё это – Корнилова, Васильева, Шубина, – уверен, большинство задумается:
- И снова ночь дотла сгорела,
- А я и не заметил – как?
- Гроза,
- Стрельнув из самострела,
- Сползла на брюхе в буерак,
- И дождик,
- Худенький и русый,
- С охапкой ландышей в руках,
- Баштанами и кукурузой
- Прошёл на птичьих коготках.
Прекрасно же? Это Шубин.
…Когда Приблудного, Корнилова, Васильева не стало, Шубин принял их, в жизни не случившееся, рукопожатье.
Понёс горячие русские слова в горсти дальше – в будущее.
Он, конечно же, не знал про их страшные судьбы: всех троих расстреляли. Почти никто в стране не знал – об этом не сообщалось. Большинство думали: ну, сидят где-то.
В тот год, когда все трое утеряли свободу (а потом и жизнь), у Шубина начался настоящий прорыв в литературу.
Если в 1935-м у него были две журнальные публикации (в ленинградских журналах «Звезда» и «Литературный современник» вышло по два стихотворения), в 1936-м – четыре (два раза в «Звезде» и два раза в «Литературном современнике», всего одиннадцать стихотворений), то в 1937-м – вышла его первая книга!
Она называлась «Ветер в лицо». Выпустил её Гослитиздат.
Помимо того, Шубин защитил диссертацию по рассказам вернувшегося из эмиграции писателя Александра Куприна и стал кандидатом филологических наук. Скорей всего, это была первая диссертация по Куприну в СССР.











