Читать онлайн Казань и Москва. Истоки казанских войн Ивана Грозного
- Автор: Павел Канаев
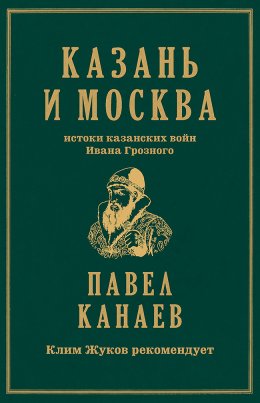
Предисловие
В истории любой страны есть «события-звезды», которые на протяжении столетий приковывают к себе внимание исследователей, деятелей искусства и простых обывателей. В случае с Россией это Ледовое побоище, Куликовская битва, опричнина, реформы Петра Великого – можно перечислять долго. Вехи и впрямь знаковые, но в их густой тени теряется масса всего не менее интересного и важного.
Сложилась подобная ситуация и в тематике русско-казанских отношений. Взятие Казани Иваном Грозным безжалостно перетягивает на себя одеяло общественного внимания. В конце концов, до 1552 года никакого завоевания не было, так о чем тут вообще говорить? В чем черпать фактуру великим творцам вроде режиссера Эйзенштейна, так ярко показавшего штурм ханской столицы? Но ведь не сразу все устроилось, Казань не сразу бралась. Этому предшествовали долгие и непростые исторические процессы. Без их хотя бы общего понимания нельзя полностью осознать смысл того, что произошло в 1552-м.
При этом в историографии русско-казанским контактам до Ивана Грозного уделяется немало внимания. Начиная с 30-х годов прошлого века и по сей день на эту тему выходят монографии, научные статьи, публицистические работы. Зато в массах немногие помнят даже о том, что первым взял Казань в 1487 году Иван III, дед грозного царя. Хорошо хоть данный эпизод нашел отражение в историческом романе «Басурман» Ивана Ивановича Лажечникова[1] и других немногочисленных произведениях.
Отношения же между двумя государствами во времена Василия III для большинства вовсе окутаны туманом, как и в целом фигура этого исторического деятеля, затертая между своими великими отцом и сыном. А ведь Василий Иванович породнился с казанской правящей династией и основал первую опорную базу на восточном направлении, Васильгород (современный Васильсурск), открыто взяв курс на полноценное завоевание волжского ханства.
Впрочем, само по себе все это крайне интересно, но мало о чем говорит «в вакууме». Гораздо важнее иметь представление об экономических, военно-политических, культурных интересах Москвы и Казани, которыми объясняются их действия. Иначе частности легко вырываются из контекста, и мы получаем «кровавую колонизацию Поволжья», «геноцид татар» или же, напротив, казанских рейдеров-кочевников, которые только и жили грабежом русских земель. Удивительно, что даже в научном сообществе подобные заявления нередки. Ни к чему хорошему такие вбросы не приводят, даже когда речь идет о «делах давно минувших дней». Достаточно вспомнить межнациональные конфликты времен крушения СССР, чеченские войны и т. д. Единственное действенное оружие против всего этого – понимание объективного хода истории и истоков тех или иных событий. В частности, казанских войн Ивана Грозного.
Настоящая книга – попытка осветить в популярной манере предысторию вхождения волжского ханства в состав Московского государства. Русско-казанское взаимодействие во второй половине XV – первой трети XVI века рассматривается сразу в нескольких важных разрезах: военном, политическом, дипломатическом и экономическом. Отдельное внимание уделяется причинам усиления московской экспансии в Поволжье, начиная с правления Ивана III, а также с татарских набегов на российские пограничные территории.
Наряду с тематическими блоками в книге дается обзор основных событий в московско-казанских сношениях обозначенного периода. Рассказывается о внутреннем устройстве и особенностях поволжского ханства, сравнивается военный потенциал двух государств.
От данника до Третьего Рима, или Как Москва завоевала завоевателей
Взятие Казани Иваном Грозным – лишь один из эпизодов «завоевания завоевателей», которое начинает в XVI столетии Русское государство. Ближайшие к нему осколки Золотой Орды один за другим признают власть нового «белого царя», а некогда глухой деревянный Мушкаф[2] превращается в столицу значительной части Евразии.
Как же именно «последние стали первыми»: порабощенная рыхлая конфедерация объединилась в могучую силу и сама развернула свою экспансию на Орду? Предпосылки этого процесса, и в том числе казанских войн Ивана Грозного, прослеживаются еще в татаро-монгольском нашествии. Используя модное современное выражение, Бату-хан изначально «заложил атомную бомбу» под татарским владычеством над Русью. Нашествие не только смело с лица земли множество городов и сел, но и подготовило почву для возвышения новых местных центров силы, освоения более передовых сельскохозяйственных технологий и экономических отношений. Все это позволило русским землям накопить достаточные ресурсы, чтобы в конечном счете переломить ситуацию в свою пользу. Тем более Орда слабела и дробилась, давая нарождавшемуся Русскому государству в руки все козыри.
Помимо объективных процессов, сыграла свою роль и историческая случайность: объединителем русских земель вместо Белокаменной вполне могла стать, скажем, Тверь или даже Вильна. Не забудем и о значимости личности в истории. Ведь Иван III «Россию поднял на дыбы и так стоять ее оставил»[3] еще за несколько столетий до Петра Алексеевича, заложив базу будущей империи, а заодно и впервые взяв Казань. Постараемся кратко рассмотреть все эти факторы, пронесшись галопом от Батыевых времен до эпохи Ивана Великого.
Фактор 1. «Атомная бомба» Батыя
Многие древнерусские «мегаполисы» так и не оправились от Батыева погрома, навсегда превратившись в периферию. Им на замену стремительно развивались молодые города, такие как Тверь, Нижний Новгород и, конечно же, Москва, отданная в середине XIII столетия в удел младшему сыну Александра Невского Даниилу.
Пока был жив гроза шведов и немцев, его усилиями сохранялось призрачное подобие единства Северо-Восточной Руси. Как только Невского не стало, началось ее стремительное дробление на «сильные и независимые» княжества. Сыновья Даниила Александровича вдруг осознали свое величие и взяли себе соответствующую титулатуру. Не отстали от них правители Твери, Суздаля, Ростова, Ярославля, которые также записались в великие князья. Такое «самовозвеличивание» имело под собой определенную экономическую почву: оборотной стороной опустошительного татарского нашествия стало постепенное усиление и обогащение феодальной прослойки в новых княжеских центрах. Объяснялось это массовым бегством крестьян с насиженных речных террас, легкодоступных для татарской конницы, на «холмы». Там, на водоразделах, была масса нетронутой земли, которая раньше никак не использовалась в сельском хозяйстве. Да, для ее обработки требовались титанические усилия, а непроходимые леса и девственная целина оказались более грозными врагами Руси, чем монгольские орды.
Однако «Микула Селянинович»[4] в итоге выиграл в этой войне, заслужив звание главного русского богатыря.
Кратное увеличение сельхозплощадей дало возможность развивать более продвинутую агрокультуру – трехполье. С середины XIII века в источниках все чаще начинают встречаться соответствующие обозначения – «озимь» и «ярь». Ранее отрезать от дефицитных прибрежных пашен существенный кусок под озимые культуры, которые требуют массу времени для вызревания и могут померзнуть суровой русской зимой, означало риск голодной смерти. Теперь же смелые аграрные эксперименты приводили к расширению кормовой базы и увеличению прибавочного продукта выросших на руинах домонгольской Руси новых княжеств. А значит, пропорционально росла их военная мощь, которая впоследствии будет обращена против татарских завоевателей.
Несколько иначе сложилась ситуация в Господине Великом Новгороде. Практически не затронутая татарским нашествием, обширная новгородская земля сохранила свою целостность. Разве что от нее откололся «младший брат» Псков, но это была совсем небольшая территория. Новгороду удалось избежать разорения и упадка, царившего в других русских землях.
Казалось бы, вот он – «пламенный мотор» освободительного движения и объединения всей Руси. Но нет, «Афины Северо-Запада» такую ответственность на себя не взяли. Во-первых, Новгороду и так неплохо жилось в сравнении с разгромленными в пух и прах соседями, и вызывать на себя татарский «бич божий» боярская республика вовсе не собиралась. Во-вторых, новгородская земля была крайне неплодородной и сильно зависела от поставок зерна, в первую очередь из Северо-Восточной Руси. Этой ахиллесовой пятой новгородцев умело пользовалась Москва. Так, знаменитый князь Иван Калита девять лет по совместительству княжил в Великом Новгороде, что позволяло ему снимать сливки с балтийской транзитной торговли и оказывать определенное влияние на «город вечевой вольницы».
Фактор 2. Историческая случайность, или По-настоящему эффективные менеджеры
Со времен Ивана Калиты московские князья планомерно шли к царскому венцу и единой независимой державе. Не сидели сложа руки и главы других княжеских центров: первенство Москвы в разное время оспаривали Тверь, Рязань, Нижний Новгород. Но все же не их имена, выражаясь языком Александра Сергеевича, напишут на обломках ордынского владычества.
Период правления Ивана Даниловича Калиты довольно красноречиво описывает Симеоновская летопись, созданная в конце XV века и дошедшая до нас в единственном полном списке XVI столетия:
«Нача Иван Данилович правити. И бысть оттоле тишина велика на сорок лет и пересташа погании воевати русскую землю и заклати христиан, и отдохнуша и починуша христиане от великиа истомы многыа тягости, от насилия татарского, и бысть оттоле тишина велика по всей земле»[5].
Мирный тайм-аут обеспечил экономический подъем Северо-Восточной Руси, и в частности Москвы, куда стекалось население из разоренных татарами пограничных территорий. Дело было не только в покорности московского правителя и его принципе «не лезть на рожон». Иван Данилович первым начал грамотно использовать ордынский фактор для возвышения своего княжества, демонстрируя настоящее «политическое айкидо». Он сумел втереться в доверие к татарам и выступить посредником, который собирал ордынскую дань и с других русских земель, а затем отвозил ее в Сарай. Для татарских повелителей Калита стал надежным партнером, взявшим на себя непростую «коллекторскую» функцию. Надо ли говорить, что выколоченные (зачастую буквально) из соседей деньги отправлялись в Улус Джучи не все, а частично оседали в московской казне?
Полученные «проценты» тратились с пользой для Москвы и во вред ее политическим противникам. Иван Данилович начал активно инвестировать в самое дорогое с точки зрения феодала – земли. Были куплены ярлыки на Галич, Углич, Белоозеро; в 1331 году – присоединена часть Ростовского княжества.
Не менее выгодным вложением стал перенос митрополичьей кафедры из стольного Владимира, казалось бы, во второстепенную Москву. Фигура митрополита играла не только духовную роль: по совместительству он являлся своего рода общерусским министром пропаганды, ведь официальная идеология того времени была неразрывно связана с религией. «Карманный» высший иерарх РПЦ у себя под боком давал московскому князю возможность оказывать идеологическое влияние сразу на все русские земли.
Другая часть собранной «коллекторской комиссии» все равно попадала в Орду – только в виде взяток и подкупов для ханов и татарских вельмож. Главным соперником Москвы в этой «гонке откатов» выступила Тверь, которая также боролась за ярлык на великое княжение Владимирское. В итоге Калита уверенно вырвался вперед, а тверской князь Александр Михайлович был вызван в Орду и казнен ханом Узбеком.
После этого потомки Ивана Даниловича надолго сохранили за собой приоритет на Владимирский стол, хотя попытки братских княжеств перехватить его не прекращались. К примеру, сразу после смерти в Москве Ивана Ивановича Красного и вокняжения его девятилетнего сына Дмитрия (будущего Донского) заветный ярлык сумел получить нижегородский правитель. Но спустя всего два года при помощи митрополита Алексия и московских бояр Дмитрий Иванович вернул себе великокняжеский титул.
Помимо мастерства накапливать и инвестировать богатства, московские князья превосходили всех остальных способностью договариваться. По их инициативе были заключены три межкняжеских договора, последний из которых охватил всю Северо-Восточную Русь. Докончания (договоры) выстраивали своего рода систему коллективной безопасности.
Первое такое соглашение оформилось в 1341 году между тремя сыновьями только что почившего Ивана Калиты. Второе – в 1367 году[6], между великим князем Дмитрием Ивановичем и его двоюродным братом Владимиром Андреевичем Серпуховским. Наконец, в 1374 году состоялся Переяславский съезд с участием восемнадцати князей Северо-Восточной Руси. Формальным поводом для «дружеской встречи» стало крещение новорожденного сына Дмитрия Константиновича Суздальского. В ходе этого мероприятия Москва заключила мирные договоры с Великим Новгородом и Тверью. Вместе с тем сложилась общерусская коалиция, которая уже через год пойдет усмирять нарушившего мир Михаила Тверского, а в 1380 году в несколько усеченном составе схватится не на жизнь, а на смерть с Мамаем на Куликовом поле.
Вот основные пункты этих дополнявших друг друга «докончаний»:
• великий князь Московский признавался главным сюзереном над удельными правителями («первым среди равных»);
• главы уделов были обязаны вступать в войны на стороне великого князя;
• великий князь не мог заключать сепаратные договоры без участия своей «молодшей братии»;
• великий князь мог направить на войну вместо себя силы удельных правителей;
• к военным предприятиям в обязательном порядке привлекались не только княжеские дворы, но и городовые полки (ранее «город» мог отказаться воевать вместе со своим князем);
• все члены коалиции обязывались обмениваться между собой стратегической информацией;
• закреплялось право свободного феодального отъезда бояр внутри коалиции и устанавливался его порядок (компенсации за неоконченную службу при отъезде боярина от одного князя к другому и т. д.);
• упразднялась должность тысяцкого и вводилось главенство великокняжеского воеводы над всеми коалиционными войсками;
• в рамках коалиции назначалась выборная боярская комиссия для решения судебных и спорных вопросов.
«Докончания» не имели силу закона и исполнялись лишь в случае, если это было выгодно всем сторонам. Можно привести массу примеров, когда участники коалиции не приходили друг другу на выручку в борьбе с русскими соседями, литовцами, немцами (тевтонцами) или татарами. Взять хотя бы сожжение Москвы Тохтамышем в 1382 году: отчаянный зов Дмитрия Донского к братьям-князьям о помощи остался без ответа.
С другой стороны, договоры не раз соблюдались союзниками, что приносило им серьезные военные успехи. Это и упомянутый общерусский поход на Тверь, и, конечно же, знаменитое Мамаево побоище. Но главное – московские правители не «плели крамолу брат на брата» настолько увлеченно, как другие Рюриковичи. Злоупотребление многих князей таким кровавым «рукоделием» приводило к ослаблению и дроблению большинства русских земель, в то время как Москва, напротив, оставалась сильной и монолитной.
Фактор 3. Ослабление ордынской хватки
С определенного момента сами ордынцы открывали перед Москвой не простое, а прямо-таки панорамное окно возможностей для освободительной борьбы. Еще в XIII веке от одного упоминания Орды на Руси трепетали все – от князя до смерда. Татары не только подавляли Русь тотальным военным превосходством, но и вели грамотную политическую игру, всячески сталкивали лбами князей. В последующем же столетии засбоила как военная мощь ордынцев, так и их «макиавеллиевская» политика. Дело в том, что в Улусе Джучи началась так называемая великая замятня – золотоордынский вариант «гонки на катафалках». Буквально каждые два года там происходили перевороты и сменялся хан. Золотая Орда распалась на две части, разделенные Итилем (Волгой). Восточной половиной правил хан Араб-Шах (Арабша), западной – эмир-узурпатор Мамай. Не будучи Чингизидом, он не имел законных прав на власть, поэтому сажал на трон марионеточных ханов[7].
Ослабление ордынской хватки сделало возможным сопротивление завоевателям. Русские войска даже начали брать верх в отдельных столкновениях. Помимо растиражированной вдоль и поперек Куликовской битвы, были и другие победы, например, в сражении на реке Воже, хотя в целом Орда еще долго оставалась грозной силой, превосходящей Русь. Уже в 1382 году «головокружение от успехов» Дмитрия Ивановича приведет к тому, что пришедший на смену Мамаю хан Тохтамыш сожжет Москву. Русская земля еще на целое столетие останется татарским данником. Тем не менее произошел качественный скачок в умах людей: стало ясно, что ордынцы – это не кара Божья за грехи, а вполне земной противник из плоти и крови, с которым можно бороться и даже бить его.
Если говорить о политической игре, то в XIV веке шаблонные схемы теряли свою эффективность, а зачастую приносили татарам обратный от ожидаемого эффект. Излюбленный татарский прием стравливания князей между собой, для чего ярлык на великое княжение был пожалован Мамаем в 1375 году Михаилу Тверскому, в этот раз не подействовал. Темник не учел репутацию тверских правителей, трижды приводивших литовцев с огнем и мечом на Русь. Проглядел он и наметившиеся здесь центростремительные тенденции.
В наказание за принятие такого подарка от Орды на тверяков обрушились полки из Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова, Ярославля, Смоленска, Великого Новгорода, десятков удельных княжеств. Одновременно рязанский князь прикрывал южную границу русских земель. Разбитому союзниками Михаилу Тверскому пришлось подписать мирный договор, навсегда отказавшись от ярлыка на Великое княжение Владимирское и обязавшись воевать с Ордой на стороне Москвы. Вместе с тем был назначен межкняжеский третейский судья, которым стал Олег Рязанский. Независимых от кого-либо рязанских Рюриковичей удалось бескровно вовлечь в общерусскую орбиту.
Еще одним просчетом Мамая можно назвать обложение данью русских земель в составе Великого княжества Литовского, с которым Орда заключила союз в преддверии Куликовской битвы. Как результат, на сторону Москвы сразу же перешли Смоленск и Брянск. А требование темником удвоенной дани (как во «времена Джанибековы»[8]) от Дмитрия Донского в конце 70-х годов XIV века поставило Москву в безвыходное положение и только подстегнуло развитие антитатарской коалиции. Во-первых, столь гигантские средства было практически невозможно собрать. Во-вторых, такая выплата узурпатору Мамаю могла привести в недалеком будущем к конфликту с законным Чингизидом, Тохтамышем, который двигался из Самарканда на Волгу.
Фактор 4. Роль личности в истории, или Государь всея Руси
В процессе объединения русских земель вокруг Москвы доставалось как простым смердам с людинами, так и князьям. Вспомним хотя бы многострадального Василия II Темного, который угодил в плен к казанским татарам в битве под Суздалем 7 июля 1445 года, а потом и вовсе был ослеплен своим политическим оппонентом Дмитрием Шемякой. Недаром говорил известный персонаж, что царям (великих князей отнесем туда же) молоко за вредность давать надо.
Тем не менее по итогам его правления Москва приросла Волоколамском, Серпуховом, Можайском, Кубенским уездом. Была сильно ограничена удельная система внутри самой московской земли, резко возрос авторитет ее правителя. Победив в феодальной войне свою «молодшую братию», Юрьевичей, Василий II добился безоговорочного подчинения со стороны оставшихся держателей уделов. Теперь они были готовы запрыгнуть в седло по первому зову великого князя. И все же полноценным Государем всея Руси стал уже его сын.
Именно Иван Васильевич освободил Московскую Русь от позорной дани. С самого начала его правления ордынские выплаты становятся нерегулярными. В московских княжеских договорных грамотах начинает использоваться характерная формулировка: «А коли яз, князь великий, в Орду не дам, то и мне у тебя (удельного князя) не взяти»[9]. То есть отказ от уплаты дани уже трактуется исключительно как решение самого великого князя. Ранее такая дерзость допускалась только в случае, если «переменит Бог Орду».
Подобная перемена в докончаниях вполне могла отражать практическое положение дел. В Большой Орде разгорелась борьба за власть между ханом Махмудом и его братом Ахмадом, и финансовая поддержка любой из противоборствующих сторон стала для Москвы рискованной. Косвенно о прекращении выплат свидетельствует и подготовка масштабного похода самого Махмуда «со всей Ордой» на Русь в 1465 году. К счастью, нашествие сорвалось из-за столкновения сарайского правителя с крымским ханом Хаджи Гиреем. Но настолько крупное военное мероприятие не устраивалось и даже не планировалось ордынцами со времен Тохтамыша, так что причина наверняка была крайне веской. Например, недополученные выплаты. Окончательно же Москва прекратила платить дань татарам после 1472 года, когда войска хана Ахмата потерпели поражение в битве при Алексине.
Снятие «налогового бремени» сделало Москву еще богаче, а значит, сильнее. Крупные княжеские центры – Нижний Новгород, Суздаль, Ярославль, Ростов, Стародуб, Белоозеро – уже не могли противостоять этой силе и один за другим признали власть будущей Первопрестольной. В 1478 году пришел конец вековой новгородской вольнице. Огромный и богатый Господин Великий Новгород капитулировал и вошел в состав Московского государства, став главным земельным донором для масштабных поместных верстаний в пользу служилых дворян и детей боярских. А в 1485 году был покорен еще один извечный антагонист московских князей – Тверь. Расширение Великого княжества Московского и планомерная военная централизация отзывались успехами на международной арене. Так, после великого стояния на реке Угре Русское государство уже окончательно и бесповоротно избавилось от политической зависимости от татар – точнее говоря, Большой Орды. Так что 11 ноября (дата завершения «стояния») Россия вполне могла бы отмечать свой День независимости.
Шли в гору и дела казанские. В 1487 году Иван III послал в ханство большую рать вместе с царевичем Мухаммед-Эмином, буквально взращенным в Москве, чтобы однажды стать ее ставленником на казанском троне. «Того же лета, июля в 20, — сказано в Воскресенской летописи, – город Казань взяли воеводы его, а царя поимали… И князь великий Иван Васильевич царя Махмед Аминя из своей руки посадил на царство в Казани»[10]. До полного завоевания волжского ханства было еще далеко, но установление в нем первого русского протектората стало гигантским шагом в эту сторону.
Не менее благоприятно все складывалось на западном внешнеполитическом направлении. Сперва у Литвы удалось отвоевать Вязьму и мезецкую землю. А по итогам очередной порубежной войны 1500–1503 годов Москве и вовсе отошла без малого треть Великого княжества Литовского – брянские, новгород-северские земли, Чернигов и Гомель. Благоволила удача русским войскам и в короткой Московско-ливонской войне 1480–1481 годов, в результате которой был заключен выгодный для Ивана III мирный договор. Одновременно московские «конкистадоры» вели успешную экспансию на северо-восточном направлении, активно проникая в Пермь и на Северный Урал.
Наряду с ослаблением Орды и освобождением Москвы от дани, достижения времен Ивана III объясняются созданием поместного войска. При всей многочисленности оно в значительной степени обеспечивало себя самостоятельно и минимально нагружало государственную казну. Не менее важным фактором возвышения Русского государства стало формирование бюрократической машины нового типа. Вокруг думных дьяков – предтечи министров – расползались молодой порослью аппараты подьячих и помощников, которые постепенно складывались в отраслевые приказы. Это позволило Москве эффективно курировать вопросы логистики, снабжения, связи, без чего о перечисленных военных успехах и территориальных приращениях оставалось только мечтать. В итоге политический престиж Московской Руси возрос настолько, что западная дипломатия попыталась втянуть ее в борьбу против главной грозы христианского мира – Османской империи. Для этого Папский Престол даже устроил свадьбу овдовевшего Ивана III c Зоей (Софьей) Палеолог, племянницей убитого турками последнего византийского императора. По мнению выдающегося исследователя русского Средневековья Руслана Скрынникова, тогда же и зародилась максима «Москва – Третий Рим», навеянная именно Западом.
В этом контексте интересно письмо 1473 года от венецианского сената московскому правителю с просьбой освободить взятого под стражу посла Тревизано, который направлялся к хану Большой Орды с целью заключить с ним антитурецкое соглашение. В послании разъясняется, что венецианец и не думал натравливать татар на Москву. Напротив, он должен был склонить хана послать войска на Дунай, в Валахию, «в целях подавления общего врага всех христиан, захватчика Восточной империи, которая – в случае, если не будет наследников мужского пола, – по праву принадлежала бы его высочеству (Ивану III) через его светлейший брак»[11]. Своей приторностью тон письма напоминает хвалебную оду вороне из басни Крылова: «Голубушка, как хороша».
Достижения времен Ивана III нельзя поставить в заслугу одному человеку, пусть даже и самому выдающемуся. Гигантское количество усилий нескольких поколений князей, храбрых воинов, дотошных дьяков и, конечно же, «богатыря-пахаря Микулы» перешли наконец в новое качество при первом русском Государе. Но именно он стал скрепой новой Руси, которой было суждено вовлечь в свою орбиту практически все татарские юрты.
Военно-политические аспекты русско-казанских отношений, или Почему доброго соседства не получалось
Не успела Москва окончательно скинуть с себя ордынский аркан и обзавестись «имперским» двуглавым орлом, как уже амбициозно устремила свои взоры на два внешнеполитических направления. Западное заключалось главным образом в борьбе с Польско-Литовским государством. На Востоке же во главе угла стояли отношения с татарскими образованиями, выделившимися после распада Золотой Орды.
Во-первых, куда денешься от соседей? Во-вторых, некоторых из них, точнее говоря Крымское ханство, великий князь Московский пытался вовлечь в альянс против все той же Литвы. Последняя тоже активно искала опору в татарском мире и вступала в союзы с Большой Ордой.
Наиболее ярко расклад «Москва и Бахчисарай против Вильны и Сарая» проявился во время стояния на Угре 1480 года. Тогда внезапный набег крымчан на Подолию не дал великому князю Литовскому Казимиру вступить в военные действия, что во многом предопределило исход событий. В итоге было де-юре и де-факто покончено с московской зависимостью от Большой Орды, которая начала стремительно приходить в упадок, а в начале XVI столетия прекратила свое существование.
Итак, ненависть братьев-мусульман и по совместительству татар друг к другу перевесила неприязнь к литовским и русским кафирам. Крымская династия Гиреев смертельно враждовала с большеордынскими ханами, поскольку обе стороны стремились к гегемонии над рядом бывших юртов Улуса Джучи. Вторым (впрочем, не по значимости) яблоком раздора стали земли, причем не столько для людей, сколько для лошадей и скота. Таврида желала расширить свои степные пастбища за счет большеордынских территорий (в Германии XX века речь бы шла о лебенсрауме, концепции расширения жизненного пространства).
Какова же была роль Казанского ханства для Москвы и, наоборот, Москвы – для Казанского ханства, на всем этом внешнеполитическом театре? По мнению многих исследователей, уже с 60-х годов XV столетия великий князь Московский уделял больше внимания Казани, нежели своему дряхлеющему «повелителю» – Сараю. Постепенно прямой контроль над волжским ханством становится идеей фикс восточной политики окрепшего Русского государства.
Казанским же правителям пришлось довольно быстро оставить «Батыевы» замашки и ухватиться за установившийся паритет с Москвой. Впрочем, и равновесие сил оказалось мимолетным: если сыновья первого хана Улу-Мухаммеда направляли в Белокаменную своих ненасытных баскаков, то уже его внуки были вынуждены сами покориться вчерашнему даннику. Или же искать других сильных покровителей, которые своим клином вышибут московский с «подрайской землицы»[12].
Повторимся, что такое положение дел объяснялось рядом веских экономических (о них будет рассказано в отдельных главах) и военно-политических причин. Обозначим главные из них.
Вероятность сближения Казани с Большой Ордой
На первый взгляд Сарай был так же ненавистен Казани, как и Тавриде. Вражда эта зародилась еще до образования волжского ханства. В свое время представители утвердившейся в Большой Орде ветви Чингизидов сместили будущего основателя казанской династии Улу-Мухаммеда с сарайского трона.
Однако перед лицом общей внешней угрозы объединяются еще вчерашние заклятые враги. Даже крымский и московский правители долгое время действовали в унисон, пусть и таили друг для друга комбинации из трех пальцев в карманах. Так что можно было ожидать каких угодно альянсов.
Отношение Казани к Большой Орде и вправду не отличалось дружелюбием, но официально между ними сохранялся нейтралитет. Волжское ханство не воевало ни вместе, ни против Сарая. Видов на большеордынские кочевья, как считает исследователь С.Х. Алишев, оседлые казанцы, в отличие от крымчан, не имели. Если задуматься, династическая вражда не была таким уж серьезным стоп-фактором для объединения этих двух татарских юртов против Москвы.
Угроза совместных казанско-крымских выступлений против Москвы
С исчезновением общего врага в лице Большой Орды русско-крымские отношения начинают походить на затянувшийся бракоразводный процесс, а Казань становится ребенком, которого бывшие супруги не хотят делить друг с другом. Период с 1507 по 1521 год условно можно назвать холодной стадией конфликта между недавними союзниками. Конечно, локальные набеги крымчан на русские территории и столкновения происходили уже тогда, но до масштабных войн дело пока не доходило. В первую очередь Москва и Крым боролись за влияние над волжским ханством, всеми правдами и неправдами пытаясь привести к власти и утвердить там своего ставленника. Уже первый успех Тавриды на этом поприще – воцарение Сагиб Гирея – вылился в масштабные антирусские выступления и участие казанских войск в опустошительном Крымском смерче[13].
Опасность подпадания Казани под влияние Османской империи
В то время как Москва и постзолотоордынские акулы боролись за гегемонию в Поволжье, свой взор к региону устремил настоящий Левиафан. По одной из версий, в XVI веке турки-османы сами нацелились на объединение под своей дланью всех юртов бывшего Улуса Джучи, что создавало серьезную угрозу безопасности и экономическим интересам Русского государства. Крым стал вассалом Турции еще в 1475 году, а в 1524-м османский протекторат распространился и на Казанское ханство, хотя, к счастью для Москвы, ненадолго. Пока не решаясь на открытое военное выступление против дерзкого конкурента, Турция начала использовать своего крымского вассала как оружие в борьбе с Москвой за Поволжье.
Восточная работорговля и казанские набеги
Еще в 40-х годах XV века казанские татары ни много ни мало осаждали Москву. Со временем наступательная инициатива прочно закрепилась за Русским государством. Но вплоть до самого завоевания волжского ханства при Иване Грозном казанские набеги, как и встречные «визиты вежливости», не прекращались. Русско-казанское пограничье оставалось настоящим фронтиром, о котором впору снимать позднесредневековые «остерны».
Многие татарские мурзы и казаки ходили в грабительские рейды, чтобы захватить «полон», как на промысел. В конце концов, соболей с куницами на всех не напасешься, да и отловить беззащитных русских или литовских крестьян в пограничных районах зачастую было куда легче. Объемы и значимость работорговли для Казанского ханства остаются дискуссионными вопросами в историографии. Подробнее эта тема будет рассмотрена в другой главе. Пока же отметим, что на развитие такой «отрасли казанской экономики» сильно влияла Ногайская Орда.
Нестабильная политическая ситуация внутри Казани
В Казани уже в конце 70-х годов XV века выделяются как минимум две «партии» – восточная и прорусская. Хотя это лишь расхожий историографический конструкт, и партбилетов того времени до исследователей не дошло.
Борьба родов и групп знати являлась постоянным фоном казанской жизни. Эти «партии» искали поддержки различных внешних сил, которые активно вмешивались в дела ханства. Еще хан Махмуд привечал разных татар «от Златыя Орды, от Асторохани, и от Азова, и от Крыма», когда подминал под себя местных булгарских эмиров и подавлял сепаратизм. В результате пришлые ногайские, ордынские, сибирские и крымские феодалы составили восточный блок казанской аристократии.
Ко временам Ивана III это уже не были те кочевники, которые проживали в юртах под бескрайним синим полотном Тенгри. Впрочем, отношение к «оседлым» государствам у многих из них оставалось как при «дедушке» Чингисхане. Они желали иметь полный контроль над Волгой и торговать христианскими рабами на невольничьих рынках Востока.
В противовес этому блоку в ханстве довольно рано формируется промосковская правящая партия. Ее скелет составила коренная казанская знать, которая опиралась на торгово-ремесленные круги, ориентированные на русские рынки. Хотя объединение выражало экономические интересы казанского большинства, его позиции были несколько слабее «восточных» оппонентов. Да и взаимоотношения данного лагеря со своими московскими покровителями время от времени сопровождались «лязгом железа». Прорусски настроенные казанские круги подчеркивали, что служат лишь своему хану. Москва же для них – что-то вроде старшего партнера. Интересы Великого княжества Московского и союзных казанских феодалов то и дело расходились, что приводило к «изменам» и конфликтам.
Сами феодалы могли переходить из одного лагеря в другой в зависимости от ситуации и конъюнктуры. Ханство металось от «сделки с дьяволом» (православной Москвой) в глазах истового мусульманина к полной зависимости от других татарских государств даже в ущерб собственным интересам.
Еще одной причиной нестабильности в Казани была ее территориальная непрочность. Ряд туземных булгарских народов испытывал определенный гнет со стороны правящей татарской прослойки, поэтому существовала опасность их отложения от Казанского ханства. Достаточно вспомнить правобережных черемисов, которые поддержали в 1550 году Москву и не препятствовали строительству на своей территории важной опорной базы – Свияжска. С другой стороны, те же народы нередко уходили «в самоволку» и совершали локальные набеги на русские территории без ведома казанской администрации.
Усиление и феодальная экспансия Москвы
В феодальную эпоху шаткий мир между смежными государствами сохранялся лишь при условии их экономического и военного равенства. В идеале требовался еще и паритет сложившихся вокруг соседей альянсов.
Как только одно государство становилось заметно мощнее другого, оно тут же начинало подминать под себя отстающего «партнера». Таким образом, сильнейший стремился получить для себя экономические выгоды (взимание дани, беспошлинную торговлю), а заодно и создать буфер безопасности.
Не потекли реки вспять и в русско-казанских сношениях. Пока волжское ханство было сильнее, оно доминировало над Москвой. Со времени Ивана III все меняется с точностью до наоборот. Уже в 50–60-е годы XV века[14] Москва прекратила выплачивать казанцам установленную после битвы под Суздалем дань, а вскоре и вовсе начала ответное наступление на восточного соседа.
На свою беду, казанская политическая элита долгое время не замечала очевидного и пыталась сохранить прежние порядки в контактах с Русским государством. Реальная расстановка сил и формальная геополитическая ситуация в регионе вступили в резонанс. Разумеется, такое не могло продлиться долго.
Раздел влияния и взаимные территориальные претензии Москвы и Казани
В 1458–1459 годах Москва совершила ряд походов на Вятку и фактически установила там свою власть. Казанцы же рассматривали эти территории как сферу своего влияния: какое-то время они даже брали с вятчан дань. Сами «лесные люди» хотя и сохраняли до 1489 года номинальную независимость от Москвы, нередко выступали на ее стороне против Казани и Большой Орды. Например, в 1471 году они спустились по Каме и Волге до самого Сарая, пограбили татарские территории и захватили в полон немало народу. На обратном пути их пытались перехватить как ордынцы, так и казанцы, с которыми даже завязался бой. Но бравые вятчане отбились и ушли с добычей восвояси. Неудивительно, что лихие северные «ушкуйники» не давали покоя казанскому хану.
В настоящий политический жупел для Казани вятский вопрос превратился при московском ставленнике Мухаммед-Эмине, который помог великому князю окончательно покорить Вятку. В глазах многих татарских феодалов хан окончательно стал коллаборационистом и русской марионеткой.
Были у Казани свои интересы и в пермской земле, куда также дотянулись длинные руки Москвы. В XV столетии началось активное движение «русских конкистадоров» на северо-восток, которое сопровождалось строительством городов, сел и острогов. Соответственно, Казань лишалась поступления пушнины с этих земель. Обостряло русско-казанские отношения и недовольство черемисов (марийцев) проникновением в их традиционные ареалы обитания по левому берегу Волги русских войск и поселенцев.
Взаимные обиды и историческая память с обеих сторон
Для Русского государства волжское ханство было одной из уменьшенных версий Золотой Орды, а значит, врагом. Не остыла память о разгроме русских войск под Суздалем, пленении Василия II и обложении Москвы унизительной данью. Даже локальные грабительские набеги казанцев зачастую воспринимались как заявление: «1445-й, можем повторить!»
В казанской же картине мира Москва до сих пор оставалась подконтрольной частью Орды. Совсем недавно (в 1432 году) основатель казанской династии Улу-Мухаммед, еще будучи сарайским ханом, лично давал ярлык на великое княжение Василию II. Окончательно разрешить эти экзистенциальные противоречия можно было только естественным для феодализма способом – поглощением одного государства другим.
Противоречия на религиозной почве
Став «Третьим Римом», Москва официально взяла на себя священную миссию защиты всех единоверцев. Любое насилие над православными людьми – будь то угон в рабство крестьян или ограбление купцов на Волге татарами – расценивалось как преступление против самого Господа.
Впрочем, тезис о религиозной подоплеке русско-казанских конфликтов окончательно оформился только в 40-х годах XVI века, при митрополите Макарии. Об этом много говорилось в церковной среде и публицистике. Известный русский «пропагандист» XVI века Иван Пересветов твердил о долге Москвы распространять православное христианство на новые территории чаще, чем Марк Порций Катон – о разрушении Карфагена.
Правда, не стоит переоценивать религиозный фактор в русско-казанских войнах. Несмотря на ряд воинствующих клерикалов, на деле Москва никогда не вела наступление именно на ислам. Некоторые указывают на обращение в православную веру царевича Кудай-Кула, брата плененного хана Алегама, как на нетерпимость Москвы к мусульманской вере. В таком случае Василий III вряд ли выдал бы свою сестру замуж за царевича даже при условии его крещения (а такое условие было необходимо для заключения подобного брака). Да и в источниках указывается, что принятие христианства было инициативой самого Кудай-Кула.
В Великом княжестве Московском всегда находилась масса служилых мусульман, например касимовские татары[15]. Сообщения крымчан в Стамбул о том, что русские якобы притесняют адептов ислама и рушат мечети в Казани, на деле не находили подтверждения.
Разумеется, религиозная составляющая имела большое значение для людей того времени и вносила свою лепту в том числе в развитие русско-казанских контактов. Но, как и в случае с Крестовыми походами, в реальности она служила идеологической ширмой для удовлетворения политических и экономических интересов разных сторон.
Если же взглянуть глазами правоверных казанцев, Москва являлась царством кафиров. Во многом преимущество восточного блока казанской знати над прорусским объяснялось тем, что первый педалировал общность братьев-мусульман. Он выступал за союз с исламскими странами и Казанским ханством, а также за борьбу с христианским Русским государством. Такие лозунги сильно воздействовали на религиозное и национальное самосознание татар. Показательно, что на закате существования самостоятельного волжского ханства казанцы в своих посланиях в Крым подчеркивали именно религиозный характер войн с Москвой: «Паки те врази наши на войне нас победят, и мы тем раю достойны быти, с такою надежею жили есмя истиннаго Бога судьбами»[16].
Дипломатический аспект русско-казанских отношений, или Новый Вавилон против старого
Войны гремят так громко, что зачастую заглушают речи дипломатов на страницах истории. Вот и присоединение Казани к Русскому государству воспринимается многими исключительно как завоевание, да еще и по цезаревскому принципу veni, vidi, vici. Будто только и были что осада со штурмом столицы волжского ханства в 1552 году, решившие все в пользу Москвы. На самом деле вхождение Казани в русскую орбиту – многолетний процесс, бóльшую часть времени в котором занимали дипломатия и «подковерные игры».
Да и в целом посольский обычай играл для обоих государств не меньшую роль, чем ратное дело. Пока в облаках пороха, грохоте орудий и свисте сабель расширялись пределы Московской Руси, в велеречивых тирадах послов и дипломатической переписке завоевывалось ее признание на международной арене. Даже преобразившийся «волею всемогущею» облик самой Москвы ярко выражал ее новую, имперскую, доктрину.
Если московская дипломатия возводила «новый Вавилон», татарская отчаянно пыталась удержаться за старый. Посольский обычай Казани, Крыма, Большой Орды, ногаев являлся прямым продолжением золотоордынской традиции. Нередко это невыносимое русскому слуху эхо из Батыевых времен сводило на нет результаты долгих и напряженных переговоров и даже разжигало новые конфликты. При этом многие формулировки татарских «дипломатов» того времени навевают крылатое: «Восток – дело тонкое». Словом, дипломатический аспект русско-казанских отношений второй половины XV – первой трети XVI века крайне многогранен и достоин отдельного рассмотрения.
Дипломатия Казанского ханства: эхо Золотой Орды
Главная проблема в изучении посольского обычая и международных связей Казанского ханства заключается в том, что обозревать тему приходится «из Москвы». Если точнее, «из палат Посольского приказа» и «келий монахов-летописцев». Львиная доля доступных российскому исследователю источников по истории Казани и ее контактов с внешним миром – отечественного происхождения.
Конечно, картину несколько дополняют литовские летописи и переписка. Интересные сведения содержатся в посланиях казанского хана Сафы Гирея польско-литовскому правителю Сигизмунду. Сообщает кое-что и западный нарратив, например знаменитый австрийский «инкор» Сигизмунд Герберштейн в своих «Записках о Московии». При всей значимости этих памятников массовая доля информации по теме в них не так велика. Да и сведения нарративного характера, как обычно, приходится «делить надвое», если не натрое.
Существует довольно обширный корпус турецких дипломатических документов и переписки, которые наверняка позволили бы взглянуть под новым углом на многие вопросы. К сожалению, данные источники вводятся в научный оборот крайне дозированно. А «штурм» турецких архивов – если и не взятие Измаила, то непростая боевая задача для российских исследователей.
Да и с русскими источниками вышло недоразумение. В 1701 году вся посольская документация по связям Русского государства с волжским ханством сгорела во время пожара в архиве приказа Казанского дворца в Москве. Хорошо, что немало сведений по московско-казанским контактам содержится в сохранившихся посольских книгах по связям с Крымом, Османской империей и Ногайской Ордой. Но это лишь малые крупицы сведений в сравнении с иссушенным московским пожаром морем актового материала непосредственно по рассматриваемой теме.
Другая причина, почему казанской дипломатии второй половины XV – первой трети XVI века уделяется не так много внимания в историографии, – отсутствие каких-либо революционных изменений. Как уже упоминалось, Казань следовала в фарватере постзолотоордыского посольского обычая. Хотя это не значит, что волжское ханство не вело дипломатическую игру и никак не реагировало на актуальную геополитическую повестку.
Что же представляла собой в общих чертах дипломатия Казанского ханства? Как и в большинстве восточноевропейских государств того времени, она носила оказионный характер. То есть казанцы не имели постоянных посольств в странах назначения, а направляли туда своих представителей по мере необходимости. При этом в источниках отсутствуют сведения о наличии в ханстве отдельного госоргана наподобие посольского приказа, который курировал бы данное направление. Оно находилось в ведении самого хана, а также отдельных представителей знати и духовенства.
Активное участие последнего в дипмиссиях – еще одна отличительная черта казанского посольского обычая. Высшее духовное лицо казанцев, сеид, нередко возглавляло посольства и выступало едва ли не основным внешнеполитическим актором в ханстве. К примеру, в начале XVI века большую роль в русско-казанских отношениях играл сеид Шах-Хуссейн. В своих письмах астраханскому правителю крымский хан Мухаммед Гирей обвинял этого «потомка пророка Мухаммеда» в явных симпатиях к Русскому государству. Вероятно, Шах-Хуссейн являлся одним из тех самых «пламенных моторов» прорусской казанской «партии». Входили в посольские миссии и мурзы, кадии, различные дворовые чиновники.
В части международного церемониала большое значение для казанцев имели поминки, или, другими словами, дипломатические дары. Вслед за тюркско-монгольской традицией подобные подношения зачастую воспринимались татарами как признак зависимости одного государства от другого. В западной же и русской парадигме это были лишь знаки расположения и дружеских намерений. Такое несовпадение взглядов сыграло особо злую шутку в отношениях Москвы и Тавриды, поэтому вопрос поминок будет более подробно рассмотрен в главе о русско-казанско-крымской дипломатии.
Если говорить о круге дипломатических связей Казани, то он также оставался традиционным в рассматриваемый период. В первую очередь это контакты с другими «осколками» Золотой Орды – Крымским и Сибирским ханствами, Ногайской Ордой, Астраханью. Взаимоотношения с ними складывались непросто, союзы сменялись войнами, а локальные конфликты или нападения отдельных феодалов могли происходить и в периоды дружбы на уровне государств. Тем не менее с татарскими соседями не прекращался обмен посольствами, заключались династические браки. Это касается и Крыма, и Ногайской Орды. Мать будущего казанского хана и московского ставленника Мухаммед-Эмина вышла замуж за крымского правителя Менгли Гирея. Как хан Алегам, так и Мухаммед-Эмин были женаты на дочерях высших ногайских биев.
Некоторые исследователи полагают, что отдельные соглашения Казани с ногаями касались вопросов татарского «международного эйчара». В источниках то и дело всплывают сообщения, что казанцы «разослали в ногаи» русских пленных. Вероятно, это было связано с определенными финансовыми договоренностями, которые регулировали совместную работорговлю.
Сношения же Казани с Крымом колебались от полного паритета до открытого объявления волжского ханства «крымским юртом». Впрочем, вопросы дипломатии между Казанью, Крымом, Москвой и Ногайской Ордой рассмотрим отдельно.
Что касается Сибирского ханства, то контакты с ним во многом определялись все тем же пресловутым ногайским фактором. По крайней мере, пока сибирские цари из династии Шибанидов (Ивак, Мамук) являлись по совместительству еще и ногайскими правителями. После того как Иван III установил московский протекторат над Казанью и посадил там на трон своего ставленника, многие ногаи и представители сибирской элиты так и не смирились с ростом русского влияния в Поволжье. Они начали оказывать давление на Казань и всячески поддерживать восточную (антирусскую) партию казанской аристократии. Многие подданные и сторонники сверженного в 1487 году Алегама (Али-хана) бежали в том числе в Тюменское ханство. Неудивительно, что отношения Тюмени с Москвой и прорусски настроенной частью казанского «истеблишмента» становились все более враждебными. Еще в 1490 году Мухаммед-Эмин сообщал в своей грамоте Ивану III: «Ивак, да Мамук… еже лет на меня войной приходят».
Подобно крымчанам, сибирские правители грезили доминированием в Поволжье, а их главенство (пусть и чисто номинальное) над многочисленными и лихими ногаями дополнительно подпитывало эти претензии. Апогеем конфликта стал поход сибирско-ногайского царя Мамука в союзе с мятежными казанскими князьями на волжское ханство в 1496 году и свержение Мухаммед-Эмина. Впрочем, ничем хорошим для Мамука эта авантюра не закончилась, а московский ставленник (хотя и в другом лице) вернулся на казанский трон в том же году. По некоторым версиям, лед между казанцами и сибиряками несколько подтаял в самом начале XVI века, чему способствовали общие экономические интересы в Перми Великой. Дело в том, что Иван III послал туда своего наместника и наложил на эти земли ясак. Между тем виды на пермские территории были как у сибирских Шибанидов, так и у Казани. Тюменский хан Кулук-Салтан (сын Ивака) напал на русских ратников в Прикамье и Усолье и побил их, а вскоре после этого казанцы с ногайцами вторглись в Великое княжество Московское и осадили Нижний Новгород. Как считает А.В. Аксанов, действия казанцев, ногайцев и тюменцев были согласованы. Якобы имел место казанско-сибирский договор о разделе сфер влияния в Перми и совместных выступлениях против Москвы.
Подобная версия вызывает массу вопросов. Сибирские нападения на русских людей в Прикамье и Усолье носили локальный характер и едва могли бы существенно помочь казанцам и ослабить Москву. Сомнительно и то, что Сибири с Казанью удалось бы вместе «съесть пуд прикамской соли» и по-братски разделить влияние в регионе. «Готовность к сотрудничеству» сибирских татар в полной мере показали действия Мамука в тот короткий период, когда он взял власть в Казани в 1496 году. Прямое разграбление местного населения и многократное взвинчивание налогов привели к тому, что сами казанцы тут же ополчились против сибирского «партнера» и покаялись перед великим князем Московским. Можно, конечно, предположить, что Кулук-Салтан был менее скаредным, чем его дядя. Но верится в это с трудом.
Имела Казань дипотношения и с Астраханским ханством, с которым в основном поддерживался мир. Астраханцы то и дело оказывали определенную военную помощь казанцам в различных конфликтах.
Абсолютная дипломатическая тишина сохранялась лишь между Казанским ханством и Большой Ордой. Повторим, в целом эти татарские государства оставались сугубо враждебными друг другу по вышеописанным причинам. В источниках не встречается сведений об обмене посольствами между казанцами и большеордынцами, как, впрочем, и о каких-либо военных столкновениях.
Развиваются с начала XVI столетия и дипсвязи Казани с Османской империей через посредство Крыма. Дойдет до того, что в начале 20-х годов на казанский престол взойдет дядя султана Сулеймана Великолепного, крымский царевич Сагиб Гирей, а в 1524-м волжское ханство вовсе объявят вассалом Турции. Этот эпизод по-разному оценивается в историографии: от полного и фактического подчинения ханства османам до чисто формального акта, не имевшего никаких реальных политических последствий. К счастью для Москвы, период турецкого главенства над Казанью продлился недолго.
Общалась Казань и с западным миром, в частности с Великим княжеством Литовским. Особенно казанско-литовская дипломатия оживлялась в периоды обострения отношений каждой из сторон с Русским государством. Литва всячески старалась натравить волжское ханство на Москву, и казанцы отвечали западным партнерам полным «алаверды». Например, в 1506 году Мухаммед-Эмин втягивал литовцев в русско-казанский конфликт, в разы преувеличивая потери московских войск. Как писал хан, у него «в руках померло» десять тысяч русских воинов. Похожий посыл несли и встречные грамоты в Казань относительно победы сил Литвы в битве на Орше:
«Мы, воземъши Б(о)га на помочь, сами с нимъ великии ступъныи бои мели и зь Божее помочи воиско его все на голову поразили… и воеводы и кн(я)зи и панове его радны многи намъ в руки впали… Про то навпоминаемъ тебе, брата нашего, абы ся еси с тымъ неприятелемъ нашимъ московскимъ не мирилъ, а нам бы еси былъ приятелемъ и посполу с нами на того неприятеля нашого былъ заодинъ»[17].
В 1506 году, в разгар русско-казанской войны, к великому князю Литовскому Александру прибыли послы от хана Мухаммед-Эмина, которые чуть позже присутствовали на коронации уже Сигизмунда в Вильне. Литовцы встретили гостей из Поволжья с распростертыми объятьями. Казанскому представителю Хакиму Берди вручили в дар скакуна, две шубы, отрезы сукна. В свою очередь, новый польско-литовский правитель отправил в волжское ханство посла по фамилии Сорока. Он вез поминки (сукно, серебряную чашу и 13 локтей аксамита) уже непосредственно хану. Увы, никаких вестей из Казани Сорока «на хвосте» принести уже не смог, так как скончался прямо в столице ханства, вероятно, по естественным причинам. Дальше «протоколов о намерениях» создать военный альянс против Москвы дело тогда не двинулось, хотя эта тема так и оставалась лейтмотивом всей казанско-литовской дипломатии.
Литва даже вмешивалась во внутренние дела Казани, подыгрывая Крыму. Так, Сафа Гирей, занявший казанский престол после свержения и убийства очередного московского ставленника Джана-Али, вовсе признавал главенство Сигизмунда II Августа. Еще будучи крымским царевичем, Сафа не просто называл себя «сыном» Сигизмунда, но и обещал оказывать ему всяческую помощь в борьбе с Русским государством. Вполне возможно, так ставленник Тавриды платил за содействие в утверждении его на казанском троне в 1524 году.
Интересно, что в своих письмах уже конца 30-х годов XVI века хан продолжает называть Сигизмунда «отцом», хотя на деле никакой политической зависимости Казани от него не существовало. Такие «реверансы» подчеркивали верность Сафы Гирея данному им слову быть «приятелю вашей милости приятелем, а неприятелю – неприятелем». Разумеется, развитие казанско-литовских контактов являлось производной от возраставшего влияния Крыма на волжское ханство. С 1512 года Таврида и Литва все чаще действуют сообща против Великого княжества Московского.
Если же взглянуть в целом на дипломатию Казанского ханства, то она пыталась балансировать между разными силами подобно искусному канатоходцу. Но в реальности уже с конца XV века скорее походила на флюгер, вращающийся под дуновением разных внешнеполитических порывов то в одну, то в другую сторону.
Статус Русского государства: «А мы как есть… от Августа-кесаря»
«Исполин-младенец» – таким оксюмороном охарактеризовал Иван Иванович Лажечников Русское государство времен Ивана Великого. Трудно выразиться более емко: нарождавшаяся империя и вправду только вчера скинула с себя пелену раздробленности и политической несамостоятельности. «Взросление не по дням, а по часам» задавало определенный вектор развитию русской дипломатии.
То, как в Москве придирались к каждой запятой в грамотах иностранных послов и указывали им на дверь из-за цвета печати на документе, сегодня многим покажется странным. Но дело здесь вовсе не в «нарушении фирменного стиля»: нередко какая-нибудь мелкая деталь доходчивее любых слов выражала отношение одного правителя к другому. Если, скажем, в XVIII столетии даже на определенные огрехи в царской титулатуре иногда смотрели сквозь пальцы, то на стадии становления единой державы мелочей не было. Любая «ошибка» становилась опасным прецедентом. Подписанный по невнимательности документ, где в формулировках принижен статус монарха или не указаны подконтрольные ему земли, мог привести к войнам, территориальным претензиям и многим другим неприятностям. Следили московские дипломаты не только за текстами посольских грамот, но и за собственными словами. Порой какие-то невнятные для современного человека «заклинания» (скажем, «царево слово на голове держу») настолько роняли престиж страны и ее государя, что сознательный посол где-нибудь в Бахчисарае отказывался произнести такое и под страхом смерти.
Подобная самоотверженность дипломатов вкупе с ростом могущества их правителя приносила свои плоды. Вторая половина XV – первая треть XVI века отмечены полосой признания Великого княжества Московского значимой державой в глазах всего известного мира. Даже тогдашний «сотрясатель вселенной», османский падишах, назвал великого князя братом, то есть равным. Этот термин стал ключевым для московских правителей, которые «братались» с самыми сильными монархами Запада и Востока. Поэтому когда в 1489 году прибывший в Москву австрийский посол посулил Ивану III пожалование королевским титулом от императора взамен на вступление в антитурецкую лигу, ответ великого князя был однозначным. Он вольный самодержец по «Божьему произволению», и назначений от кого-либо еще «высочайшее небесное начальство» не потерпит. Ведь принять предложение императора означало признать вассальную зависимость от Габсбургов.
И без их ненужных милостей титулатура московского правителя постоянно набирала вес по мере присоединения все новых княжеств к его государству. Еще в 90-е годы XV – начале XVI века она включала порядка девяти пунктов: великий князь Владимирский, Московский, Новгородский, Тверской и т. д. Уже при Василии III список увеличился до 21 территории и «иных земель». Все это скрупулезно указывалось на великокняжеской печати и в государственных документах, выражая статус страны на международной арене.
Еще одним «дипломатическим аватаром» крепнувшей державы стал изменившийся облик самой Москвы. При Иване III на месте обветшалой белокаменной крепости времен Дмитрия Донского вырастает настоящий уголок Милана – возведенный итальянскими зодчими кирпичный кремль. Перестраивается великокняжеский дворец, создается роскошная Грановитая палата. В ней начинают принимать послов, которые в обязательном порядке проходят через знаменитый портал, украшенный единорогами и двуглавым орлом. И действительно, после долгого пути по безлюдным просторам «Московии», непритязательной деревянной архитектуры ее городков и деревушек для иностранных представителей все это было как телепорт в другое измерение.
Словно на дрожжах вырастает комплекс кремлевских храмов, полностью сохранившийся до наших дней. Идет активное каменное строительство и за стенами Кремля. Начиная с 70-х годов XV века в будущую Первопрестольную караванами едут итальянские архитекторы, последние из которых покинут Русское государство уже в 1530-х. В период регентства Елены Глинской строятся укрепления Китай-города, что расширяет пределы тогдашнего «Москва-сити» (непосредственно городом назывались укрепленные районы, в то время как остальная территория обозначалась термином «посад»). Такое преображение столицы служило презентацией величия молодого Русского государства не только для собственных подданных, но и для зарубежных гостей.











