Читать онлайн Новеллы
- Автор: Токуда Сюсэй
- Жанр: Современная русская литература
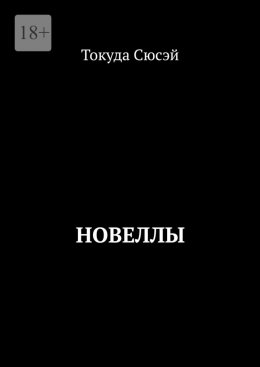
Переводчик Павел Соколов
© Токуда Сюсэй, 2025
© Павел Соколов, перевод, 2025
ISBN 978-5-0067-0407-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Сюсэй Токуда: мастер психологического реализма в японской литературе
Сюсэй Токуда (1 февраля 1871— 18 ноября 1943) – один из ключевых представителей японского натурализма и психологического реализма конца XIX – начала XX века. Его творчество, находящееся на стыке традиционной японской эстетики и западного литературного влияния, отличается глубоким анализом человеческой души, социальной критикой и вниманием к повседневности. В отличие от своих современников, таких как Нацумэ Сосэки или Мори Огай, Сюсэй сосредоточился на изображении внутреннего мира «маленького человека», что делает его произведения особенно ценными для понимания эпох Мэйдзи (1868—1912), Тайсё (1912—1926) и первых десятилетий Сёва (1926—1989).
Он родился в Канадзаве, в семье самурая, что во многом определило его интерес к социальным изменениям в Японии после Реставрации Мэйдзи. Начав литературную деятельность под влиянием западных авторов (в частности, Эмиля Золя и Гюстава Флобера), Сюсэй быстро выработал собственный стиль, сочетающий натуралистическую достоверность с лирической глубиной.
Его ранние произведения, такие как «Новый дом» (1908), отражают интерес к семейным драмам и конфликту между традицией и модернизацией. Однако настоящую славу ему принес роман «Плесень» (1911), где с беспощадной правдивостью показана судьба людей, раздавленных урбанизацией и социальным неравенством.
Сюсэй избегал романтических идеализаций, предпочитая показывать героев в моменты слабости, сомнений и бытовых страданий. Его персонажи – не герои, а жертвы обстоятельств, что сближает его с Чеховым и Достоевским. В отличие от европейского натурализма, который часто тяготел к физиологическим описаниям, Сюсэй сохранял тонкость японского восприятия. Его пейзажи и интерьеры не просто фон, а отражение душевного состояния героев.
Токуда Сюсэй не получил такой всемирной известности, как Кавабата или Мисима, но его вклад в развитие японской литературы трудно переоценить. Его традиции прослеживаются в творчестве Дадзая Осаму и даже Харуки Мураками, который также исследует одиночество в современном мире.
В его творчестве можно обнаружить черты, роднящие его с современным автофикшеном – жанром, в котором авторская биография переплетается с литературной условностью. Хотя термин «автофикшн» (autofiction) возник гораздо позже, в работах Сюсэя уже прослеживается характерное для него смешение личного опыта и художественного обобщения.
Как и многие писатели-натуралисты, Сюсэй использовал собственную жизнь как материал для творчества. И читатель сможет убедиться в этом на примерах новелл, вошедших в этот сборник. В данную книгу вошли поздние произведения автора, написанные им в конце его довольно долгой жизни. Ведь творить он начал еще в эпоху Мэйдзи, а закончил в годы Второй мировой войны!
Сюсэй не стремился к полной автобиографичности, но и не скрывал, что многие сюжеты взяты из жизни. Это намеренное размывание границ между фактом и вымыслом – ключевой признак автофикшна и японской эгобеллетристики. Писатель показал, что правда жизни может быть сильнее вымысла, даже если она подается через художественное преломление.
Это первое издание произведений японского классика на русском языке. И советские переводчики, и современные российские почему-то обходили стороной его творчество. Да и литературоведы не жаловали мэтра. Что ж, пришло время исправить эту несправедливость.
Павел Соколов
Ночь после толчков
Среди ночи, когда я уже погрузился в сон, новый подземный толчок поднял на ноги весь дом. В полудрёме я ощутил сильное качание, но не мог определить его силу. Ещё до Кантского землетрясения мне часто казалось, будто земля шевелится подо мной, когда я сижу. Конечно, это было лишь игрой нервов – либо моё тело бессознательно покачивалось, либо начиналось лёгкое головокружение. Но ощущение, будто земля постоянно движется, не покидало меня.
Один сейсмолог высмеивал перепуганных горожан, которые из-за невежества спали на улицах, боясь афтершоков. Но когда толчки не прекращались, оставаться в ветхих домах было действительно страшно. Да и может ли наш трёхтысячелетний опыт дать хоть какое-то понимание вечной жизни Земли? Хотя мы всё равно как-то живём. Тревога и страх лишь подчёркивают радость существования.
Когда я встал, жена и младший ребёнок ещё лежали на постели. Во время катастрофы меня не было дома. Супруга, оставшаяся с детьми, встретила меня через две недели без особой радости. Её грызла обида, что я не разделил с семьёй эти страшные дни. Её братья, друзья, соседи помогали, как могли, но отсутствие хозяина в эпицентре катастрофы, должно быть, сводило с ума её истеричную натуру.
«Может, поэтому мне и удалось справиться», – говорила она. Но я знал, как она злилась из-за моего опоздания. Возможно, она даже хотела, чтобы я испытал на себе ещё более жуткие толчки.
Я схватил маленькую Харуко и выскочил на веранду. Жена не шелохнулась – её тело было слишком измотано. Распахнув дверь, я по очереди выводил детей во двор, нашёл гэта и спустился сам. Мы собрались между старым гранатовым деревом и огромным кулапом.
«Как сильно!» – кричали старшие сыновья, пробираясь из заднего флигеля мимо трёхэтажного соседского пансионата.
Там же жили две семьи пострадавших – супруги Т. и S. Они вышли через другой выход.
«Пока рано успокаиваться», – усмехнулся г-н Т.
«В последнее время трясёт только по ночам – хуже не придумаешь», – добавил г-н S.
«Всё-таки надо собирать вещи у постели», – говорила жена с их жёнами.
«С наступлением холодов будет ещё труднее».
Тут подошла ещё одна пара. Его новая жена – вдвое моложе – недавно еле добралась до нас и родила под гранатовым деревом. С осложнениями её увезли в больницу.
Наш дом, и без того ветхий, устоял благодаря крепкому фундаменту. Треснула старая стена в токонома, прохудилась крыша. Вернувшись из поездки, я метался: то хотел обустроиться здесь насовсем, то мечтал переехать. Сначала руины казались драгоценными, но со временем стали раздражать.
Особенно бесил трёхэтажный пансионат на юго-востоке. Он нависал над нашим домом, загораживал солнце, мешал ветру. Деревья сохли, нижние ветви облетали – для человека, любящего природу, это было мучительно. Вокруг вырастали двухэтажки, а наш одноэтажный дом тонул в яме.
Я боялся землетрясений и ненавидел многоэтажки. В молодости, когда жизнь не была так дорога, они не пугали меня. Но однажды в отеле «Розетта» в Сибауре я услышал, как балки скрипят и вот-вот рухнут. Простояв у лестницы, и не решаясь спуститься, я, в итоге, стал трусом. С годами и ответственности прибавилось.
Стоя под гранатовым деревом, я смотрел на жалкий дом. Небо хмурилось, земля дышала. Наш обветшалый дом с тяжёлой крышей казался готовым рухнуть при первом же толчке. Простой, аккуратный, он когда-то нравился мне, но теперь прогнил и еле держался. Во дворе не осталось ничего живописного. Из окна трёхэтажки напротив лился свет. В темноте казалось, будто здание накренилось на пять-шесть сун в нашу сторону.
«Вам бы подпорки поставить», – г-н S смотрел на дом.
«Да, и черепица вот-вот упадёт…»
«Можно крышу железом покрыть».
Многие ставили подпорки, даже если дом не пострадал.
«Я и сам могу это сделать», – сказал г-н S, немного разбирающийся в строительстве.
«Хорошая идея», – согласилась жена.
Меня это тоже заинтересовало, но в итоге я, как всегда, отложил подготовку к чрезвычайным ситуациям. Мысль, что мне, как и другим домовладельцам, придётся заботиться о протекающей крыше и гнилом заборе, угнетала.
Разрушение жизни, полной осадков и плесени, пугало меня больше, чем сами землетрясения.
«Выпьем чаю».
Нам не хотелось расходиться, и я пригласил всех в гостиную. Старик заварил чай. Жена достала солёные крекеры из жестяной коробки и поставила на стол корзинку с булочками.
Я снова заговорил о жилье, хотя вряд ли они могли что-то посоветовать. Недавно я присмотрел участок в далёком пригороде, но расходы будут тяжким бременем. Жена была против. Я настаивал, ведь скоро придется бороться с возрастом.
Увы, сейчас переезд нам не по карману. Да и её не устраивала жизнь в глуши.
Она не любила сельские дороги, переполненные поезда, леса и поля. Покинуть привычный город, дом, где умер наш ребёнок, означало проститься с прежней жизнью.
Во мне тоже росла нерешительность. Тоскливо вспоминались городские улицы, то хотелось осесть здесь. С детства я не знал стабильности, и эта бродяжья натура мешала решиться.
«Если бы этот трёхэтажный дом рухнул…» – усмехнулся я.
«Страховку получили бы – двойная выгода», – подхватил юрист г-н Т.
«Надо было покупать другой дом», – съязвил старший сын.
«Но разве не благодаря ему у нас есть крыша над головой?» – возразила жена.
«Если бы тогда переехали, не пришлось бы цепляться за это место».
«Но это ради вас!»
«Мы тут не задержимся. Уедем в Мексику или Бразилию. Япония – нищая страна…» – старшеклассник раскачивался, сидя по-турецки.
«Но нельзя же бросить стариков в опасности».
«Потому и говорят о переносе столицы. Если бы не политика сёгунов, Япония расширила бы границы».
«Может, перенести столицу на запад?»
«Это сложно».
«Как и наш переезд», – добавил старший.
«Сколько ещё мы продержимся вместе?» – вздохнула жена.
«Детей жалко».
«Что поделаешь».
«Хочется, чтобы дочери вышли замуж недалеко. Мальчикам легче».
«Дети не могут вечно жить с родителями».
«Может, Мицуко повезло, что умерла…»
«Потому и хочется быть вместе».
«Нельзя жить в страхе перед землетрясениями».
Разговор зашёл о старухе Имура, которая хвасталась, что спасла все вещи.
«Удивительная старуха!» – смеялся г-н Т.
«Она меня бесила», – сказала жена.
Одинокая Имура, жившая в бедной съёмной комнате, иногда навещала нас. Она была связана с моим старым другом Такэо, который в юности жил у неё. Потом их отношения стали бременем для его семьи.
Во время катастрофы я представлял, как она тонет в грязном пруду. Но однажды она сама пришла к нам.
«Какая стойкая!» – удивлялся я потом.
Она ночевала под открытым небом, пробиралась через толпу, хвастаясь, что спасла вещи.
«Старухи выжили, а молодые гибли», – заметил г-н Т.
«Кто знает, сколько страданий она принесла».
«В следующий пожар оставим бабушку!» – крикнул второй сын.
Наша старуха была добра, но столь же неприятна, как Имура. Она работала без устали, засыпала на ходу, но всё равно шила до ночи. Всё делала дотошно, даже если это не имело смысла.
Мы заставляли её работать, воспитывая детей. Она ворчала, спорила, сгорбилась, как ива, но я не мог простить её чёрствости.
Моя жена и она, обе больные, будто боролись за выживание. Старуха не понимала переживаний за дочь, жена злилась на её долголетие.
«Каждый хочет жить, но в критический момент родители спасают детей, жёны – мужей», – сказал я.
«А что важнее – погибнуть вместе или спастись?» – спросил г-н Т.
«Выжившим тоже несладко».
«Лучше умереть вместе. Но за старуху – нет», – сказала жена.
Старуха дремала, улыбаясь.
«Мы тебя спасём», – ласково сказал старший сын.
Я снова почувствовал лёгкий толчок. Мы посмотрели на лампу – но всё было спокойно.
Январь 1924 года
Ванна
Всё вокруг стало для Цусимы мерой его недолгой жизни. Даже любимые цветы – глядя на них, он думал, что не увидит их вновь до следующего года, и это ожидание наполняло его тоской. Когда он ел бамбуковые побеги или мацутакэ – те самые, что появляются раз в году, – его охватывала та же тревожная пустота. Даже стволы деревьев вдоль привычной улицы, заметно потолстевшие за последние годы, напоминали ему: с тех пор, как их пересадили, прошло уже почти десять лет – и столько же утекло из его собственной жизни. Мысль эта не радовала.
Но в его возрасте, как и у чахоточных, стоящих на пороге смерти, дни текли, словно не затронутые мыслью о времени. Исчезла юношеская торопливость, пружина ослабла, чувства притупились. Отчасти его спасала радость – и жалость – к детям, этому продолжению его жизни, что смягчали его тревогу.
Тем утром Цусима болтал с гостем. В такие моменты, если разговор не увлекал его и не был по-настоящему ценным, то в душе копилась злоба. Он вдруг осознавал ценность времени, которое безвозвратно терял, и это выводило его из себя. Но стоило гостю начать собираться, как ему тут же хотелось удержать его любой ценой.
И тут его отвлекло нечто странное. Никак не связанное с гостем, оно всё же мешало ему сосредоточиться. Он отвечал машинально, погружённый в свои мысли.
За тонкой дощатой стеной, со стороны кухни соседнего дома (если смотреть из его кабинета), раздавался голос Сакуко, его жены. Она что-то объясняла пришедшему плотнику, и её голос неприятно щекотал его и без того расшатанные нервы.
Недавно им наконец освободили этот дом, и Цусима почувствовал некоторое облегчение. Годами он страдал от тесноты. Конечно, для семьи из десяти человек двадцать, от силы двадцать пять татами – это слишком мало. Даже он, никогда не задумывавшийся о жилье (да и не имевший возможности), понимал это. Последние два-три года, с ростом детей, проблема только обострилась.
Неожиданно он получил в собственность свой давний дом и соседний, стоявший на том же участке. До этого их едва не передали новому владельцу, и Цусиму чуть не выселили. Из-за нехватки жилья найти новое жилье было трудно. Он в полной мере ощутил горечь изгнания с кучей детей и трудности поиска. Благодаря помощи друзей он в итоге поселился в старом доме, но даже с дополнительными комнатами проблема не решилась.
Он думал о пристройке или аренде ещё одного дома. Перед экзаменами он снимал комнату для ребёнка поблизости, а в особенно загруженные дни и сам уезжал, живя в гостиницах или на съёмных квартирах. Но ещё лучше было бы получить освободившееся соседнее здание, где жили другие арендаторы.
Тот дом был разделён на две части, в каждой жила своя семья. Цусима хотел выселить хотя бы одну, но переговоры ни к чему не привели. После нескольких попыток дело дошло до суда, но юристы только усугубили ситуацию. Все увязли, как в трясине, и Цусима, и арендаторы, оказавшись в безвыходном положении.
Прошло два года, прежде чем он смог войти в ту часть дома, которую раньше разглядывал через щели в заборе. Новый адвокат уладил дело за одну ночь.
Дом был в запустении. Потребовалось время, чтобы привести его в порядок, но теперь семья стала жить свободнее.
«Может, устроим здесь ванную?» – как-то раз подумал Цусима, зайдя на кухню.
С тех пор, как их старая ванная пришла в негодность, он ходил в общественные бани. Когда его третья жена была беременна, он нашёл для неё подержанную хорошую ванну и установил её. Через пару лет знакомый подарил им угловую ванну, которую заказал для себя, но потом она ему не понадобилась. Однако вскоре и она прохудилась.
С годами ему всё больше надоедали встречи и разговоры в бане. Порой приходилось мыть и детей. Седые виски придавали этому занятию оттенок убогости. Больше всего он чувствовал необходимость в собственной ванной.
«Почему бы и нет?» – согласилась жена.
Так что теперь, когда она обсуждала с плотником переделку кухни, в этом не было ничего странного. Да и её повышенный тон не стоил внимания. Но в тот момент он был не в духе, и её голос, долетавший до соседей, раздражал его. Ему казалось, что она хочет показать свою «сообразительность» перед рабочими, и эта наигранность была невыносима. Может, только он это чувствовал. Может, это была одна из тех неприятных черт, что появились у неё с возрастом. Мужчины с годами становятся утончённее, женщины же – наоборот.
– Зачем так орать? – позже, когда Сакуко вернулась и перекладывала на веранде таби, он вышел и спросил её.
Она удивлённо посмотрела на него. Они не разговаривали со вчерашнего дня.
– Что?
– Зачем так кричать? Какую ванную ты там задумала?
– Я и не кричала.
– Да тут всё слышно! Соседи подумают, что мы тут перестраиваемся.
– Ну и что? Мы же ничего плохого не делаем.
Она хотела войти в комнату, но, наморщив лоб, добавила: «Ох, как надоело!».
Их взаимное раздражение возникло из-за её брата, до сих пор благополучного. Тот обманул Цусиму с деньгами, заложив то, что ему доверили, и бросив на произвол судьбы. Сакуко тоже злилась на него за это. Кроме того, были и другие денежные дела, в которых Цусима, не особо сообразительный, чувствовал, что его супруга покрывает своего братца.
Он помогал тому деньгами, но, разочаровавшись, решил прекратить отношения. Теперь же, будучи обманутым, он злился ещё сильнее. Сакуко знала, что брат не прав, но, преувеличивая то и дело его благодарность Цусиме, только раздражала мужа. То ли для приличия, то ли не осознавая, она пыталась сгладить ситуацию.
Но главное – Цусима хотел вернуть заложенное. В конце концов он сам заплатил растовщику и выкупил вещи. Сумма была небольшой, но подобное наглое поведение бесило. Цусима не мог не сорваться на Сакуко.
Раздражение, вызванное ею, всё ещё клокотало в нём, и её тон мгновенно взорвал его вспыльчивый характер.
После нескольких фраз он ударил её. Как обычно, она не сопротивлялась, позволяя ему бить себя, пока кто-нибудь не останавливал. Да и сама она нередко поднимала на него руку.
Он бил её яростно, понимая, что её головные боли – следствие его ударов, но не мог остановиться. В последнее время он стал удивительно грубым и жестоким. Даже схватил старый меч из токономы и чуть не обнажил его. Он не думал, что способен на такое, и стыдился этой детской угрозы, но чувствовал, что в нём таится нечто звериное.
В такие моменты он вспоминал отца, который в детстве, будучи укушенным собакой, выбежал с копьём, чтобы убить её. А потом, уже старым, едва двигаясь, он, словно капризный ребёнок, замахивался на мать курительной трубкой. Та с комичной грацией уворачивалась, заставляя его смеяться.
Но Сакуко не была легкомысленной. Она бледнела и сопротивлялась.
К вечеру Цусима разгромил топором новые доски ванной.
Через две недели он решил, что всё же стоит использовать её, и вместе с женой отправился покупать ванну. На следующий день её доставили, и, без дымохода, топили углём.
Впервые за долгое время он мог помыться дома, но грязные стены портили настроение. Да и привыкнув к просторной бане, он чувствовал себя в ванной тесно.
«Сколько же она прослужит?» – подумал он, как всегда.
«Хватит ли одной на всю мою оставшуюся жизнь?»
И вдруг она показалась ему гробом.
Август 1924 года
Порог
В тот день Дои снова отправился в город отведать устричной похлёбки. С тех пор, как он приехал в Киото, время летело незаметно, и вот он уже готовился к отъезду. Заходил в старинные лавки – «Рокубэй», «Ёримаса» – и покупал сувениры. Племянник, знавший торговцев тканями в Нисидзине, помог ему выбрать несколько отрезов для подарков. Декабрь подходил к концу, оставалось всего несколько дней.
Ещё было столько мест, куда он хотел заглянуть, столько заведений, где мечтал поесть. Но эта поездка не была для него развлечением. Он приехал в Осаку, получив телеграмму о том, что его старший брат при смерти – то ли навестить, то ли проститься (когда Дои уезжал из Токио, он ещё не знал, что именно его ждёт). А потом, по приглашению племянника, задержался в Киото. Если бы он ехал просто как турист, вряд ли выбрал бы зиму, о которой все говорили, что здесь особенно промозгло. Но киотская зима оказалась приятнее, чем он ожидал. По крайней мере, в сравнении с тёплыми сезонами, когда он бывал здесь раньше, зима раскрывала истинный облик Киото. Тихий, по-настоящему зимний город – и это тронуло Дои.
Особенно ему нравилось место, где он остановился – на окраине, в скромном домике, откуда прямо из-под карниза был виден пологий склон горы Кинугаса, что открывается взгляду по дороге от храма Хирано к Гинкаку-дзи.
В первую же ночь Дои, не в силах сосредоточиться, чтобы взяться за перо, почувствовал разочарование. Но племянник объяснил, что снял для него отдельную комнату в доме, где жил сам хозяин. Поверив ему, Дои поспешно распрощался с роднёй, задержавшейся в Осаке, и прямо из храма отправился на станцию Умэда. Даже в Киото он, казалось, злился на себя – настолько упрямо настаивал на этой поездке.
Конечно, он чувствовал себя виноватым. Десять дней – от тайных похорон до официальных церемоний – он провёл, запершись в комнате на втором этаже дома шурина, брата невестки. Чем больше о нём заботились, тем тяжелее ему было.
Одна мысль не давала ему покоя: будто бы он опоздал к последним минутам брата из-за какой-то ошибки в извещении. Конечно, он сожалел, что не увиделся с ним при жизни.
В детстве Дои был любимцем старшего брата. Упрямый, своевольный, а порой и отъявленный лентяй – младший брат от другой матери – всегда был для него как родной сын. Особенно в те годы, когда Дои скитался по Осаке, целый год живя у брата, не принося ни гроша, обременяя и без того небогатого человека.
Хотя и тогда Дои не терял времени даром. Он старался, надеясь найти своё место. Иногда его произведения печатали в газетах. Писал шалости для журналов, и кое-кто пророчил ему будущее. Пробовал себя в переписывании текстов, служил в конторе. Но в итоге всё оказалось напрасным. Как писателю ему пришлось начинать заново. В житейском плане он был слишком ребячлив и нерасторопен.
Брат заботился о нём, утешал, подбадривал – и ни разу не показал, что тяготится им. Однажды, читая благодарственное письмо матери Дои, приехавшей из деревни, он даже прослезился.
Всё это напомнило Дои «Малыша» Додэ. В том романе старший брат, больной чахоткой, до последнего верил, что его брат станет великим писателем, и жертвовал всем ради него. А потом умер.
Дои, когда-то переводивший эту трогательную, почти сказочную историю (не такую уж сложную, чтобы не взяться за неё из озорства), теперь чувствовал, как щемит сердце. Но он так и не смог отплатить брату за добро.
Любовь брата длилась до самого конца. Даже став взрослым, Дои каждый раз при встрече чувствовал себя ребёнком, которого безмерно балуют.
«В этот раз мы обязательно съездим с ним в Беппу», – сказал он жене перед отъездом. Хотел провести рядом с братом месяц-другой, следить за его питанием, а когда тот поправится – осуществить задуманное.
Но в тот самый час, когда Дои садился на поезд в Токио, его брат закрыл глаза навсегда.
Сойдя с поезда и увидев закрытую лавку, где невестка обычно подрабатывала, Дои вдруг почувствовал, как подкашиваются ноги. Он не нашёл в себе сил подняться наверх.
Увидев изменившееся лицо брата, он не смог сдержать слёз. Брат прожил нелёгкую жизнь, но в нём было столько прекрасного. И даже его судьба, скромная и тихая, была по-своему светлой.
«Такого доброго человека, как он, поистине, второго не найти. После его смерти я совсем растерялась», – сказала молодая невестка, поднявшись в комнату Дои, чтобы скрасить его одиночество. Она заварила чай и заговорила об умершем.
Все любили брата. Его честность и прямота не принесли ему удачи в жизни, но оставили след в сердцах людей.
Дои не собирался надолго задерживаться в трауре, но, оказавшись в четырёх стенах, не испытывал желания выходить наружу. В двух больших жаровнях из павловнии всегда тлел уголь, и вода в котле не переставала кипеть. Зарывшись коленями в стёганое одеяло из крепа, он брался за перо.
Иногда молодые родственники – и парни, и девушки – заглядывали к нему, называя «дядюшкой», и болтали о пустяках. Однажды приехали из деревни второй брат с женой и сестра – все вместе ужинали внизу, слушали граммофон.
Поздно вечером, закончив работу, Дои пробирался в общую спальню на втором этаже, где на четырёх постелях лежали стёганые одеяла из крашеного крепа – таких роскошных он и не использовал никогда. Старался не разбудить вторых братьев.
Но даже такая забота не могла рассеять его странного чувства – будто пребывание в Осаке лишено всякого смысла. В конце концов им овладела глухая тоска.
В день официальных похорон, сидя за поминальной трапезой в храме, Дои неожиданно договорился с племянником о поездке в Киото.
– Я как раз уже решил насчёт комнаты. Поедемте обязательно.
Возвращаясь из храма, Дои ненадолго зашёл домой, быстро собрал вещи и отправился в Киото.
Когда Дои ходил в город за покупками или ужином, он обычно шел за компанию с племянником. В хорошую погоду тот иногда брал пару выходных в компании, и они вместе шли гулять. Но чаще племянник возвращался рано – как раз к двум-трём часам, когда Дои заканчивал дневную рукопись.
Сам Киото казался Дои слишком провинциальным, и как город он ему не нравился. Зато зимняя атмосфера вокруг дома с непривычки напоминала ему тихие, унылые зимы родных мест. По утрам, открывая дверь, он видел стайки птиц, щебетавших в пожелтевшем лесу напротив, или слышал вдали пересвисты дроздов. Их резкие крики особенно ярко воскрешали в памяти родные края.
С зубочисткой во рту он выходил к колодцу на границе сада хозяина. Шёлковый солнечный свет, просеянный сквозь чащу заднего двора, равномерно ложился на огород, изгородь маленького садика, где среди сухих стеблей алели стручки перца. Всё вокруг блестело, будто покрытое льдом, – тающий иней придавал тихой сельской местности ещё больше очарования. И этот грубый дом, поначалу казавшийся неудобным, с каждым днём всё больше напоминал ему уединённую сельскую обитель.
Но стоило Дои закончить завтрак и собраться за писательский стол, как яркий свет, лившийся сквозь сёдзи, вдруг мерк – комната погружалась в полумрак. Набежали тучи. Потом слабые лучи вновь пробивались сквозь облака, а иногда лёгкий, крадущийся звук возвещал о кратковременном дождике, тихо барабанившем по крыше.
Дои даже начал подумывать, что Киото – неплохое место для жизни. Может, стоит обосноваться здесь надолго?
– Если так, я как раз собираюсь переехать, – сказал племянник. – Рядом со святилищем Танака есть один очень дешёвый дом. Как насчёт этого?
Однажды они даже дошли до подножия горы Даймондзи, чтобы осмотреть этот якобы пустующий дом.
Но Дои не верил ему. Обещание насчёт комнаты оказалось ложью, как и рассказ о том, что тонкие одеяла просто одолжили другу – мол, стоит их забрать, и ночью будет тепло. Всё это было явной выдумкой.
К тому же Дои однажды с удивлением обнаружил, что его бумажник сильно похудел. Обычно он путался в расчётах, поэтому для верности записывал все покупки и ежедневные траты в блокнот. Но даже с учётом этого деньги исчезали слишком быстро.
Дои подозревал, что племянник и не думал снимать дом. Однако тот говорил, что хочет перевезти сестру из деревни и жить вместе с ней и ребёнком. Сумма была небольшой, и пару дней назад Дои вручил ему несколько купюр в качестве залога. Но в тот вечер племянник вернулся поздно.
– У него что, женщина есть? – спросил Дои у своей всегда медлительной жены.
– Кто знает… – та даже не стала отрицать.
Племянник собирался бросить свою жену. Дои тоже склонялся к этому – она была какая-то бесцветная. Зато их едва начавший ползать ребёнок, похожий на отца в детстве, был очень мил.
Жена, казалось, догадывалась, что у мужа есть другая. Даже когда Дои ложился спать, она, кормя ребёнка грудью, подолгу не смыкала глаз.
Племянник был мастером на все руки – разбирался в декоративном искусстве, придумывал узоры для тканей. У него был натренерованный глаз на антиквариат и живопись. В шкафу у него хранилось столько лекарств, что хватило бы на плохого врача. Если речь заходила о лошадях, он проявлял себя как знаток. То же самое – с охотничьими собаками. В армии он служил в кавалерии, но однажды упал с лошади и раздробил кости голени и плеча. А потом как дезертир был вынужден остаться на службе дольше положенного.











