Читать онлайн Архонт северных врат.
- Автор: Макс Гаврилов
- Жанр: Исторические приключения, Попаданцы
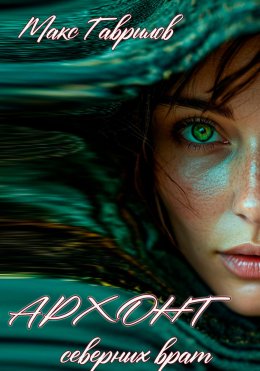
ГЛАВА 1.
86 год до н.э., порт Брундизий, Римская республика.
Беспощадно палящее днем солнце медленно опускалось за горизонт. Вечерние сумерки роняли длинные тени от рослых кипарисов, обрамляющих пыльную Апиеву дорогу, широкой рекой утекавшую на запад и час назад поглотившую первый из нагруженных доверху обозов. Спурий, центурион второго легиона под командованием Луция Корнелия Суллы несколько минут назад отдал последние распоряжения ночной страже, и сейчас расположился на открытой террасе портовой таверны. Уставший и раздраженный, он рывком расстегнул на груди фибулы1 и набросил багряный сагум2 на тяжелый стул с дубовыми ножками. Освободив голову от начищенного до блеска стального шлема с поперечным гребнем, Спурий окликнул нумедийку, скоблившую соседний стол:
– Принеси вина и сыра!
– Слушаюсь, господин. – Нумедийка сверкнула быстрыми глазами, тут же поклонилась и исчезла. За эту неделю центурион приучил повиноваться ему без малейшего промедления, хотя для этого пришлось арестовать хозяина трактира. Шести часов в темном трюме консульской триремы хватило, чтобы в порту поняли – центурион Спурий очень не любит, когда его приказы выполняются с задержкой.
Неделю назад его центурия приплыла в Брундизий из Греции на трех триремах3, загруженных по самые борта. Легион Спурия участвовал в штурме Афин, этой древней эллинской твердыни. При воспоминании о той победе губы центуриона расплылись в блаженной улыбке…
Основные силы консула Суллы атаковали город по фронту между Пирейскими и Священными воротами. Оборонявшиеся полагали, что это и есть главный удар консула, между тем несколько центурий ударили в тыл, у стены Гептахалка. Обороны там почти не было, и Спурий, будучи еще простым легионером, в числе первых перебрался через высокий каменный барьер зубчатой бойницы. В городе началась резня. Римляне, получившие приказ никого не щадить, вырезали жилые кварталы целыми семьями. В какие-то несколько часов Афины были залиты кровью. Повсюду слышались вопли раненных, женские крики несчастных афинянок, подвергающихся грубому насилию, треск ломающейся древесины и звон металла, встречающегося с металлом. В городских боях пал командир Спурия, центурион Марк. Копье греческого гоплита пробило ему шею, и он умер тут же, у подножья храма Зевса. Спурий этого не видел. Поглощенный жаждой убийства, он метался по узким афинским улицам вместе с легионерами своей центурии, выламывал двери и крушил гладиусом4 все живое, встречавшееся ему на пути. Легионеры, воодушевленные возможностью грабежа, бесчинствовали в городе два дня. Консул Сулла наказывал Афины за непокорность. Еще четыре дня повозки вывозили богатства в римский лагерь. Золото, бесценные античные статуи, городская казна, сокровища разграбленных греческих храмов. Тогда в руки Суллы и попала знаменитая библиотека Аристотеля, выкупленная неким Апелликоном и хранившаяся в его доме в Афинах.
При воспоминании об этой куче папирусов и ничего не стоящих листов бумаги, переплетенных воловьей кожей, Спурий нахмурился.
– Господин желает еще что-нибудь? – Нумедийка поставила на стол кувшин с вином, полголовы сыра и свежий хлеб.
– Принеси еще кружку, нас будет двое, – проговорил Спурий, глядя на консульские корабли, покачивающиеся у причала.
За храбрость и мужество при штурме городских стен консул назначил Спурия центурионом, вместо павшего в бою Марка, и приказал ему сопроводить под охраной центурии триремы, гружёные отобранными у афинян богатствами. За проклятые трухлявые свитки, уложенные в большой деревянный ящик, обитый кожей, Спурий теперь отвечает собственной головой. Сулла так и сказал, вручая новоназначенному центуриону витис5: «Ты выше меня на целую голову, центурион. Если библиотека не доберется до Рима в целости, я устраню эту разницу меж нами».
– Господин!
Спурий обернулся. Перед ним навытяжку стоял легионер, прислонивший правый кулак к левой стороне груди. Центурион огляделся. В таверне они были одни.
– Садись, Тит. Раздели со мной ужин. Когда мы одни, оставь дисциплину за порогом, – он усмехнулся. – Семнадцать лет мы спали с тобой у одного костра и ели из одного легионерского котла.
– Иногда и не ели, – Тит улыбнулся и привычными движениями освободился от шлема и сагума. – Да и не семнадцать, а восемнадцать, Спурий.
– Клянусь всеми богами, мне плевать!
– Ну, разумеется, теперь ты центурион! С таким жалованием можно и еще лет двадцать скитаться по римским провинциям! – Тит улыбнулся и поднял кружку. – За тебя, брат! Ты это заслужил.
Вино приятно бодрило. Тит чувствовал, что друг чем-то раздражён, но не понимал, стоит ли ему спрашивать о причинах его раздражения.
– Скоро мы будем в Риме, друг мой.
Спурий опрокинул в себя кружку и с грохотом поставил её на стол.
– Ты считаешь, мы это заслужили?!
– Но…
– Когда основная работа сделана, когда пали Афины, когда вся армия двинулась на войну с Митридатом, – его глаза бешено горели, – я послан сторожить какое-то барахло, чтобы седые учёные мужи на Форуме могли цитировать старого греческого маразматика?! Этот поход принесёт одним славу, богатство и триумф, другим земли, которые обещал консул в награду за доблесть, а я тем временем…. Я….
– Подожди, Спурий! – Тит положил руку на сжатый огромный кулак центуриона. – Ты недооцениваешь свое поручение. Твою услугу не забудет консул, ты проявишь себя, безупречно выполнив его задание, а дальше как знать… Длинные языки болтают, что победив Митридата Евпатора, Сулла вернется в Рим не просто триумфатором… – Тит огляделся и понизил голос, – …он станет Диктатором. И еще неизвестно что лучше, иметь клочок земли где-нибудь в Македонии или Иудее, или быть верным человеком римского Диктатора в Риме.
Центурион поднялся из-за стола и подошёл к перилам арочного свода, за которым открывался вид на гавань. Тит был прав. Нужно просто в точности выполнить задание, и тогда… Тогда быть может не за горами и должность трибуна6. Мысли уже было унесли Спурия в Вечный город, он вспомнил жену, которую не видел более пяти лет. Аурелия… Его сыну около семи, чем он занимается сейчас?
Вдруг он заметил едва различимый свет в вёсельном отделении одной из трирем. Огонек двигался внутри грузового трюма, и то пропадал за перегородкой, то вновь мелькал в вёсельных прорезях.
– Тит, ты предупредил караулы, чтобы не разжигали на борту огонь? – спросил он, не отводя глаз с огонька.
– Караулу запрещено подниматься на борт, центурион. Легионеры несут службу на пристани.
– Проклятье! – вскричал Спурий. – Живо за мной!
Они выбежали из трактира и расстояние в сотню шагов пробежали, расталкивая портовых работников, закончивших разгрузку зерна с египетского торгового корабля. Уже давно стемнело и легионеры, несущие караул, преградили центуриону путь.
– Стой! Собственность римского консула! Именем Республики!
– Легионер, узри своего центуриона! – прорычал Спурий. – За мной!
Они вбежали по деревянному трапу на борт триремы, центурион выхватил у караульного малый факел и устремился в вёсельную надстройку. Как только свет выхватил из темноты очертания аккуратно сложенных ящиков, центурион сразу заметил, что просмолённая парусина, укрывающая ящики, с одной стороны откинута. У Спурия упало сердце. Он медленно приблизился к грузу. Один из ящиков с надписью «Bibliotheca Aristotelis»7 был открыт. Центурион заглянул внутрь. Внутри зияла кричащая, отчаянная пустота. Он осветил палубу вокруг. Ни факельного нагара, ни воска оплавленной свечи. Вдруг на носу триремы что-то упало и покатилось!
– Он еще здесь! – крикнул Тит.
– Несите факелы, оцепить весь причал, живо! – Спурий вытащил гладиус из ножен. – Брать только живым!
Принесли факелы, центурион, Тит и четыре легионера двинулись к носу корабля, растянувшись в цепь.
– Кто бы ты ни был, сдавайся и верни то, что украл! Обещаю тебе жизнь! – громко выкрикнул Спурий.
Римляне прошли последнюю мачту, и свет факелов выхватил из темноты носового отделения фигуру в сером плаще. Человек сжимал в руках странный предмет, похожий не то на ящик, не то на короб. Из-под огромного капюшона были видны седые усы, переходящие в такую же серебряную бороду. Человек странно сдвинул правый рукав, и удивленные римляне увидели зеленоватый свет, исходящий от предплечья.
– Во имя Юпитера… – прошептал один из легионеров.
– Сдавайся, старик! Тебе не удастся сбежать! – Спурий шагнул вперед.
Зеленоватая вспышка на миг подсветила нос триремы и тут же погасла. Центурион непроизвольно прищурился от её резкого света, затем раскрыл рот, словно хотел что-то сказать и медленно перевел взгляд на Тита. Произошло немыслимое. Старик вместе с ящиком растворился в темноте душной брундизийской ночи.
ГЛАВА 2.
Замок тамплиеров Кастильо-де-лос-Темплариос. Понферрада, провинция Леон, Испания. 9 октября 1307 г.
Проклятый дождь. Он хлестал по черепичной крыше патрульного перехода между северной и западной башнями, тонкими ручейками вода из разверзнувшегося свинцового неба стекала во внутренний двор, напрочь расклеивая бурую землю. Второй день непогода накрывала долину, и порой казалось, что стене из дождя не будет конца. Речушка Силь, петляющая в миле от стены замка, на пару дней превратилась в полноводную, мутную реку с опасным течением, грозящим снести опоры старого моста, соединяющего долину с окрестностями пиренейского предгорья.
Магистр Кастильского ордена Родриго Янес, крепкий человек с бронзовым лицом, привычным к палящим лучам испанского солнца, стоял на бойничной площадке западной башни и вглядывался в покрытую туманом даль. Там, вдалеке, из леса показалась тонкая вереница обоза, которого он ожидал с самого утра. Янес, наконец, вздохнул с облегчением. Письмо Великого магистра ордена он получил неделю назад. Жак де Моле редко беспокоил Кастильского магистра письмами, а если его гонцы и доезжали до Понферрады, то послания были коротки, содержали прямые распоряжения, касались сугубо жизни братства, либо знакомили с новостями из Франции, Кипра и Святой земли. Но не в этот раз. Длинное письмо, так взволновавшее магистра, содержало необычные распоряжения, которые предварялись длинным рассказом о текущих делах Ордена.
Янес не был слепым последователем всех идей Великого магистра, но всегда понимал, что де Моле встал во главе тамплиеров в переломный для Ордена момент. Шестнадцать лет назад, вслед за Иерусалимом, пала Акра, положив конец присутствию христиан на Святой земле. Храм Иерусалима, ради защиты которого и был создан Орден, перешел в руки сарацин. Тамплиеры были вынуждены перенести главную резиденцию на Крит и выбрать нового Великого магистра. Янес положил руку на рукоять меча, украшенную красным восьмиконечным крестом с девизом «Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam»8, и поёжился от влажного пиренейского ветра.
Он был в числе последних защитников Акры, покидающих пристань павшего города. Когда положение стало безнадёжным, храмовники9 под непрерывными атаками мусульман грузили раненных товарищей и христиан, спасающихся от сарацин, на корабли. Сам Янес с десятком рыцарей отчаянно сдерживал мамелюков, прорвавшихся в порт. На его глазах один за другим умирали его товарищи, белоснежный плащ братства был весь залит кровью, лоб рассечен ударом кривого ятагана, и Янес наносил удары, читая про себя последнюю молитву. Две стрелы, выпущенные с захваченной городской стены, вонзились в него почти одновременно. Одна угодила в зазор между боевым шлемом и пластиной панциря, насквозь пробив шею, вторая – в сгиб правой руки. Янес пришел в себя спустя четыре дня уже на Кипре. Лекарь сказал ему, что Господь простер над головой будущего Кастильского магистра свои всемогущие длани. Страшный рваный шрам сохранился на шее, как память о самом горьком дне Ордена.
Спустя несколько недель, когда он еще только начал вставать с постели, Великим магистром тамплиеров был назначен Жак де Моле. И вот теперь, спустя шестнадцать долгих лет, де Моле пишет ему, что некогда самый могущественный в христианском мире Орден ждут великие потрясения. Долгие годы де Моле тешил себя надеждой о новом крестовом походе на Святую землю, долгие годы он собирал деньги и заручался поддержкой монархов. Глупец… Он никогда не чувствовал времени! Филиппу Четвертому, королю Франции, Орден, с его возросшим влиянием и богатствами, хранившимися в подвалах замков, давно стоял костью в горле. Но Великий магистр как будто этого не замечал! Янес не был глупым человеком, и всю свою жизнь чтил устав Ордена превыше всего, а посему и не лез в хитросплетения политических игр, которые вел де Моле. Теперь, наконец, и сам де Моле по-видимому что-то понял. Обоз, который с утра ожидал магистр, вёз в Кастильо-де-лос-Темплариос ценности, тайно вывезенные храмовниками из Тампля10 по приказу де Моле. В течение ближайших недель со всех концов Европы ожидалось прибытие таких же обозов. По-видимому, Великий магистр почувствовал угрозу, поскольку, во-первых, требовал обеспечить сохранность всего имущества Ордена, во-вторых, сохранять полнейшую тайну.
– Магистр, к приему братьев всё готово, как вы и распоряжались!
Янес обернулся. Комендант замка, Тео Перес, коротко поклонился и добавил:
– В трапезной накрыты столы, братьям я отвел покои в верхнем дворе, у часовни. – Тео вновь коротко поклонился, ожидая дальнейших распоряжений магистра.
– Братьев будет всего десять, остальные – наёмные крестьяне, накормите их на нижнем дворе. Разгрузкой обоза пусть займется караул, крестьян, как накормишь, проводите за ворота.
Комендант удивленно поднял вверх брови. На его памяти караул никогда не занимался сторонними работами.
– После разгрузки, – продолжал Янес, – караул сменить и удвоить. Ворота запереть, мост поднять.
– Будет исполнено, магистр!
– Будьте внимательны, Перес. Нам предстоят неспокойные дни. – Магистр повернулся и вновь посмотрел на долину. Можно было уже различить белые плащи и топфхельмы11всадников по бокам медленно двигающегося обоза. – Им еще около часа езды. Я буду в донжоне12, мне необходимо сменить одежду. Распорядись затопить там камин.
– Хорошо, магистр!
Янес прошел под крышей патрульного перехода и стал спускаться по винтовой лестнице башни. У горевшего на стене факела он вдруг остановился, извлёк из-под плаща письмо Великого магистра с тяжёлой печатью Ордена на грубой бечевке и зажег край. В огне медленно исчезали ровные строчки, Янес поворачивал бумагу, пока она вся не превратилась в пепел.
Через три четверти часа магистр, погружённый в свои мысли, ворошил в камине жаркие угли. Приятное сухое тепло давно отогрело ноги. Ему очень хотелось снять с себя тяжелую кольчугу, но Янес решил, что принимать посланников Великого магистра надлежит по всем правилам братства. Тяжёлая дубовая дверь открылась, и Тео объявил:
– Гийом Буше, магистр!
Янес встал и поприветствовал молодого светлобородого рыцаря, вошедшего в комнату. С лица и одежды тамплиера капала вода, вид его был растерянным, что не укрылось от внимания магистра.
– Что-нибудь случилось, брат мой? – Янесу не удалось спрятать тревогу в голосе?
– Да, магистр. – Буше покосился на коменданта. Янес кивнул Тео, и тот вышел, плотно притворив за собой дверь.
– Говори!
– На нас напали, магистр.
– Что?! На десять рыцарей Храма?! Сколько их было? Где все случилось?! – Янес не заметил, как перешел на крик. – Что с обозом?!
– Он был один, магистр… Это случилось перед самым мостом, в лесу. И всё это очень… странно…. Обоз цел.
– Странно?! Пожалуй, что да, странно… В одиночку напасть на обоз, охраняемый десятком мечей! Рассказывай по порядку!
Буше вытер грязное лицо ладонью.
– Мы ехали по лесу несколько часов. Перед самым поворотом на мост на дорогу вышел какой-то старец в странных одеждах и преградил нам путь. Я сказал ему, чтобы он убирался с дороги, но он…, – рыцарь понизил голос, – он рассмеялся и сказал, что в нашем обозе есть вещь, которая ему нужна…
– Наглец.
– Магистр, он говорил про Чашу…
– Проклятье… Откуда он мог знать, что находится в ящиках? – Янес осекся, что именно находится в ящиках он и сам не имел понятия. Неужели Жак де Моле решил перевезти в Кастильо-де-лос-Темплариос сокровища Иерусалимского храма?! – Продолжай.
– Поль де Местр сказал старику, чтобы тот проваливал, иначе он разрубит его напополам. Старик вновь рассмеялся и протянул вперед руку, которую до этого держал за спиной. Де Местр был взбешен поведением простолюдина, выхватил меч и помчался на него. Думаю, старик отделался бы ударом плашмя, но де Местр не успел доскакать… В руке старца полыхнул огонь и что-то грохнуло так, что наши боевые кони все, как один, присели на задние копыта.
– А что же с де Местром?
– Он убит, магистр. В его топфхельме позже мы обнаружили небольшую дырку, не похожую на отверстие ни от арбалетного болта, ни тем более, стрелы. Но голова де Местра пробита! Мы не успели ничего понять, клянусь распятием! Крестьяне от страха разбежались кто куда, я не знаю, как объяснить всё, что произошло, но, думаю, если бы старец захотел забрать то, за чем пришёл, мы не смогли бы ему помешать.
– Что было дальше? – Янес вспомнил, что обоз цел и желал продолжения.
– Дальше произошло самое странное. Этот человек вдруг скорчился, как прислужник дьявола, и у него начались судороги. Когда мы приблизились, не стану скрывать, магистр, я лично хотел оборвать его жизнь, так вот, когда мы приблизились, он застонал и назвал ваше имя… – Буше посмотрел магистру прямо в глаза.
– Чтоооо?! – протянул Янес.
– Да, магистр. Старик просил не убивать его. Он сказал, что для вас есть крайне важное сообщение. А еще этот пёс сказал, что завтра в Париже будет арестован и брошен в темницу Великий магистр тамплиеров, Жак де Моле. – По спине Янеса пробежал ледяной озноб. – Еще он говорил, что все рыцари-тамплиеры будут обвинены в ереси и подвергнуты гонениям, что нас ждут пытки, позор и забвение. И что он может это предотвратить. Я приказал заковать его в железо и привез к вам, магистр. Комендант распорядился бросить его в подвал восточной башни.
– Идём! – магистр почти бегом направился к выходу. Буше и комендант несли впереди него факелы. Они пересекли двор, где шла разгрузка тяжёлых ящиков. Дождь прекратился, и из-за рваных послегрозовых облаков роняло на землю лучи заходящее солнце. Янес не обращал внимания на противно хлюпающую под ногами жижу, мгновенно забрызгавшую его плащ. Мысли его были направлены на одно – откуда странный старик знает о Чаше, Великом магистре и нависшей над ним угрозе?
Винтовая лестница уходила вниз, в помещение холодных подвалов. Пахло мышами, сыростью и плесневелой влагой. Чад от факелов уносился под сводчатый потолок. Комендант отодвинул огромных размеров засов на тяжёлой, обитой железом, двери. Два стражника и Гийом Буше вошли первыми, осветив узилище. В дальнем углу подвала тихо копошились две тощие крысы, нисколько не испугавшись вошедших людей. Старик исчез.
ГЛАВА 3.
Наши дни. Санкт-Петербург.
Пробка на Московском проспекте растянулась на несколько километров. Дождь, с утра обильно поливавший город, уже с час как закончился, и в разбежавшихся от Невы тучах вновь заиграло солнце. Магнитола разливала по салону «Hello» от Ричарда Клайдермана, и Олег невольно барабанил пальцами по селектору переключения передач в такт мелодии.
Сколько он не был в Питере? Почти четыре года, если память не подводит. Точно, в прошлый раз он приезжал после защиты диплома инфака и поступления на исторический. Губы сами растянулись в полуулыбке. Ризориус, так, кажется, называется мышца, отвечающая за способность улыбаться? При этой мысли ризориус превратил полуулыбку в улыбку. В прошлый его приезд город встретил его ледяным ноябрьским ветром. Олег простыл и все каникулы, запланированные для встреч со старыми друзьями, провел у отца в доме, не вылезая из постели. Раньше Олегу нравился Петербург. Как он теперь понимал, городу было легко очаровать мальчишку, растущего в большом доме на Васильевском острове, посещающего частную школу и с самого нежного возраста окруженного предметами искусства, скульптуры и живописи. Отец торговал антиквариатом в собственном магазине, и был одним из самых уважаемых реставраторов в прошлом, и антикваров в настоящем. К нему обращались за экспертной оценкой из многих европейских музеев, не говоря уже о Третьяковке и Эрмитаже. Впрочем, основная его работа всё же касалась частных коллекций. Разумеется, перед Олегом никогда не стояло выбора, где и на кого учиться. Выбор за него сделал отец. Стоит сказать, обучение давалось Олегу удивительно легко, к окончанию факультета иностранных языков он свободно говорил на английском, французском, испанском и итальянском, чуть хуже – на немецком. В какой-то момент его потянуло на языки древности – арабский, иврит и латынь, видимо, сказались дни, проведенные в отцовском магазине и кабинете.
Матери Олег не помнил. Она бросила семью больше тридцати лет назад, когда ему не было и пяти. Бросила, когда они удочерили девочку – дочь трагически погибшего отцовского друга. Олег не мог понять, что должно случиться в жизни женщины, что заставило бы её оставить своего ребенка. Не мог понять и не мог простить. Конечно, ему не хватало материнской ласки в детские годы, и он часто завидовал друзьям, мамы которых толпились на школьных линейках с огромными букетами цветов и праздничным макияжем на лицах. Нет, отец, конечно, тоже не пропускал эти самые линейки, но всё же Олегу по крайней мере класса до пятого хотелось, чтобы пришла именно мама. А вот Мире, его приемной сестре, казалось, достаточно и того, что приходит отец. У нее всегда были с ним самые дружеские отношения и Олег, надо отдать ему должное, никогда этим фактом не тяготился, потому как сам Мирку любил бескрайне.
Завибрировал телефон. Он смахнул пальцем экран:
– Алло.
– Привет, ну ты где? – голос Миры вернул его к действительности.
– Привет! Я тут в пробке на Московском… Ээээ…., – он посмотрел на улицу, – К кольцу Защитников Ленинграда подъезжаю.
– Ну, понятно, минут двадцать у меня еще есть, – Олег услышал, как она звякнула посудой. – Зайдёшь в гости?
– Нет, Мира, в другой раз, отец ждет, ты же знаешь, что он не любит…
– Знаю, как никто другой. Он не любит ждать, – она хмыкнула. – Хорошо, выскочу, как подъедешь.
– Добро.
Правду о том, что Мира ему не родная, Олег узнал в семнадцать. До этого отец объяснял её фамилию – Гурова, тем, что это фамилия матери. Дети не пускались в подробные расспросы, а отец не утруждал себя дополнительными объяснениями, это положение устраивало всех, пока в один из дней Олег не обнаружил в столе отца среди прочих документов свидетельство об удочерении. Разговор был долгим и тяжёлым. В тот вечер отец решил, что они с Мирой уже достаточно взрослые для такой правды и рассказал всё. Мира узнала, что её настоящий отец выпал с балкона гостиницы «Космос» в Москве, в июне девяносто четвертого. Спустя два месяца родилась Мира, а еще через четыре умерла её мама. Тромб оторвался прямо на прогулке в Михайловском парке, «скорая» ничего не смогла поделать.
Мирка тогда стойко перенесла эти новости. Отец долго гладил её тёмные волосы, затем обеими ладонями взял её за щёки и, заглянув прямо в глаза, сказал, что её фамилия и кровь ничего не меняют, что у него нет на свете никого и ничего дороже, чем дети.
Конечно же, сейчас, спустя столько лет, всё уже забыто, встало на привычные рельсы, и никогда, по крайней мере, на памяти Олега, более не обсуждалось. Мирка окончила архитектурный факультет, жила в отдельной квартире на Московском проспекте, и работала с отцом уже несколько лет. Только вчера она вернулась из Флоренции, где жила больше года и училась в студии у какого-то крупного искусствоведа.
Вот и поворот во двор. Олег повернул направо, проехал два подъезда и увидел Миру. Она стояла на тротуаре и была невообразимо хороша! Длинные каштановые волосы спадали на плечи, безупречную фигуру подчеркивало темно-красное платье с открытыми плечами, нитка крупного искусственного жемчуга и такие же крупные серьги, завитые в спираль. Сдержанный макияж оттенял правильные черты лица, и заключали образ очки – тонкие, без оправы, дымчато-серые. Олег знал, что за стеклами скрываются карие глаза какой-то пугающей глубины. Казалось, что Мирка одним взглядом этих вот глаз запросто могла заглянуть в самую бездну мозга собеседника. Другой вопрос, хватало ли у этого самого собеседника глубины этого самого мозга? Часто оказывалось, что и нет.
– Бон джорно, сеньора!
– Граци! – Мира уселась рядом, и салон наполнился ароматом жасмина. Это был её любимый запах. – Привет еще раз, полиглот! – она чмокнула его в щеку и улыбнулась. – Отец сказал, что ничего не нужно, всё есть.
– Ну, в этом-то я не сомневался. – Они тронулись. Олег вновь выехал на Московский проспект и свернул на Садовую. – Ты не всё знаешь, кстати.
– О чём ты?
– С ним две недели назад случился приступ.
– Какой ещё приступ?! – Мира сняла очки и удивлённо посмотрела на Олега.
– Приступ мочекаменной болезни. Проще говоря, камень в почке зашевелился. Катя мне позвонила только через три дня, он ей запретил. Говорит, мучился два дня ужасно. «Скорую» она вызывала, так он отказался от госпитализации.
– Ну, тебе-то могла сообщить? Что бы он сделал, не убил бы ведь…
– Она его домработница, не моя. Запретил, вот и не позвонила.
– Ну а сейчас то как?
– Сейчас уже нормально. Я не знаю, зачем он нас пригласил, если ты об этом. По телефону голос бодрый, да и по видеосвязи общались пару дней назад, был в порядке. Только без настроения. – Олег обогнул Краснофлотский мост и повернул на набережную Крюкова канала. – Скоро уж сама увидишь.
– Ну а ты как? – спросила Мира, все так же глядя почти в упор, только теперь взгляд её стал насмешливым. – Не женился там у себя, в столице, Берестов? – Мирка с детства называла брата по фамилии, и ему это всегда нравилось. Выходило это у нее с какой-то особой, удающейся только ей, интонацией.
– Не, не женился, – улыбнулся Олег. – Не нашёл еще такую, как ты.
– И не найдёшь. Придется на мне. – Они рассмеялись. Мира смеялась чистым, заливистым смехом, как пятнадцатилетняя. В свои двадцать восемь она давно набрала ту привлекательность, от которой мужики сходят с ума, разводятся с женами, с которыми прожили уйму лет и совершают в самом зрелом возрасте самые незрелые вещи. Был в ней и загадочный шарм, и умение говорить, и умение слушать, затяжные паузы, интонации с двойным или даже тройным значением, интрига и даже иногда обманчивое, Олег это знал наверняка, простодушие. Всё это превращало Мирку в очень опасную женщину, некое подобие греческой Сирены, зазывающей прекрасным голосом моряков на верную гибель. Олегу иногда казалось, что мужчины попросту боятся с ней связываться, он не раз был свидетелем, когда сестра несколькими фразами выносила собеседника из общего разговора «вперед ногами». Последний раз случился, когда он с университетскими друзьями отмечал получение диплома. Мирка оказалась в «Астории» случайно, она консультировала в конференц-зале клиента, и Олег решил познакомить её с друзьями. Не то, чтобы это оказалось ошибкой, но как минимум один из его друзей запомнил эти посиделки надолго. Саня Воркевич, второй наряду с самим Олегом обладатель красного диплома, решил сверкнуть интеллектом и зачем-то ступил на неподготовленную для этого действа почву. Он попросту не знал род миркиных занятий. Очевидно, решив завоевать её внимание, Саня пустился в пространные рассуждения о человеческой цивилизации, развитии технологий и несовершенстве современной политической системы:
– Вообще, я считаю, что современные демократии, в том виде, в котором они сейчас существуют, не имеют ничего общего с теми идеями, которые были изначально заложены в это понятие. Дело в том, что «демос», то есть «народ», должен участвовать в политической жизни непосредственно. – Тут он посмотрел на Миру таким снисходительным, патетическим взглядом, что Олег вздохнул и внутренне рассмеялся. Сейчас тигру предстояло осознать, что он ягнёнок. – Так было во всех древнейших цивилизациях, начиная от таинственной Атлантиды до ранней Римской республики. Хотя, думаю, будь в их распоряжении компьютеры и интернет, они бы тоже не парились с прямым голосованием на форуме. В любом случае, тем же римлянам мы должны быть благодарны хотя бы за канализацию и бани. – Все рассмеялись, но Воркевичу этого показалось недостаточным. – А как вы думаете, Мира?
– Я не знаю… – Мира сделала глоток шампанского. Воркевич самодовольно усмехнулся и промокнул салфеткой губы. – Я не знаю, почему вы считаете, что канализацию придумали римляне. – Теперь уже Мира подняла на него свои тёмные карие глаза. – В тысяча девятисотом году в Ираклионе, это столица Крита, если что, – Мира рассчитывалась уколом на укол, – археологами был раскопан Кносский холм. Так вот, при этих самых раскопках обнаружен Кносский дворец царя Миноса. К слову сказать, этот дворец по площади оказался больше британского Букингемского дворца. И угадайте, что же обнаружил Эванс, главный археолог? Все верно, канализацию! Дворец был построен задолго до появления римской республики. – Мира сделала еще глоток шампанского, но Олег знал, что эта пауза осознанная. Улыбка давно сползла с лица Воркевича, как голубиные нечистоты сползают с лобового стекла вымытого авто. – Что касается технологического превосходства, – продолжила свой спич Мирка, – то и здесь есть пища для споров. Например Антикитерский механизм, поднятый со дна Средиземного моря неподалеку от того же Крита. Датируется второй половиной второго века до нашей эры. Чтобы понять, для чего он использовался, современным ученым понадобилось без малого пятьдесят лет. По сути, он оказался первым компьютером, внутри было собрано более тридцати различных шестеренок, соотношение зубцов на них совпадало с соотношением космических циклов известных в то время планет, запросто вычисляя конфигурацию их движения. Механизм даже учитывал эллиптичность орбиты Луны, предсказывал солнечные и лунные затмения. Компас, часы и планетарий в одном флаконе. Всё, как мы любим, – она подмигнула Воркевичу и усмехнулась. – Так что не стоит относиться к нашим предкам свысока, ведь вы, к примеру, даже имея красный, как пожарная машина, диплом, я уверена, не сможете даже определить время по солнцу.
Воркевич тогда не нашелся, чего ответить Мирке, мало того, с тех пор ни разу не позвонил и Олегу. Наверное, обиделся, но Олег и тогда, и сейчас, гордился сводной сестрой.
Между тем, они давно ехали по Большому проспекту Васильевского острова, Мира вдруг потянулась к стереосистеме и добавила громкости:
– Обожаю эту песню!
Из динамиков звучал Агутин.
…Одна на всех плывет Земля
Нас не знакомят с капитаном корабля
Лишь иногда, как чудеса
Мы слышим эти голоса
Я вас прошу, включите свет
Над этой самой лучшей из живых планет
Включите свет и дайте звук
Я так хочу видеть лес упрямых рук…
Она молча смотрела в окно. Кожевенная линия Васьки13. Здесь прошло их с Олегом детство. По этому тротуару они бегали в магазин за углом, там, за забором справа, – набережная Невы и Галерный фарватер. Они любили смотреть на проходящие мимо корабли, махали туристам руками и мечтали, мечтали, мечтали… Отец до сих пор жил здесь, двухэтажный старый особняк был куплен им в середине девяностых. Обветшалый, с обвалившейся внутри лепниной и полусгнившей лестницей, покрытый по углам черным налётом грибковой плесени двухэтажный дом Берестов выкупил за смешные деньги с обязательством реставрации первоначального облика. Почти три года ушло на масштабную работу, и уж тут-то Роман Сергеевич развернулся во всю широту своей антикварской души! Фасад здания был восстановлен первым. Лепнину воссоздали по дореволюционным снимкам, мрамор на парадную лестницу был заказан в Карелии, барельефы на фронтон – в Академии художеств. Особняк был выкрашен в жёлтый охристый цвет и снаружи стал выглядеть как разодетый по последней моде франт среди серых питерских соседей. Внутренняя отделка затянулась. Долго не могли найти паркет, в итоге решено было реставрировать старый, что на деле оказалось делом, еще более затратным. Камин в гостиной стал декоративным, в нишах стен появились скульптуры Гермеса и Гестии, огромные витражные окна на лестнице изготавливались в частной мастерской на Выборгской стороне, а саму лестницу из сибирской лиственницы отец заказал на Урале. Столовая и гостевая комната располагались в боковом крыле, и здесь отделка не имела сложностей, потому как эти комнаты достаточно неплохо сохранились. На втором этаже три спальни и кабинет отца были отделаны красным деревом, и были восстановлены реставраторами Эрмитажа, с которыми когда-то работал Берестов.
Было в этом особняке еще одно помещение, вызывавшее у отца особые чувства – винный погреб под тяжелыми кирпичными сводами первого этажа. Здесь одну стену заменял кусок скальной породы, и температура круглый год составляла пятнадцать градусов выше нуля. Всё детство детям было запрещено спускаться в погреб, и Мира улыбнулась, вспомнив, как они с Олегом однажды побывали там. В тот день они приехали из школы раньше, Мире было лет девять, Олегу – четырнадцать. Отца дома не оказалось, и они пошли на кухню чего-нибудь поесть. Дверь в погреб, обычно запертая на ключ, на этот раз оказалась открытой. Они окликнули отца, но ответа не было. Осторожно ступая по каменным ступеням, они стали спускаться. Мира и сейчас помнила страх, который завладел ей. Олег поддерживал его, рассказывая про крыс и мышей, ожидающих их внутри. Но Мира больше боялась, что отец рассердится, и им здорово влетит. Внизу горел красноватый свет, они медленно спустились до конца лестницы и увидели небольшое помещение, вдоль трех кирпичных стен которого располагались полки с лежащими на них пыльными бутылками самых разнообразных форм и размеров. На отдельном стеллаже Мира рассмотрела необычные глиняные вазы, запечатанные чем-то красным. Четвертая стена была попросту скалой с неправильными, природными линиями, а под низким потолком в углублении этой самой скалы располагался необычный светильник, который и наполнял погреб жутковато-красным светом. Его даже нельзя было назвать светильником, потому как казалось, что это просто сам камень светится изнутри. На его поверхности тускло мерцали белые прожилки, а прямо под ним Мира рассмотрела небольшое углубление круглой формы, размером с небольшое яблоко. Олег дотянулся до камня и провел пальцами по поверхности. Больше в погребе ничего интересного не оказалось. Они так и не поняли, почему отец запрещает им сюда спускаться, но договорились ни о чем его не спрашивать.
– Приехали, меломан! – Олег припарковал машину на улице, и они поднялись по хорошо знакомому мраморному крыльцу. Мира набрала код на двери, и они вошли внутрь.
ГЛАВА 4
Наши дни. Санкт Петербург.
Отец ожидал их в холле. Он сидел в огромном кожаном кресле, на столике перед ним стояли легкие закуски и хрустальный графин с коньяком. Облако сигарного дыма поднималось к потолку, наполняя комнату запахом дорогого табака. Роман Сергеевич был одет в безупречного покроя белую сорочку с серебряными запонками и темно-синюю костюмную пару – брюки и жилет. Крупный узел галстука был слегка расслаблен, пиджак висел тут же, на спинке тяжелого дубового стула. Берестову шел семьдесят первый год, но Олега всегда удивляло его здоровье. Отец имел пружинистую походку, прямую осанку без признаков какого-либо физического старения, запросто мог выпить добрую бутылку коньяка за разговорами и курил доминиканские сигары одному ему известной марки, которые и брал тоже невесть откуда. Пока они с Миркой были маленькими, курил отец только у себя в кабинете, оборудованном специальной вытяжкой, теперь же, когда дети разъехались, ограничивать себя больше не имело никакого смысла, поэтому в стены, корешки книг и обивку мебели давно въелся терпкий запах его вредного пристрастия. Олегу это не очень нравилось, Мирка же наоборот, находила этот запах благородным. Роман Сергеевич давно поседел, но не поплюгавел, как часто бывает с годами, а наоборот, сделался роскошно-серебристым. Борода «Гарибальди», аккуратно подстриженная и ухоженная, благородно очерчивала умное, смуглое лицо Берестова. Руки, уже давно покрытые небольшими пигментными пятнышками, были еще крепкими. Безымянный палец правой руки, в которой отец держал сигару, украшал небольшой перстень из белого золота с крупным аметистом. Вид антиквара был шикарен. Он положил сигару в пепельницу, улыбнулся и поднялся навстречу детям. Миру, с которой они не виделись почти год, отец обнимал особенно долго, поглаживая и прихлопывая её по спине. Когда он, наконец, выпустил её из своих рук, Олег увидел слезы на самом дне старческих глаз. Затем Берестов обнял и так же долго не отпускал сына. «Постарел, стал сентиментальным», пронеслось в голове. Только сейчас Олег заметил, как всё же он сдал.
– Идемте к столу! Катерина утку в духовку поставила, я её отпустил, – он посмотрел на часы, – через сорок минут нужно вынуть, Мирочка, ты не забудь, я ведь могу…
– Конечно, пап, – улыбнулась Мирка, – не переживай. – Лучше расскажи, как себя чувствуешь? Как жизнь?
– Да всё слава Богу! У меня то, у старика, какие могут быть новости? Вы лучше расскажите, чем живете? – Отец опустился в кресло, откинулся на спинку и вновь обрел вид благородного английского лорда на заслуженной пенсии.
– Так о наших делах ты тоже все знаешь, – усмехнулся Олег, наливая в бокалы коньяк. Он вопросительно посмотрел на Мирку.
– Мне вина. – Она кивнула на бутылку тосканского.
– По телефону ведь каждый день разговариваем, – Олег подал отцу бокал, – давайте за встречу понемножку!
Берестов поставил бокал на стол и поднялся. Мира заметила по подрагивающим рукам, что он волнуется. Внутренняя тревога, поселившаяся внутри с того момента, как она увидела отца, понемногу усилилась. Он никогда не выказывал при детях даже намека на взволнованность. Его спокойствие, зачастую принимавшееся не знающими его людьми за безразличие, было чертой, определявшей основу характера. Берестов никогда не паниковал, не спешил, не принимал необдуманных решений. Что же сейчас могло его так взволновать?
– Выпьем после, сынок. Сперва мне нужно вам кое-что показать. Пойдемте.
Олег с Мирой переглянулись. Мирка пожала плечами в знак того, что тоже ни черта не понимает. Они прошли вслед за отцом по коридору, он отпер дверь в погреб, щелкнул выключателем и на лестнице зажегся свет. Олег приложил палец к губам, давая Мире понять, что не стоит рассказывать отцу, что ничего нового они в этом погребе не увидят.
Внизу оказалось всё по-прежнему. Комната, освещенная тем же каменным светильником, те же полки, заставленные бутылками. Мире показалось, что глиняных амфор прибавилось, и под потолком теперь висела вяленая кабанья нога и две большие сырные головы. Берестов обернулся к ним:
– Как вам красный свет? Не раздражает?
– Да вроде нет, обычный свет, – Мира не понимала, что старик задумал.
– Вы сейчас издеваетесь? – Олег вопросительно смотрел на них и улыбался. Мира отчаянно ничего не понимала.
– Что не так, сынок? – Берестов поднял ладони вверх. В его голосе слышалась надежда.
– Что не так?! – Олег рассмеялся. – Всё прекрасно, пап, только свет здесь зелёный! Раньше был красный, а теперь – зеленый!
Теперь засмеялась и Мира.
– Берестов, ты проболтался!
– Я знаю, что вы здесь уже были, – тихо проговорил отец. – Значит, всё же кровь… – Последние слова он произнес почти шёпотом и ни Олег, ни Мира их не услышали.
– Пусть проболтался, теперь-то уж чего скрывать? Я еще хотел сразу спросить, зачем свет поменял? Красный был более таинственным.
– Берестов, он и сейчас красный!
– Зеленый! – Он потянулся к светящемуся в стене камню.
– Не трогай! – прикрикнул старик, и Олег машинально отдернул руку. – И не спорьте, – остановил их отец. – Не спорьте, потому что вы оба правы, – он вздохнул с облегчением. – А теперь, пойдёмте, выпьем! Нам предстоит длинный разговор.
В гостиной сигарный дым давно развеялся, они сели за большой круглый стол и чокнулись наполненными бокалами. Коньяк уютно согрел внутренности, с минуту отец собирался с мыслями, как будто не зная, с чего начать, наконец, кашлянул, вздохнул и поднялся, опустив руки в карманы брюк. Затем отстраненно глядя в окно, начал:
– Всё, что я вам сейчас расскажу, дети мои…… в это очень нелегко поверить. Но вы поверьте! Мне семьдесят один, я никогда не давал вам повода усомниться в трезвости моего ума. Я понимаю, что всё рассказанное мной выйдет за рамки каких-либо научных теорий, и даже, возможно, здравого смысла, тем не менее… То, что вы сейчас видели, а именно, подвал с куском скалы и камень… Это портал в прошлое.
Олег подавил вздох и кашлянул.
– В девяносто втором году я работал в Эрмитаже, в реставрационном отделе. В этот особняк, – Роман Сергеевич обвел глазами пространство, – нас послали на оценку объёмов работ. Тогда эти стены принадлежали городу. Особняк находился в плачевном состоянии, многое было разорено и утрачено. Я спустился тогда в подвал. От электрической сети дом был уже отключен, но на мое удивление, подвал был освещен зеленым светом…
– Зеленым? – переспросила Мира.
– Именно! Поймите моё состояние, тогда, в девяносто втором… Я – реставратор, хожу по пришедшему в упадок прекрасному когда-то особняку, и все мои мысли лишь о том, как же было здесь красиво! Я представляю в своем воображении, какая отделка была здесь в тысяча восемьсот четвертом – этот год написан на фронтоне, и тут спускаюсь в подвал, вижу камень, излучающий свет… – Берестов остановился и повернулся к детям, затем глаза его ожили, он достал руки из карманов и сел за стол. – Я положил на камень ладонь и почувствовал тепло… На моем предплечье, вот здесь, – он похлопал себя по внутренней стороне предплечья, – появились светящиеся зеленые цифры, 11-59-59 и буква «N». Я отдернул руку от камня, но они не пропали. Они начали обратный посекундный отсчет. Сказать, что я был напуган, значит промолчать. Я услышал наверху голоса! В ужасе поднимаясь по лестнице, я понял, что она новая! Стены тоже были только что выкрашены. Когда я появился на кухне, меня приняли за приказчика из продовольственной лавки, на кухню как раз выгружали продукты. Я оказался в тысяча восемьсот четвертом! Мне вручили семнадцать рублей с полтиной и провели через эту самую гостиную к выходу. – Он вновь обвел глазами пространство. – Сейчас вы видите всё в первозданном виде.
Олег не знал, как относиться к рассказу отца. Верить в него было делом сомнительным, не верить – глупым, учитывая отцовское предисловие. Он решил послушать дальше. Миру же рассказ Берестова заинтересовал. Она не выказывала никаких терзаний разума, по крайней мере, внешне.
– Я вышел на улицу. Мимо проехал экипаж, я помню, как до меня долетели брызги воды из-под колёс, и я окончательно понял, что это не сон и не обморок. Цифры на моей руке продолжали свой отсчет, и сначала я был уверен, что непременно умру, как только на руке останутся нули. Я решил посмотреть город, – отец опять встал и заходил вокруг стола, он жестикулировал, улыбался и выглядел счастливым, – и почти бегом понесся по Кожевенной линии. В винном городке я видел огромные бочки, которые разгружали с подвод и катили по двору, а проходя мимо сахарного завода, спросил у рабочих дорогу к Александровской колонне, до постройки которой было еще тридцать лет, – он рассмеялся заразительным смехом, и Мира поняла, что он жил ТАМ, в прошлом. – Я видел на Неве парусники! Красавцы на белых, надутых ветром крыльях, неслись в залив. Ни Дворцового, ни Благовещенского мостов еще нет, зато я видел Исаакиевский, понтонный! Вся река в перевозах, я нанял лодку до Адмиралтейства и весь день гулял вдоль набережных рек и каналов! К вечеру время моё заканчивалось, и я не знал, что будет дальше. Я брел по мостовой, когда внезапно меня по спине ожёг кнутом кучер, под экипаж которого я чуть было не попал! Боль была дикая, и я схватил с дороги булыжник, намереваясь бросить его в карету, но в этот момент в глазах моих произошла вспышка, и я вновь очутился в подвале этого особняка. В моей руке был булыжник, а подвал также освещался зеленым светом. Я услышал голос своего напарника-реставратора, он спускался за мной и проклинал тусклый КРАСНЫЙ свет…
– То есть, – спросила Мира, – кто-то видит свечение красным, а кто-то зеленым?
– Да, это так. Я мог относиться к своему путешествию как к бреду, наваждению, но у меня в руках был булыжник! Стало быть, я не только могу перемещаться, я могу переносить предметы…
– Постой, – Олег наконец отбросил свой скепсис и начал потихоньку понимать происходящее, – так ты после этого сделался антикваром?
Отец одобрительно улыбнулся, и кивнул головой.
– Время для антиквариата тогда было благодатным. Я тайно приходил в этот подвал и получал всё новые и новые лоты для продажи. Очень быстро я разбогател. Мне нужно было быть осторожным, и я не занимался шедеврами искусства, археологическими фолиантами и редкими древностями. Спустя пару лет особняк был выставлен на продажу. Я не мог его упустить, и выкупил его с торгов. Дальше вы понимаете?
– Ты открыл целый магазин… – Мира сосредоточенно смотрела на отца. – Но подожди, там, сколько я себя помню, были совершенно обыкновенные вещи, просто старые, но в отличном состоянии. – Мира, как опытный уже специалист, перебирала в памяти все предметы, которые в магазине знала наизусть, но не могла понять, как на них можно заработать. Образ жизни отца, их с Олегом обучение в лучших университетах, поездки за границу… Таких денег невозможно было заработать лишь частными консультациями.
– Даркнет. – Олег сделал глоток коньяка и отправил в рот кусочек темного шоколада. – Я думаю, ты торгуешь в даркнете. И совершенно другими вещами.
Роман Сергеевич одобрительно закивал головой и улыбнулся.
– Всё верно. Двадцать лет назад у меня было несколько проверенных коллекционеров, которые не спрашивали о происхождении товара, и щедро платили за него. Потом это стало слишком опасным, но появился даркнет. Место, где анонимные пользователи связываются друг с другом, и избавлены от государственного вмешательства в свои дела. Весь теневой бизнес пользуется такими же теневыми ресурсами для поиска клиентов и проведения анонимных сделок. – Берестов достал из кармана футляр с сигарой, обрезал конец и прикурил от длинной спички. – Антиквариат не явился исключением, все эти Christie’s и Sotheby’s14 торгуют легально приобретенными предметами, прослеживают их историю и изрядно удорожают сами лоты. Причем, торгуют не всегда самым востребованным. Думаю, не открою для вас секрета, что существует черный рынок предметов искусства, где продаются вещи, считающиеся утраченными в результате войн, пожаров, стихийных бедствий…. Но многое из этого попросту находится в частных закрытых коллекциях.
– Но это же… незаконно…
– В нашей профессии добрая половина сделок незаконна, Мира. Я начал работать с частными заказами. К примеру, я продал «Шторм на Галилейском море» Рембрандта анонимному заказчику. Правда, для этого мне пришлось поучаствовать в ограблении Бостонского музея, – старик усмехнулся и выпустил в потолок струю густого дыма.
– «Шторм на Галилейском море» был украден в числе прочих картин, кажется, в девяносто первом? – Мира ошарашенно глядела на Берестова.
– В девяностом. С тех пор следов похищенных полотен найти не удалось. Рембрандт, Моне, Вермеер, Дега, в общей сложности пропало тринадцать картин. Я изучил все детали того ограбления. Время, замысел, схему музея. Двое грабителей приехали в музей ночью под видом полицейских. Связали двоих охранников и вычистили экспозицию. Зная подробности, мне осталось только появиться там чуть раньше настоящих грабителей, в промежутке между нейтрализацией охраны и самим ограблением. Что я и исполнил. Я появился в зале, когда сигнализация была уже выключена, преспокойно забрал то, что мне было нужно, и спрятался с картиной в другом зале. По истечении времени на руке, я опять очутился в погребе. Представляю шок этих ребят, – он опять удовлетворенно засмеялся, – думаю, они до сих пор гадают, как такое могло произойти?
– Но ведь тебя могли поймать! – Олег не верил своим ушам.
– Я ничем не рисковал. Просто время кончилось бы в полицейском участке, и я все равно вернулся бы в подвал.
– Но зачем так сложно? Можно ведь вернуться во время, когда Рембрандт только закончил картину и забрать ее, не рискуя!
Отец хитро подмигнул сыну:
– А сам-то не понимаешь?
– Во времена Рембрандта «Шторм на Галилейском море» еще не был никаким шедевром живописи, – тихо проговорила Мира, – стало быть, ничего не стоил. Если бы отец забрал его тогда, в наше время о нем бы никто даже не слышал.
– Браво! – старик поощрительно похлопал в ладоши и улыбнулся. – У времени есть свои законы. Если что-то изменить в прошлом, то изменится и настоящее. Нужно быть очень аккуратным. Закон кругов на воде, кинув камень в воду, нужно быть готовым к шторму на другой стороне океана.
– Что же поменялось, отец? – Олег пока решительно не понимал, почему именно сейчас их с Мирой посвящают в эту фантастическую, невообразимую еще вчера, историю.
– Две недели назад я перемещался в тысяча триста седьмой год. Это не было заказом, я хотел подержать в руках знаменитую Чашу Христа. Её перевозили в один из замков тамплиеров на западе Испании. В древность и средневековье перемещаться всегда было удовольствием! Люди там полны суеверий и богобоязненны! Мне хватало фокусов со световыми гранатами или вспышкой магния, дымовые армейские шашки тоже прекрасно подходили для того, чтобы человек, укрытый широким балахоном, смог сойти за Вельзевула, всадника Апокалипсиса или, на худой конец, Харона15. Для особо сложных случаев я имел с собой девятизарядный Глок16. Но в этот раз всё пошло не по плану. В самый неудачный момент у меня случился приступ. Проклятый камень в почке зашевелился, и меня скрутило так, что я уже попрощался с жизнью. Я гадал, что же скорее меня убьёт, дикая боль в пояснице или огромный крестоносец, занесший для удара меч. Меня спасло лишь одно – я знал имя их магистра. Я назвал его и наболтал им многое из того, что ждало рыцарей ордена в будущем. Меня заковали и бросили в темницу, дожидаться допроса и пыток, где и кончилось моё время. Я благополучно вернулся в свой уютный погреб, где мучился от боли еще несколько часов. Вот, – он засучил рукава рубашки, и Мира с Олегом увидели огромные синяки на его запястьях, – это память о кастильском магистре ордена Тамплиеров Родриго Янесе.
Старик затушил сигару о дно большой пепельницы и сделал глоток коньяка. Затем поправил ладонью бороду и продолжил:
– На этом мои злоключения не окончились. Спустя несколько дней, когда я почувствовал себя вполне здоровым, я вновь спустился туда… Только теперь камень светится красным светом и перемещение невозможно. – Берестов опустошенно откинулся на спинку стула.
– Погоди… Ты хочешь сказать… Ты хочешь сказать, что перемещаться во времени может лишь тот, кто видит зелёное свечение?! То есть… Я?! – Олег удивленно выпучил глаза и вопросительно посмотрел на отца.
– Не спрашивай меня, как это всё работает, и по какому принципу выбирается, – сухо отрезал Берестов. – Я не знаю. Предполагаю, что по крови, ты мой родной сын, всё-таки. Я знаю одно – теперь я вижу камень красным, и не могу перемещаться.
Мира опустила глаза.
– Выходит, – задумчиво проговорила она, – теперь у тебя, брат, появилась возможность путешествовать во времени. А как это всё технически происходит? Нужно положить руку, и?
– Путешествовать можно не во времени, а только в прошлое. Я не знаю почему. Технически все просто, кладешь руку на камень и концентрируешься на времени и месте, в которое хочешь отправиться. Чем подробнее представляешь в голове место назначения, тем точнее перемещаешься. Время, на которое ты туда «уезжаешь», всегда одно и то же, – двенадцать часов.
– Ты чего-то не договариваешь, отец. – Олег встал, обошел стол и присел рядом с креслом отца на корточки, заглянув ему прямо в глаза. – Что ты задумал?
В глазах старика заблестели слезы.
– Простите меня… – Пальцы его тряслись. – Я хотел обеспечить вас на всю жизнь…
– Пап, что случилось?! – Мира положила ладонь на руку старика.
– Я вложил все свои деньги в ценные бумаги… И еще оформил кредит под залог этого дома и магазина. Компания, в которую я вложился, вчера объявила о банкротстве. Это были мошенники. Через два месяца, если не вернуть долг, банк заберет дом и магазин. – Он смотрел в одну точку, глаза его блестели. – Но теперь у нас есть шанс все вернуть!
– Каким образом, пап? – голос Олега был еле слышен.
– Мы продадим «Портрет молодого человека»!
У Миры возникло ощущение, что все это происходит не с ней. Отец, долгие годы служивший ей образцом деловой этики, хладнокровия, порядочности, дальновидности и спокойствия, вдруг в один день оказался человеком, склонным к финансовым авантюрам, наживе на продаже предметов искусства, человеком весьма вольных взглядов на законность и, наконец, продавцом краденного. И, как теперь выходило, она сама будет вынуждена принять непосредственное и деятельное участие в очередной отцовской затее. Ну не может же она, в конце концов, оставить всё как есть. Она вздохнула и подняла голову:
– Полотно Рафаэля Санти. Утеряно в Линце в тысяча девятьсот сорок пятом году. Оценочная стоимость неизвестна, по разным данным варьируется от двадцати до восьмидесяти миллионов долларов.
– Прошу, послушайте себя, – Олег прикрыл глаза, – ну послушайте вы себя! Вы хотите, чтобы я вернулся в сорок пятый в Германию и забрал у нацистов какую-то картину? – Больше всего Олега удивляла Мирка, точнее, её ледяное спокойствие. Казалось, ничего необычного отец ей и не рассказал. Подумаешь, машина времени, нацисты, картины, чаша Христа!
– Линц находится в Австрии.
– Да знаю я! Знаю, где находится этот чертов Линц! Австрия в сорок пятом была территорией Рейха после аншлюса, если ты не знала!
– Я подобрал все материалы, документы архивов, ты будешь знать всё по максимуму, сынок.
– К тому же ты историк, а какой историк откажется заглянуть за кулисы Второй мировой? – Мирка ехидно усмехнулась.
– Спелись…
Мира вновь залилась своим девичьим смехом, спустя секунду рассмеялся и Олег. Берестов вновь вздохнул, на этот раз облегченно. С кухни потянуло гарью.
ГЛАВА 5.
Наши дни. Италия, Монтекассино.
Дорога, ведущая к вершине скалистого холма, на котором возвышался монастырь, петляла между деревьями. Хейт Леваль, пятидесятилетний профессор Флорентийского университета, сидел за рулем новенького кабриолета BMW M4. Ветер приятно трепал густую шевелюру тёмных волос, еле тронутых сединой, приемник разливал по салону приятный голос Adele, однако настроение оставалось паршивым. Леваль бросил взгляд на часы – четырнадцать тридцать. Значит, у него есть ещё около получаса. Кардинал Фурье назначил встречу в пятнадцать. Отлично, значит, можно ещё успеть выпить кофе. Он оставил машину на паркинге и быстрыми шагами пересек площадку перед входом в монастырь, c огромными буквами PAX17 над воротами, но не стал входить в арку, а свернул направо, к решётке сада, затянутой диким виноградом. Леваль приложил карту к считывателю, калитка открылась, и он вошёл на закрытую территорию монастыря.
С этими древними стенами была связана вся его жизнь. Его мать, Мари Леваль, родилась в тысяча девятьсот тридцатом в Кассино, городке, лежащем сейчас внизу, у подножья холма. В шестьдесят пятом монастырь открылся после реставрации, и Мари стала работать в экскурсионном отделе. Спустя восемь лет она родила сына – невероятной красоты маленького ангела с глазами разного цвета, один голубой, как вода Эгейского моря ранней осенью, второй – зелёный, цвета листвы весенней оливы. Это называлось гетерохромией, Фурье утверждал, что Господь послал мальчишку в награду Мари за службу во благо святой Церкви.
Маленький Леваль рос в Кассино и беззаботно прожигал дни, посещая школу, катаясь с друзьями на велосипеде по окрестностям, и забавляясь в бесконечные дворовые игры, пока в четырнадцать мама не познакомила его с аббатом, который сумел разжечь в маленьком мальчишке искреннюю любовь к живописи, архитектуре, истории и религии. Хейт быстро постигал тайны создания предметов искусства, и к двадцати трем годам без труда окончил Флорентийскую академию изящных искусств, где и остался работать на кафедре Античной архитектуры. Впрочем, главную тайну в своей жизни он узнал только в двадцать девять. В тот день ему сообщили, что у матери случился инсульт. Он примчался в Кассино утром, как только подвернулся первый же поезд. Маме выделили отдельную спальню в монастыре, и Хейт долго не мог понять, почему её не отправили в госпиталь. Однако же бригада докторов, оборудование и медикаменты были привезены сюда же. Фурье к тому времени был уже кардиналом, и прибыл в Монтекассино спустя час после Хейта. Мама находилась без сознания, Фурье имел озабоченный вид, и Хейт решительно ничего не понимал. Спустя час, кардинал, наконец, видимо, принял какое-то решение, потому что пригласил Леваля следовать за ним. Они пересекли двор настоятеля и вошли в базилику, далее, к удивлению Хейта, кардинал открыл в одной из ниш потайную дверь, и они начали спускаться вниз, в крипту18. Внизу располагалось небольшое помещение, освещенное странным зелёным светом… Ещё более странным прозвучал вопрос Фурье. Кардинал спросил, какого цвета Хейт видит расположенный на скальной стене светильник? Получив ответ, он одобрительно кивнул головой, и они прошли в соседнее помещение, расположенное за ещё одной потайной дверью. Здесь, как позже узнал Леваль, долгие годы работала мама. Стены были сплошь заставлены полками с толстыми накопительными папками, имелась алфавитная картотека, небольшой кожаный диван, стол, на котором красовался новенький компьютер и два телефонных аппарата. Фурье опустился на стул и знаком пригласил Леваля сесть напротив. Он немного помолчал, перебирая длинные кардинальские четки из полированного сердолика, затем начал рассказ, который навсегда изменил жизнь Хейта.
Монастырь Монтекассино был основан в шестом веке Бенедиктом Нурсийским, как это часто бывало, на руинах языческого храма Аполлона. За свою долгую историю, это место не раз подвергалось разорению и разграблению самыми разными народностями, от лангобардов до сарацин. Достоверно не известно, когда и при каких обстоятельствах в крипте монастыря был обнаружен портал, позволяющий перемещаться во времени. По каким качествам и признакам подбираются люди, способные взаимодействовать с камнем, излучающим для них зеленый световой спектр, тоже было неизвестно. Ясно было одно, камень «принимает» Хейта, как принимал до того его мать, Мари, и его деда, Шарля Леваля, погибшего здесь в сорок четвёртом году при бомбардировке Монтекассино авиацией союзников. Выходило, что способность пользоваться порталом напрямую передавалась по крови. Погибший Шарль Леваль был многолетним Архонтом «Южных Врат», как назывался монастырь во внутренних документах Ватикана. И именно Шарль Леваль продвинулся в вопросе изучения портала максимально далеко. До Второй мировой войны в скалистой стене крипты было два камня, Архонт называл их «Созерцатель» и «Деятель». Первый светил Хейту зеленым светом и сейчас, второй же, вплоть до февраля сорок четвертого располагался в нише, вырезанной чуть ниже первого. Кроваво-красный, с янтарными прожилками и размером с крупное яблоко, этот второй камень был Ватиканом утрачен. И произошло это благодаря самому Архонту. Шарль был крайним антагонистом идей фашизма и нацизма. В конце тридцатых, понимая, куда заводит Европу политика, он, не желая, чтобы «Деятель» попал в руки Муссолини или Гитлера (Анненэрбе19 тогда ещё усердно прочёсывало всю Европу в поисках тайных знаний и артефактов, и это было хорошо известно Шарлю), задумал его надежно спрятать, и создал систему тайных указателей на случай непредвиденного. В феврале сорок четвертого года во время налёта авиации союзных сил, монастырь был превращён в кучу пыльных обломков. Впоследствии, при разборе завалов, среди почти двух сотен погибших было обнаружено тело Архонта, которого опознал один из монахов-бенедиктианцев. Своды крипты уцелели. Уцелела и стена со светящимся теперь красным светом «Созерцателем». «Деятель» исчез. В то время для Ватикана в одной точке сошлось слишком многое – разруха послевоенных лет, неразбериха в высшем политическом руководстве страны, нехватка средств на восстановление монастыря и потеря Архонта и «Деятеля». Только спустя двадцать лет Монтекассино был отреставрирован, хотя точнее было бы сказать отстроен с нуля, и на вершину этого холма вернулась монастырская жизнь. Аббат Фурье, тогда еще совсем молодой человек, был назначен сюда настоятелем. Являясь по природе человеком подвижного ума и обладая прекрасными способностями организатора, он вдохнул в Монтекассино жизнь. Спустя два года Фурье узнал, что у Шарля Леваля в Кассино осталась родная дочь, которую он незамедлительно разыскал. Аббат понял, что она видит «Созерцатель» зелёным, как только показал ей стену крипты. Так Мари Леваль, мать Хейта, на сорок семь лет сделалась новым Архонтом. Всё это время Фурье и Мари посвятили поискам «Деятеля». Всё это время их поиски ни к чему не приводили. Сам камень был окутан слухами, которые и сейчас казались Хейту нуждающимися в подтверждении. Уж слишком фантастическими они были. Хотя можно ли говорить о фантастике, имея у себя в офисе портал в прошлое?
Мама после инсульта прожила два с половиной года. Половина её тела до конца дней осталась парализованной, также она потеряла способность говорить. Её похоронили на монастырском кладбище осенью две тысячи первого. Хейт стал новым Архонтом Южных Врат, а кардинал Фурье сохранил пост доверенного лица папы и куратора Архонта. За прошедшие двадцать лет, Хейт вернул в папскую сокровищницу множество утраченных ценностей и реликвий. Библиотека и музей Ватикана пополнились сотнями бесценных рукописей, планов реставраций с исторически достоверными снимками, ценнейшими древними манускриптами и трактатами. За эти годы Хейт Леваль по-иному взглянул на церковь. Под покрывалом благости, миролюбия, христианского прощения, милосердия и бесед о спасении души скрывалась алчность, жажда абсолютной власти, наживы и, увы, плотские наслаждения и такие незамысловатые, такие простые человеческие желания, что все эти обряды, одеяния, рясы, сутаны и ризы вызывали в нем лишь кривую усмешку. Искренне служить Святому престолу как-то не получалось. Не давали это сделать отвратительные картины творимых Церковью изуверств. Хейт своими собственными глазами видел разграбление Иерусалима, он возвращался туда четыре раза, в разные периоды и разные по счету Крестовые походы и по несколько дней отходил потом от увиденного. Дикая жестокость рыцарей креста распространялась не только на воинов-мусульман, но и на их семьи, простых горожан, и даже на семьи православных христиан. Так было при взятии Константинополя в тысяча двести четвертом. Хейт помнил и шокирующий любого нормального человека детский Крестовый поход, инициированный Папой. Тогда тысячи детей, собранных со всей Европы, погрузились на корабли и отправились в Святую землю, но оказались в Алжире, на рынке рабов. Архонт не раз наблюдал и сожжение на костре – эту страшную смерть, дарованную папской инквизицией. Он не мог забыть дикие крики людей, обгорающих заживо и тяжёлый, въедливый запах горящей человеческой плоти. Были у Ватикана и чисто экономические аферы. Продажа индульгенций в личном списке претензий Архонта к Церкви занимала почетное первое место. Эти бумаги, пополнявшие карманы духовенства золотом, особенно широкое распространение получили в момент строительства собора Святого Петра, этого монумента могущества Ватикана. На постройку собора, спроектированного величайшими умами своего времени, попросту недоставало денег. Поразительно, но такое случалось даже с Папой. Решение было простым и привычным – прихожанам стали продавать бумажки с дарованными отпущениями грехов в немыслимых количествах. Какое отношение эта финансовая операция имела к Богу, для Леваля было не то, чтобы загадкой, скорее, причиной его ментальных разногласий с Церковью. Зачем же он служил Ватикану? Хейт давно уже ответил себе на этот вопрос. Причины были две. Одна называлась «Созерцатель», вторая – «Деятель». Первая помогала ему в его научной деятельности, способствовала взлету карьеры и, в конечном итоге делала его тем, кто он есть сейчас. Вторую еще предстояло найти. Хейт Леваль твердо верил, что рано или поздно это случится. А тогда…. Тогда станет ясно, что могут дать ему возможности «Деятеля».
Хейт вновь приложил к считывателю карту. Дверь в крипту открылась, он спустился по лестнице, привычно прошел мимо мерцающего в полумраке «Созерцателя» и отпер дверь в офис. Здесь он точным движением нажал кнопку кофемашины, скинул с плеч пиджак и развалился в кресле. С того момента, как Хейт занял офис матери, здесь многое изменилось. Теперь все папки и каталоги, составленные Мари, были давно оцифрованы и с полок исчезли. Их место заняла дорогостоящая аппаратура, несколько крохотных экшн-камер, электрошокер, восьмизарядная Беретта20, пара электрических фонариков и складной нож с десятком разных лезвий, выполненных на заказ в Швейцарии. Беретта путешествовала с ним всегда, но была самым последним методом для самых крайних случаев, когда угроза жизни Архонта становилась очевидной. В бумагах матери он нашел несколько записей о «Созерцателе». В числе прочего, Мари писала, что камень закрывает портал для тех, кто совершил в прошлом убийство, а Хейт не собирался так глупо упустить бесценные возможности. Название «Созерцатель» говорило само за себя, и Леваль старался оказывать на ход событий прошлого минимальное влияние.
Самую нижнюю полку занимал ящик с дымовыми шашками и осветительными ракетами. Табличка на полке говорила об ироничном характере хозяина офиса. «Средневековые спецэффекты». Особой гордостью Хейта была костюмерная – он освободил под неё помещение старого архива. Здесь за долгие годы было собрано более пятисот самых разных комплектов одежды. Архонт предпочитал перемещаться простолюдином, когда иного не предполагал характер поставленной цели, но здесь были и весьма экзотические наряды знати, от тоги римского консула, до майорского мундира вермахта.
Кофе был готов, Леваль взял чашку, сделал приличный глоток и посмотрел на своё отражение в зеркале. С минуту он разглядывал радужку правого, голубого зрачка, медленно поворачивая голову то вправо, то влево, наконец, подмигнул себе левым, зелёным глазом и усмехнулся. Интересно, зачем притащится Фурье? Хейт, разумеется, был благодарен кардиналу за самое живое участие в его воспитании, но давно пришел к выводу, что все долги уплачены с лихвой и кредитный счет к нему со стороны Святого престола закрыт. Четырнадцать – пятьдесят пять. Пора. Он поставил на стол пустую чашку, на ходу подхватил пиджак и вышел из офиса.
Кардинал ожидал Хейта во Дворе Браманте, у мраморного фонтана. Леваль издалека увидел слегка сгорбленную старческую фигуру Фурье. Седые, давно прореженные возрастом волосы, слегка тревожил прохладный ветерок. Старик стоял спиной к Хейту, сегодня на нем был безупречный шелковый френч чёрного цвета. Принадлежность Фурье к духовному сану выдавал лишь белоснежный римский воротник-колоратка и массивные сердоликовые четки, с которыми кардинал не расставался. Он обернулся на звук шагов, узнал Леваля и улыбнулся:
– Здравствуй, Хейт!
– Здравствуйте, падре! Простите, что заставил вас ждать!
– Нет, нет, – покачал головой кардинал, – я приехал раньше, ты не опоздал.
– Что-то случилось? Вы нечастый гость в Монтекассино теперь, к сожалению.
– У меня есть для тебя кое-что. Но сначала расскажи мне о том, как продвигаются поиски «Деятеля».
Хейт чуть было не выругался. Старый идиот! Прекрасно знает, как продвигаются поиски. Если назвать всё одним ёмким словом, слово «никак» подойдет лучше всего. Старое, обвисшее лицо Фурье иногда зарождало в голове Хейта мысли о глубоком маразме старика. Или всё же дела хуже, и речь идёт уже о полной деменции? Леваль подавил приступ раздражительности.
– Вы ведь осведомлены о ходе поисков, святой отец. Все уцелевшие помещения Шарля Леваля тщательно исследованы ещё в шестидесятые, камень не был найден, очевидно, он спрятал его раньше и совсем не в монастыре. Учитывая его возможности, Архонт мог спрятать «Деятеля» где угодно, и в каком угодно времени. Однако он не мог не оставить подсказки, или ключа, как его найти. По крайней мере, я в это не верю. Он оказался в безвыходном положении. Понимая, что с высокой долей вероятности погибнет, он наверняка позаботился о сохранении «Деятеля». – Хейт повторял эту историю кардиналу, который задумчиво кивал головой с видом человека, впервые её слышащего. – Известно, что за два дня до бомбардировки в сорок четвертом нацисты вывезли из монастыря шестьдесят восемь предметов. Список этих предметов получила из канцелярии Ватикана еще моя мать, он хорошо известен. За эти годы мы исследовали все перечисленные в этом списке предметы, последний раз – с применением ультрафиолета и сканеров. Безрезультатно.
Леваль не стал напоминать кардиналу, сколько времени и усилий понадобилось, чтобы собрать все картины, статуи и предметы, вывезенные нацистами и разбросанные после войны по всей Европе, Фурье был обо всём осведомлен не хуже самого Хейта. Он молчал, перебирая бусины на четках и, казалось, мысли его витали над долиной, вид на которую открывался с роскошной лоджии Paradise21. Леваль тоже замолчал. Добавить к сказанному было нечего.
– Всё, что я сейчас тебе расскажу, должно умереть с тобой, – наконец начал кардинал. – Неделю назад папой была открыта часть архива Ватикана, касающаяся Второй мировой войны. Среди прочего, были документы учёта перемещённых нацистами ценностей. В одной из папок, полученных после войны от советского правительства, обнаружился лист перемещения двух полотен, одно кисти Микелеанджело, «Леда и лебедь», второе – «Портрет молодого человека» кисти Рафаэля Санти. Знаешь, откуда они были перемещены и кто значится в протоколе передачи полотен?
– Этого не может быть…
– Монастырь Монтекассино, Шарль Леваль.
– Но наш список…
– Первый список, – перебил Хейта кардинал, – был датирован четвертым февраля сорок четвертого, этот же протокол – пятым.
– То есть, – Хейт лихорадочно соображал, – Архонт сам передал нацистам картины…
– Его попросту надули, – хмыкнул Фурье, положив руки на перила белоснежной балюстрады и всё также глядя вдаль. – По протоколу первоначальное место перемещения – Ватикан, но ниже обозначено новое место – Краков. Ключ к разгадке местонахождения «Деятеля» может быть только в картинах, потому как всё остальное мы перерыли десятки раз.
– «Портрет молодого человека» работы Рафаэля считается утраченным в Кракове в сорок пятом, здесь все сходится, – задумчиво проговорил Леваль, – но до тридцать девятого года картина находилась в коллекции Чарторыйских, как она попала в Монтекассино?
– Хейт, – обернулся к нему лицом кардинал, – нас не интересует картина. Нас интересует «Деятель». Ты должен найти его. – Фурье достал из кармана брюк смартфон, и палец забегал по экрану. Спустя несколько секунд из кармана Хейта прозвучал звук сообщения. – Это фото протокола. Займись картинами, ключ должен быть найден! И держи меня в курсе. – Он вновь отвернулся, и Леваль понял, что разговор окончен. Он коротко кивнул, и уже было пошел обратно в офис, как вдруг кардинал его вновь окликнул:
– Хейт! Чуть не забыл… Что за камеры ты разместил в закрытом хранилище?
Леваль выругался про себя. Месяц назад он договорился со смотрителем библиотеки Ватикана об установке двух видеокамер в её закрытой части. И об этом должны были знать только они двое.
– Я проверяю одну из своих догадок, падре.
Фурье выпятил нижнюю губу. Это означало крайнюю степень недовольства.
– Расскажешь?
– Пока нечего, падре. Если будет результат, обязательно расскажу.
Кардинал кивнул головой и Хейт зашагал прочь.
ГЛАВА 6.
Наши дни. Москва.
Здание Главного Управления уголовного розыска имело четкую форму квадрата, и возвышалось в пять этажей над окружавшим его сквером. Дмитрий посмотрел на часы. Одиннадцать – сорок пять. Он ускорил шаг, перешёл дорогу и обогнул небольшую часовню, находящуюся с Управлением за общей изгородью. Это соседство всегда вызывало у Бажина усмешку. Он не был законченным атеистом, но за годы службы в уголовном розыске превратился скорее в «бродячего философа», как он сам себя называл. Служба делала людей, занимающих кабинеты за этими высокими стенами, адептами рационализма, именно поэтому часовня и воспринималась Дмитрием инородно.
– Кап…, – он запнулся, вспомнив, что уже четыре дня как майор. – Майор Бажин, мне к генералу Лебедеву. Назначено на двенадцать. – Он приложил к стеклу удостоверение.
Дежурный бросил взгляд на монитор, потом на фотографию в документе и нажал кнопку турникета.
Генерал Лебедев был старым другом отца. По окончании юридического института Дмитрий был распределён в один из райотделов города Омска, где и начал службу, состоящую из ночных дежурств, выездов на бытовые ссоры, в среде полицейских именуемых «кухонным боксом» и тихих корпоративных возлияний за запертыми дверями кабинета. Бажин был убеждённым противником всевозможных протекций и кумовства, поэтому никогда не обращался за помощью ни к отцу, ни к его московскому другу. Через полтора года службы он вдруг отчётливо понял, что даже малейшего просвета в его жизни в ближайшие годы не предвидится. Он даже помнил, как это произошло. В тот день он закончил дежурство и открыл сейф, в глубине которого поблескивала бутылка. Взгляд его упал на знакомую толстую папку. Он достал её из сейфа и аккуратно положил на стол. Это были его эскизы. Бажин перебирал каждый, бережно переворачивая листы, полные его надежд, мечтаний и интересов. Давние грезы о мире живописи и архитектуры и безуспешные попытки поступления в Институт искусств. Дмитрий сложил всё обратно и поехал домой. Тогда он единственный в жизни раз попросил отца о помощи. И отец помог. Бажин перевелся в Москву, в отдел по борьбе с хищениями культурных ценностей. Это были лучшие годы его службы. Здесь он понял, что работа может быть по-настоящему интересной. Молодой оперативник Бажин с удовольствием метался по заданию руководителя отдела то в архив, то в Третьяковку, то в таможенное управление. Дмитрий присутствовал при консультациях с экспертами-искусствоведами, знал несколько крупных арт-дилеров и жадно впитывал в себя информацию о рынке предметов искусства. Четыре года назад отдел был расформирован. Это известие стало одним из самых больших разочарований Бажина, стоящим в сознании вместе разве лишь с проваленными попытками поступления в институт. В уголовном розыске Дмитрий остался. Остался, не обращаясь к генералу Лебедеву и не пользуясь никакой протекцией, хотя многие из бывших сослуживцев покинули стройные ряды полиции. Тем удивительнее был вчерашний звонок генерала.
– Алло, Дима?
– Да, Николай Сергеевич.
– Приходи завтра к двенадцати в Управление, есть разговор. Пропуск выписал тебе уже.
– Есть, товарищ генерал-майор!
В приёмной обнаружилась секретарша, женщина без возраста и макияжа, хотя, возможно, первое вытекало из второго. Она поправила на носу тонкие очки без оправы, на секунду отвлеклась от монитора и кивнула на дверь справа:
– Добрый день! Проходите, вас ожидают.
Когда Бажин вошел, Лебедев подписывал какие-то бумаги. Он поднял глаза на Дмитрия и кивнул на стул:
– Садись.
С минуту он перелистывал страницы, почти не глядя подписывал, изредка покачивал головой. Бажин давно не видел Николая Сергеевича, последний раз они встречались еще у родителей, в Омске. К чести для генерала, Дмитрий не находил в нём особых изменений. Всё такой же подтянутый, с крепким торсом спортсмена и худоватым лицом аскета. Казалось, что напротив сидит не генерал и аппаратный работник, а ветеран подразделения спецназа. Наконец, он закончил и отложил бумаги в сторону, несколько секунд смотрел на Бажина, затем произнес:
– Ну, здравствуй, Дмитрий! Как родители? Как служба?
– Да все в порядке, товарищ генерал, родители всё также, служба…. Тоже хорошо, вы ведь знаете…
– Знаю, знаю, – рассмеялся Лебедев. – Начальство тобой довольно. Отец то ещё не на пенсии?
Бажин терпеть не мог пустых разговоров. Генерал и без него прекрасно знал, что отец ещё оперирует и на пенсию не собирается. Они часто созваниваются, и носителем новостей Дмитрий быть просто не в состоянии, Лебедев и без него знает все новости. Оставалось ждать окончания прелюдий, благо, что генерал сам скоро понял, что пора переходить к главному.
– Знаю, что ты скучаешь по работе в отделе по культурным ценностям, – он хитро прищурился, – не хочешь вернуться к этой теме?
– А что, опять собирают отдел?! – опешил Бажин.
– Нет, тут дело иного рода, – Лебедев взял в руки пульт и нажал несколько кнопок. Темные шторы закрыли окна, со стены спустился белый экран и заработал проектор. – Сейчас я тебе кое-что покажу. Но сначала предыстория. На прошлой неделе я встречался с руководителем французского бюро Интерпола. Как ты сам понимаешь, последнее время сотрудничества с этой конторой у нас как-то, мягко говоря, не получается… Но Поль – мой давний друг, когда-то мы очень тесно работали по нескольким эпизодам. Так вот, он обратился ко мне с очень интересным делом, которое официально вести нет никакой возможности. Месяц назад в аэропорту Парижа был задержан некий Фарук Халид, этнический сириец с французским паспортом. При нем было обнаружено вот это, – Лебедев нажал кнопку, и на экране появилось изображение.
– Яйцо Фаберже?
– Да, и не одно. Всего шесть штук. Пять из них – китайские сувениры, продающиеся на каждом углу, одно – подлинное.
– В чем же загвоздка? Подозреваемый у них, пусть крутят его…
– Загвоздка в том, что в мире существует около семидесяти яиц Фаберже, и все они находятся в музеях и коллекциях, история их происхождения известна. А это яйцо выполнено по заказу императорского дома Романовых и считается безвозвратно утерянным во время революции, наряду с еще восемью.
– Ну, такое тоже бывает. Были утеряны, нашлись.
– Все логично. Само изделие не украдено, потерпевших нет, этот Халид клянётся, что купил яйцо на блошином рынке. Но Поль берёт санкцию прокурора и едет на квартиру Халида с обыском. Квартира, кстати, в престижном первом округе Парижа. Роскошные апартаменты в триста квадратных метров. Там, среди прочего обнаруживает это, – он снова нажал на кнопку.
– Диадема.
– Это диадема Матильды Кшесинской, балерины императорского балета. Она была очень богата, члены императорской семьи и просто состоятельные господа на каждой премьере одаривали её драгоценностями. Летом семнадцатого она бежала из Петрограда. Ничего из её драгоценностей не найдено до сих пор. Экспертиза признала диадему подлинной. Далее вот это.
На экране появился самурайский меч.
– Знаменитый клинок Хондзё Масамунэ. Пропал после капитуляции Японии. Американская администрация приказала в сорок пятом населению сдать всё оружие. Японцы – люди дисциплинированные, притащили всё, что было. В том числе меч, которому более семисот лет. Меч пропал, и с тех пор таковым и считается.
– Считался, – вставил Бажин.
Генерал усмехнулся.
– Ты плохо знаешь европейцев. – Он щелкнул кнопкой. На экране появились великолепные гравюры. – Коллекция Бойманса-ван Бёнингена. Погибла в огне пожара в тысяча восемьсот шестьдесят четвертом. Подлинник.
– Кучно пошло.
– Гражданский кодекс Наполеона, – Лебедев переменил фото. – Написан собственноручно Бонапартом, впоследствии был неоднократно правлен комиссией по кодификации. Считался пропавшим после отречения императора. Подлинник.
– Что-то слабо во всё это верится, товарищ генерал, – Бажин скептически покачал головой, – а эксперты не могли ничего напутать?
– Все предметы прошли экспертизу Лувра, но Поль, как и ты, усомнился в их заключении, и затребовал проведения радиоуглеродного анализа. Это подлинники. Мало того, в компьютере Халида обнаружилось ещё много интересного. Книги, погибшие в пожарах, статуэтки, затонувшие на кораблях, вещи, утерянные при революциях, в результате войн, короче, полный набор. Посмотришь, файлы я тебе перешлю. Судя по информации с ноутбука, всё это было им продано за последние три года в разные части света. Трудность у Поля была одна, – поскольку у всех этих вещиц нет хозяина, Халида не за что и задерживать. Там и адвокат набросился, как мангуст на кобру, в общем, пахло неприятностями. Всё бы ими и закончилось, но в ванной комнате полиция обнаружила пакетик с кокаином. Халида арестовали на три месяца и передали дело в уголовную полицию.
Бажин не понимал, куда клонит генерал.
– А мы-то при чем?
– Поль отработал все передвижения Халида за последний год. Догадаешься, куда он летал каждую неделю?
– Неужели в Россию?!
– Петербург. Последнее время транзитом через Стамбул. Наркота это ерунда, вся богема через одного что-нибудь нюхает, этим никого не удивить. А вот откуда у этого товарища Халида вещи, давно пропавшие в разных концах мира, нам и нужно узнать.
– Как-то глупо выходит, человек дома хранит такие ценности…
– А чем он рискует? Их нет ни в каталогах, ни в списках перемещённых предметов искусства, без эксперта ни я, ни ты не отличим, к примеру, этот меч от качественного сувенирного, – он кивнул на экран. – Ничего из этих вещей к тому же не разыскивается.
– Допустим, этот Халид – чёрный арт-дилер, – Бажин задумчиво потёр подбородок. – Почему они его не могут потрясти, как следует? Теперь же есть за что.
– Пытались. Он молчит. Надеется на адвоката и молчит. Поль изъял его компьютер, там есть запароленная часть, специалисты работают, пока ничего. Как появится новая информация, мне сразу же сообщат.
– Мне будут нужны даты его приездов в Россию.
– Напиши вот здесь свою личную почту, – Генерал протянул Бажину листок бумаги. – Все, что есть по этому собирателю артефактов, я тебе отправлю. Если у Халида была связь с поставщиком, сейчас ее нет уже две недели, и не будет еще два с половиной месяца. Он должен заволноваться, и, возможно, сделает ошибку. Поскольку дела никакого нет, твоя работа должна быть негласной. Приказ о твоем откомандировании я подписал, на месяц ты мой, – он улыбнулся и хлопнул Дмитрия по плечу. – Старые контакты еще остались? Есть у кого осторожно поинтересоваться?
– В Третьяковке Лугин и Войцеховский, в Питере Берестов, думаю, поможет.
– Берестов? – генерал нахмурил брови. – Не знаю такого.
– Часто помогал нам раньше с оценкой. Только я пока не знаю, чем он может мне помочь в этот раз, – рассеяно пробормотал Дмитрий. – Все эти предметы не могут быть частью одного тайника или клада. Кто-то распродает свою коллекцию? Но откуда в ней столько утраченного? Причем, утраченного без криминала?
– Я рад, что задача тебе понравилась, – Лебедев встал и протянул Бажину руку. – Самолет на Питер в десять. Командировочные получишь в бухгалтерии. Удачи, майор!
ГЛАВА 7.
Наши дни, Санкт – Петербург.
Ветер с Финского залива полоскал на груди Олега футболку, разметал волосы на голове и облизывал загорелое лицо. Он смотрел вдаль на мрачные волны с белыми гребешками через дымчато-серые стекла солнечных очков, и молчал. Эту скамейку на набережной он облюбовал с детства, и приходил сюда, когда хотел побыть один. Отец не соврал. До самого последнего момента Олег думал, что это шутка, был готов к тому, что вот сейчас они с Миркой рассмеются и скажут, что это розыгрыш, что где-то здесь есть камера, которая снимала его полное недоумения лицо, и они тут же сядут за стол и забудут этот полный несуразностей разговор. Всё оказалось правдой. Как и говорил отец, положив на светящийся в темноте погреба камень свою ладонь, он ощутил тепло, волнами разошедшееся по всему телу, голова налилась невесомой пустотой, а тело перестало отвечать на сигналы мозга. Он очутился в некоем вакууме чистого сознания, где мысли могли вращаться только вокруг одного вопроса – «Когда?». Олег изначально выбрал дореволюционную Россию для своего первого перемещения. Дату – 18 июня 1916 года, выбрал случайно, отец посоветовал для начала не пытаться увидеть громких событий, уж тем паче войн, катаклизмов и катастроф. Как только Олег сконцентрировался на дате, он почувствовал, как тепло начало нарастать и в голове выкристаллизовался вопрос «Где?». Ответ также был готов заранее, и Берестов заставил себя представить Петровский парк.
Олег тысячи раз представлял себе, как выглядит перемещение во времени. Жар, раздирающие тело боли, немыслимые вспышки в бешеных от испуга глазах, огни, наплывающие откуда-то издалека… Всё, чем потчевал современного человека Голливуд и другие киношные студии, всё оказалось чушью! Как только Петровский парк занял его сознание, он почувствовал, что веки сами по себе сомкнулись, и тут же раскрылись. Появились отдаленные звуки, где-то простучали копыта по мостовой, мальчишеский голос кричал «Захвачены Черновцы! Читайте! Последние известия!». Он оказался в шестнадцатом! Как и говорил отец, на предплечье действительно появились цифры, показывающие обратный отсчет. Так же, как и отец, Олег весь день проносился по городу, жадно впитывая дух предреволюционного Петрограда. Время пролетело незаметно, и ровно через двенадцать часов все повторилось, тяжесть легла на веки и тут же свалилась, вернув Берестова в погреб отцовского дома.
Итак, это было немыслимо, но оказалось совершенной реальностью. Сколько же раз он представлял себе времена, в которых мечтал побывать! Посмотреть на строительство пирамид в Каире, или увидеть своими глазами блокадный Ленинград, Бородинское сражение, наблюдать пышный двор Людовика Четырнадцатого или казнь Марии Антуанетты на Площади Революции! А, возможно, даже момент распятия Христа? От этих мыслей по спине пробегала дрожь, а ладони стали влажными. На прохладном балтийском ветру стало зябко, Олег встал, стряхнул с себя остатки волновавших его мыслей, и медленно пошел обратно.
Сам факт вынужденного перемещения в Германию начала сорок пятого одновременно и волновал, и тревожил. Выкрасть картину из-под носа охраняющих её нацистов было идеей «на троечку». Не сказать, что совсем невыполнимо, но риск был вполне определенным. Отец говорит, что готовил это похищение почти месяц, тем не менее, тревога внутри не отпускала. Готовить что-то менее опасное уже не было времени, а терять особняк с подвалом, дарящим такие возможности, было вариантом, не подлежащим рассмотрению.
Отец сидел за ноутбуком в гостиной, которая всего за пару дней была превращена в офис. Два компьютера с огромными мониторами, таких же размеров стол, на котором Роман Сергеевич разложил какие-то распечатанные фотографии, схемы и записки. Олег усмехнулся. Старик так и не избавился от привычки всё держать в руках, не признавал электронных книг, фото и схем на экране монитора, читал только с бумажного листа, сдвинув на кончик носа узкие стекла очков. Увидев Олега, он на секунду поднял взгляд поверх экрана, и вновь опустил на клавиатуру:
– Развеялся?
– Вполне себе, – Олег обошел отца за спиной и посмотрел на экран. Роман Сергеевич находился в каком-то примитивном чате, интерфейс которого был ему не знаком. – Развлекаешься?
– Это «Флэйм». Малоизвестный мессенджер, разработанный на Филиппинах. Абсолютная шифрация, безопасность и конфиденциальность.
– Никогда не слышал.
– Он создан специально для сферы коллекционеров, дилеров, покупателей предметов искусства.
– Для черных коллекционеров, дилеров и покупателей, надо полагать?
Берестов повернулся к сыну на поворотной платформе стула и снял очки.
– Никогда не замечал за тобой злой иронии. Тем более – чистоплюйства. Тебе никогда не приходило в голову, что счета на ваше с Мирой обучение, жилье в центре Петербурга и Москвы, поездки в Европу, словом, всё нужно оплачивать? – Он нервно раскурил сигару.
– Прости, отец, я не хотел тебя обидеть, – Олег примирительно положил руку ему на плечо. – Просто я…. Волнуюсь, наверное.
– Нет, давай поговорим, раз уж начали этот разговор. К примеру, кому стало хуже, если я вернулся в тысяча девятьсот двадцать первый год, где выменял на хлеб два пасхальных яйца работы Карла Фаберже у некоего матроса Пряхина в Кронштадте? Он украл их при обыске в особняке Великого князя Сергея Михайловича Романова, и по укоренившейся в те годы привычке революционных краснофлотцев, наверняка распилил бы на части, и выменял на самогон или сахар. Мне пришлось возвращаться туда семь раз! Теперь эти прекрасные работы известнейшего мастера находятся в частных коллекциях, и для человечества не потеряны.
Вошла Мирка. На ней был строгий брючный костюм темно-синего цвета и белая блузка с расстегнутым воротом. Между ключицами поблескивала слезинка горного хрусталя на тончайшей цепочке из белого золота. Она опустилась на стул напротив Берестова и вопросительно подняла брови:
– Что?
Мужчины рассмеялись. Мира была шикарна.
– Наслаждаемся твоим бесподобным видом, – Олег опустил руки в карманы джинсов.
– А я уж думала, про меня сплетничали, замолчали подозрительно. Она взяла со стола бутылку с водой и сделала большой глоток.
– Нет, не сплетничали, – Роман Сергеевич выпустил в потолок дым. – Я как раз рассказывал твоему брату о том, что не считаю род своих занятий зазорным.
– Справедливости ради, отмечу, что твой брат этого и не утверждал, – Олег хмыкнул, и, придвинув к столу кресло на роликах, тоже сел. – Но раз уж мы теперь все собрались, может, перейдем, наконец, к делу?
– Охотно. Я тут подготовил для вас информацию… – Берестов взял со стола фотографии, передал одну из них Олегу. – Это Ганс Франк. Нацистский преступник, генерал-губернатор оккупированной Польши в интересующий нас период.
С фотографии смотрел человек с волевым лицом, плотный, уверенный и жесткий. Именно так, по мысли Олега, и должен выглядеть человек, отправивший в концлагеря и на тот свет не одну тысячу евреев. Отец словно читал его мысли:
– Страшный персонаж. Впрочем, других там и не держали. Организатор массового террора против поляков и евреев. Ты вряд ли его увидишь, но всё же, должен иметь представление… Согласно официальным общедоступным данным, в тридцать девятом году, вскоре после начала войны, полотно «Портрет молодого человека» кисти Рафаэля было спрятано в Сеняве, фамильном поместье Чарторыйских. Уж не знаю, донесли ли, или немцы сами его нашли, только спустя несколько месяцев картину изъяло гестапо.
– И переправило её в музей фюрера, в Линц, – продолжила Мира.
Берестов усмехнулся и нервно дернул щекой.
– Не совсем так. Но здесь необходимо отступление. Музей в Линце – это сверхпроект Гитлера. По его задумке, он должен был стать крупнейшим музеем мира. При этом, был лишь частью культурного центра, спроектированного Альбертом Шпеером, главным рейхсархитектором. Как сказали бы сейчас, проект был амбициозным. Гитлер задумал сделать так, чтобы Линц затмил Вену соей грандиозностью. Рейхсмарок, разумеется, не жалели. По всей Европе полыхала война, и как обычно бывает во время любых войн, победитель попросту отбирал у побежденных всё, что мог. В Линц текла река предметов живописи! Картинами заполнялись хранилища и тайники, пополнялись коллекции высших чинов Рейха.
– Одного не понимаю, почему именно австрийский Линц? – задумчиво проговорила Мира, разглядывая фотографии.
– Линц – родина Гитлера, – Олег потер переносицу и вздохнул. – И с Веной тоже всё ясно. Он ненавидел Вену, поскольку не смог поступить в Венскую академию изящных искусств. Хотя рисовал неплохо.
– Вижу, что я не зря платил деньги за вашу учёбу, – Берестов довольно кивнул головой. – Всё верно. Так вот, наша картина томилась в хранилище Линца целых пять лет, а в феврале сорок четвертого её перевезли в Краков, в Вавельский замок, в резиденцию вот этого душегуба, – он кивнул на фото Ганса Франка. Напомню, это официальная версия. Ничего не смущает? – он довольно откинулся на спинку.
– Меня пока ничего, – отозвалась Мира.
– Февраль сорок четвертого…. – Олег уставился на крышку стола и с полминуты барабанил по ней подушечкой среднего пальца. – Советские войска перехватили инициативу и наступают. Уже понятно, что фронт ползет к границе. Союзники высадились на Сицилии и подошли к линии Густава на юге Италии, – Мира от удивления приоткрыла рот. – Это тема моей дипломной работы, – рассмеялся Олег. – «Ход второй мировой войны. Стратегические аспекты».
– И? – отец все так же улыбался.
– Ну что «и»? И мне непонятно, зачем перевозить дорогие произведения искусства из Линца, находящегося в Австрии, в центре Европы, где ты еще силен, на окраину, в Краков, куда, очевидно, вскоре будет наступать противник?
– Именно! Именно так! – Берестов вдохновленно поднял вверх указательный палец. – С этого мучившего меня вопроса я и перестал доверять официальной версии! Ганс Франк сдался американцам в Баварии в сорок пятом. На допросах указал местоположение нескольких тайников с ценностями. Наша картина ни в одном из них найдена не была!
Берестов встал, из вороха снимков достал еще один портрет и бросил на стол. На фото был человек в сером костюме, с редеющими волосами по бокам совершенно лысой головы, в тяжелых очках и с толстым, свиноподобным лицом.
– Герман Восс, директор государственных художественных коллекций Дрездена. Этот товарищ занимался отбором полотен для музея Линца после сорок третьего года. Всё в стиле этих мерзавцев. Отобранное, украденное, вывезенное, иногда купленное. Купленное, естественно, по правилам Дона Карлеоне – предложение, от которого невозможно отказаться. Так вот, ключ к пониманию, где искать картину, дали его дневники, опубликованные в семидесятых. Я обратил внимание на визит Восса в Краков девятого февраля сорок четвертого. Сама запись содержит немного информации, вот она, – Берестов положил на стол копию листа дневника.
«…9.02.1944. Выехали в Краков с Карлом. Гауляйтер Франк просил осмотреть поступившие в его хранилище полотна. По приезду были удивлены и обрадованы, подобные образцы встречаются раз в жизни. «Портрет молодого человека», кисти Рафаэля Санти! Карл убеждает меня отправить полотно в Берлин, в Рейхсканцелярию. Постоянно думаю о счастье принадлежать великой германской нации, всё же видеть и соприкасаться с высшими проявлениями человеческого гения – бесценно».
– Сентиментальный персонаж.
– Да, сентиментальность часто граничит со звериной жестокостью. Гиммлер, к примеру, имеющий библию в переплете из человеческой кожи, часто плакал, слушая классическую музыку. Такова суть человека, ничего с этим не поделаешь, – Берестов вздохнул и смахнул с листа ползущего муравья. – Господи, ну откуда они берутся? Два раза обрабатывали за последние полгода! – Он ловко скатал бумагу в рулон и смахнул со стола еще несколько насекомых, затем, словно спохватившись, вернулся к рассказу. – Карл, которого упоминает Восс, это он, – на стол легло еще одно фото. – Карл Габершток, торговец предметами искусства, попросту дилер. Человек образованный, дело свое знает, специалист высшего класса. В сороковом году организовал в Европе целую сеть из торговцев, агентов и коллекционеров, скупал картины для нацистов, являлся дилером самого Геринга. В дневнике Восс пишет, что «Карл» убеждает его отправить картину в Берлин, думаю, что возможно, картина в конечном итоге и оказалась у кого-нибудь из высшего партийного руководства. Я перемещался в девятое февраля сорок четвертого четыре раза. По разу – в седьмое и восьмое. Седьмого числа в замок приехал автомобиль, который встречал сам генерал-губернатор. Шофера отпустили в город, и я подсел к нему в пивной. Он расслабился, услышав немецкую речь, я представился ему торговцем, обеспечивающим снабжение вермахта. На его рукаве были нашивки сорок седьмого пехотного полка и знак Итальянской кампании. Он был очень доволен, что вырвался из ада, который устроили союзники при высадке в Италии. Быстро захмелел и я неожиданно легко узнал, что приехали они через половину Европы, из Кассино, привезли «какие-то ящики», – Берестов покрутил растопыренными пальцами, словно держал в руках невидимый шар. – Ящики не армейские, и не тяжелые.
– Но в них может быть что угодно, – Мира, молчавшая всё это время, наконец, подала голос. – И при чем тут вообще Кассино, если наша картина прибыла из Линца?
– Это по послевоенным показаниям Франка, согласно которым вскрыты тайники, но картина не обнаружена! Что мешало ему соврать и про Линц? К слову сказать, Муссолини тоже был любителем живописи, и Карл Габершток вполне мог представлять и его интересы. Это было бы логично, в тридцать девятом агент продает картину на родину, в Италию, в сорок четвертом война подкатывается все ближе, и полотно решают припрятать понадежнее, для чего и перемещают сначала в Краков, а потом…
– А потом – суп с котом. – Олег усмехнулся и вздохнул. – Думаю, забирать картину лучше по дороге обратно.
– Это не вариант. Они выезжают в полдень, охрана – отделение автоматчиков. Там партизанский отряд нужен, чтобы отбить. Слишком опасно. Вот подробные планы замка, – Берестов разложил листы на столе, – охрана тоже серьезная, но по периметру. Девятого февраля будет много людей, приедут и Восс, и Габершток, и сам Франк уже вернется из Варшавы. Нужно перемещаться в седьмое февраля, сразу внутрь замка под видом офицера вермахта. Форму я уже приготовил, но она не должна понадобиться, твоя задача найти картину в хранилище и спрятаться где-нибудь в замке на несколько часов. Думаю, должно получиться. Вот, кстати, фото самой картины, из каталога – он передал Олегу цветной снимок.
С фото смотрело лицо малахольного женоподобного юноши. Длинные волосы, чёрный берет, на плече какая-то меховая накидка. Олег никогда не понимал живописи. Не понимал этих восторженных вздохов при виде библейских сюжетов с плоскими горестными лицами, не понимал снобистского цоканья языком при взглядах на современное искусство, экспрессионизм, кубизм, импрессионизм и еще черт знает какой «изм». Картины и картины. Что-то нравилось, что-то нет. Были некоторые полотна, где он восхищался переходом цвета и реалистичностью, но это были совершенно частные и совершенно обычные чувства среднестатистического человека. То, на что он сейчас смотрел, не вызвало в нем никаких эмоций. Пусть Мирка с отцом вздыхают над мазками и трепещут над величием.
– Всё проще некуда. Начать и кончить, – саркастично хмыкнула Мира. – Мы не обсудили еще один вопрос… Если мы всё же получим картину, кому ты планируешь её продать? Это шедевр мировой живописи, как-никак… И стоит бешеных денег.
– Этот вопрос занимает меня с самого начала, – поддержал Олег. – Ты рассказал нам многое, но не рассказал главного – как ты продаешь эмм…
– Спасённое… – подсказал Берестов. – И никак иначе.
– Разумеется. Так кому ты продаёшь спасённое?
– У меня есть свой арт-дилер. Это надежный и уважаемый в Европе человек. В случае с нашей картиной продажа состоится через месяц после того, как мы её заберем и получим заключения трёх экспертов о подлинности. Один из этих экспертов – я. Остальных находит сам дилер. Это отлаженный механизм.
– Это с ним ты сегодня связывался в чате? Как его…? «Флейм» кажется?
– Обычно связываемся через «Флейм», верно. Но последний раз он писал около месяца назад, уж не знаю, куда он пропал, может в отпуске или приболел. Но это не суть, «Флейм» позволяет связываться продавцу с покупателем инкогнито, минуя дилеров. Хотя, с дилером, конечно, надежнее и безопаснее.
– В чем именно? – Мира закинула ногу на ногу и положила на колено сомкнутые пальцы.
– Дилер сам отвечает за перевозку, подбор покупателя, передачу объекта покупателю и расчет за товар. Разумеется, за хорошую комиссию.
– А сколько денег ты должен банку? – Олег задал вопрос, который мучил их с Мирой уже два дня. Отец пригладил седую бороду, и тяжело вздохнул.
– Два с половиной миллиона двум банкам.
– Долларов?!
– Евро.
Повисла тяжелая, гнетущая тишина. И Мира, и Олег понимали, что никакого альтернативного решения нет. Старик переоценил свои возможности, и теперь они либо найдут этот чертов портрет, либо потеряют всё.
– Российские?
– Что? – Не понял Берестов.
– Банки-кредиторы российские?
– Да, наши, – он как-то суетливо поднялся и заговорил быстро, как будто очнулся от нечаянного сна. – Мы все исправим! Картина уйдет минимум за пятнадцать! Это всё решит! И плевать на Халида, он нам и не нужен! Не найдется, я сам смогу всё устроить. Вот, смотрите, – он сел за компьютер и застучал клавишами. Олег с Мирой наклонились к экрану. – Пару недель назад один из пользователей «Флейма» проявил интерес к пропавшей библиотеке Аристотеля. Библиотека состоит из нескольких десятков древних свитков, цену предложил в триста тысяч. Мы связались, и я сообщил ему, что готов продать, но мне нужно время, вот наша переписка, – он кивнул на экран.
– Что за странный ник «LOVE»? – Олег усмехнулся.
– Ты на шрифт посмотри, – съязвила Мира, – это, наверное, сам Аристотель и пишет, ищет свою библиотеку. – Шрифт и вправду был странным, завитые буквы причудливо переплетались, и были ограничены жирными точками.
– А ты почему «USER16564»?
– Потому что у меня нет ни времени, ни фантазии на глупости! – Отец раздраженно щелкнул мышкой, и экран мессенджера закрылся. – Короче, библиотека у меня, если Халид не объявится через три дня, мы сами продадим её этой даме с романтичным именем.
– Даме?
– Ну, или джентльмену. У них там сейчас и без ника «LOVE» иногда не разберешь, кто есть кто.
Зазвонил мобильник. Отец похлопал себя по карманам брюк, затем вспомнил, что смартфон в кармане пиджака, висящего на спинке, и ловко вытащил его наружу.
– Алло!
– Роман Сергеевич, здравствуйте!
– Добрый день.
– Меня зовут Дмитрий. Дмитрий Бажин, московский уголовный розыск. Если помните, вы консультировали нас в Эрмитаже по делу…
– Помню, конечно, помню, – перебил собеседника Берестов. – Что-то еще стряслось?
– Ничего не стряслось, просто нам необходима еще одна консультация. Я завтра буду в Петербурге, не могли бы вы уделить мне полчаса вашего времени?
– Разумеется, Дмитрий. Я до обеда в офисе, потом, к сожалению, меня не будет несколько дней, – соврал Берестов. – Поэтому, милости прошу, адрес помните?
– Разумеется, Роман Сергеевич! Спасибо огромное!
– Ну, до встречи, молодой человек.
Положив трубку, Берестов посмотрел на часы, просунул в рукава пиджака руки и застегнул пуговицы.
– Ну что, остались у нас еще какие-то вопросы? Мне через час нужно быть на осмотре.
Олег покачал головой и углубился в изучение бумаг, которыми был завален стол. Мира молчала.
– Ну что ж, тогда я уехал.
За Берестовым закрылась дверь, Мира ушла на кухню и через минуту Олег услышал, как открылся посудный шкаф.
– Тебе сварить кофе? – донесся до него голос сестры.
– Да! – крикнул он и подумал, что хотел бы вернуться не на восемьдесят лет, а на три дня назад, чтобы остаться в Москве и не знать о делах отца ровным счетом ничего.
ГЛАВА 8
Наши дни. Санкт – Петербург.
Бажин терпеть не мог Питер. Хотя, справедливости ради, стоило признать, что бывал он здесь всего три раза, два из которых останавливался на окраине в гостинице, которую и гостиницей назвать было трудно. Третий раз уже почти в центре, до Невского пешком минут двадцать пять. Правда, ни до Невского, ни до Дворцовой площади тогда дойти так и не случилось, – командировка была всего сутки. Что объединяло все три его вояжа в славный петровский град, так это дождь. Бажин застал все его виды, от мелкого, депрессивного, когда не знаешь, то ли это уже дождь, то ли еще густой туман, до проливного, с порывами ледяного ветра, когда зонт выворачивает из рук и кажется, что одежды на тебе попросту нет.
В этот раз Петербург встретил его без дождя. Бажин усмехнулся. Видимо, город решил подправить о себе впечатление. Такси в приложении прибывало в Пулково через шесть минут. Он провалился в сеть и глаза забегали по новостным строчкам.
«По данным СК, сорок процентов мигрантов использовали коррупционные схемы при получении гражданства»
« Социальные пенсии в России планируется увеличить на 11%»
«В челябинской школе начата проверка после сообщений о конфликте с участием детей мигрантов»
«МИД Таджикистана выражает озабоченность ужесточением миграционной политики РФ»
Дмитрий не помнил Душанбе. Ему было восемь, когда им пришлось уехать. Уехать из солнечного двора, где прямо на улице росли на деревьях фрукты. Соседские мальчишки и девчонки, – узбеки, таджики, русские, туркмены, все играли вместе, дома никогда не закрывали на ключ, а отца знал весь район. Он оперировал в городской больнице, был известным на весь город хирургом, и их с мамой часто приглашали в гости то в один, то в другой кишлак в знак благодарности. Отец рассказывал, как в то время проходили праздники, как на улице накрывались большие столы, и все соседи собирались вечером, неизменно варился плов и до глубокого вечера не стихали разговоры. Всё изменилось в один миг. Развалилась огромная страна, а вместе с ней на развалившихся осколках начали вспыхивать очаги национализма. В городе становилось неспокойно, бесконечные митинги непонятно откуда взявшихся агрессивных людей. На улицах – халаты, тюбетейки, бороды… Как будто все пастухи и крестьяне окрестных кишлаков вдруг бросили свои дела и нагрянули в столицу. Русский язык пропал сначала с трибун, потом с телевидения и радио, наконец, с улиц. Отцу объяснили, что он более не может быть заведующим отделением хирургии, потому что не знает таджикского. На его место назначили другого человека, – местные тейпы начали занимать «хлебные» места. Однажды отец увидел на своей калитке надпись «русские». По их улице кто-то ночью маркировал все дома, где жили семьи других национальностей. «Русские», «узбеки», «армяне»…. Ещё через несколько дней в стекла прилетели камни. «Езжай свой страна!» Выезжали целыми улицами. Люди, почуяв нарастающую агрессию и напряжение, висящее в некогда пьянящем ароматами садов воздухе, распродавали за бесценок квартиры, дома и дачи, и уезжали в Россию. Улица, еще недавно гомонившая детскими голосами, переливающаяся смехом совместных посиделок, пахнущая пловом, цветом абрикосов и миндаля, вдруг опустела, померкла закрытыми ставнями и заколоченными дверями, раскисла неметеными давно дворами. Бажины уехали спустя четыре месяца. Из окна машины мама увидела надпись на русском языке, коряво выведенную на фасаде одного из домов: «Русские, не уезжайте. Нам нужны рабы!»
Дмитрий не помнил переезда и самые драматические события, погромы, издевательства и насилие, волной прокатившееся по Средней Азии, застали их семью уже в Сибири. И вот теперь, спустя тридцать лет, он читает эти новости. Воинствующие пастухи, рвущие глотки на площадях Ташкента, Ашхабада и Душанбе, не сумели построить без русских «дивный, новый мир» в своих независимых теперь странах. Хотя, дело казалось очень простым, – выгони векового «эксплуататора», займи его место и наведи порядок. На деле всё оказалось не таким радужным. К власти пришли главы тейпов, занятые только, собственно, нескончаемой борьбой за эту самую власть. Очень быстро деградировали все сферы экономики, оказалось, что специалисты, инженеры, энергетики, теплотехники, врачи, преподаватели, преимущественно не принадлежали к титульной нации и за короткий промежуток времени покинули благословенный райский сад, насаждаемый нацией титульной. К тому же ресурсы, ранее получаемые от «проклятой метрополии» бесплатно, теперь, оказывается, необходимо стало оплачивать. Еще одним неприятным открытием стало то, что производство, на котором была занята основная часть населения, оказалось неконкурентным, предприятия закрывались с такой же скоростью, как когда-то пустели дома выгнанных из страны «эксплуататоров». История не была бы историей, если бы не продолжала хохотать над теми, кто ею пренебрегает. Теперь дети тех «свободолюбивых пастухов» приезжали на заработки в страну, в которую выгнали своих «угнетателей». Они селятся тут целыми семьями, всеми правдами и неправдами пытаются получить гражданство, пользоваться всевозможными льготами, пособиями, бесплатным медицинским обслуживанием и, вместе с этим, насаждают свои религиозные и бытовые правила, к которым привыкли в своих уютных горных и степных селениях. Бажин этого не понимал и не принимал. Он не понимал словосочетаний «места компактного проживания мигрантов», «национальная диаспора». Он не понимал, зачем на территории его страны нужны организации, защищающие права приехавших в эту страну иностранцев. Для этого есть посольства. Зачем превращать целые спальные районы в национальные гетто, со своими правилами, укладом, не терпящим чужаков и порядками, вызывающими у коренных жителей лишь недоумение? За последнюю пару лет количество этих людей, желающих и рыбку съесть, и на люстре покачаться, возросло в разы. Это чувствовалось повсюду, и не сказать, чтобы раздражало, но изрядно беспокоило Бажина.
«Вас ожидает Лада Веста, т346от. Водитель Ирджон.»
Дмитрий раздраженно хмыкнул. Вселенная, по-видимому, решила этим утром издеваться над ним «на все деньги». Он сел на заднее сиденье, и набросал план на день. Сначала он заедет в квартиру. На этот раз он снял жильё на Милионной, в самом центре города. Эрмитаж через два дома. Нужно будет переодеться и встретиться с Локшиным, местным опером. Генерал Лебедев уверил, что мужик толковый, и ему можно абсолютно доверять. Они договорились на девять, то есть через… двадцать минут. Пока доедем, уже наверняка будет ждать. К одиннадцати нужно быть у Берестова, старик говорил, что будет только до обеда…
– Надолго в Петербург?
– Простите? – не понял Бажин. Разговаривать с таксистом по имени Ирджон никак не входило в его планы.
– Я спросил, надолго ли в Петербург? Извините, что отвлек вас от мыслей, – Ирджон улыбнулся белозубой улыбкой. На его смуглом лице она выглядела особенно ослепительной.
– Нет, не надолго, – Дмитрий отвернулся к окну и принялся рассматривать улицу.
– Напрасно, – Ирджон, казалось, и не замечал его раздражения, – здесь очень красиво. Удивительный город. Белых ночей правда уже не увидите, но и без них есть что посмотреть.
– Вы – Ирджон, верно…?
– Да, правильно, я Ирджон, – опять белозубо улыбнулся водитель. – Трудное имя, да?
– Вы очень хорошо говорите по-русски.
– Моя мама – учитель русского языка и литературы. Там, дома. – Он неопределенно кивнул головой в сторону. Улыбка не сходила с его лица. Бажин поймал себя на мысли, что сам улыбается чему-то.
– А откуда ты сам? – незаметно для самого себя Дмитрий перешел на «ты».
– Из Бохтара. Это…
– Таджикистан. – Закончил за него Бажин.
– Точно.
– В Таджикистане преподают русский язык и литературу?
– Конечно! У нас русский – второй государственный! Обязательно преподают, без него никак.
– А разговаривают? – от усмешки трудно было удержаться.
– Старшее поколение да, – Ирджон бросил взгляд на светофор, включил поворотник и повернул налево. – Молодые уже нет, к сожалению.
– Почему же «к сожалению»?
– Потому что глупые. А о глупости соотечественников стоит сожалеть. Всё смотрят туда, за океан… Голову задурили молодежи. Только ведь Россия здесь, под боком, а Америка… Глупость, она и есть глупость.
– А тебе, значит, у нас нравится?
– Большая страна! Великая история! Красота вокруг! Много работы, возможностей, спокойная жизнь. Вы даже сами не понимаете, как у вас хорошо!
Бажин рассмеялся:
– Много разговариваешь с людьми?
– Я люблю с пассажирами говорить, – снова белозубо заулыбался Ирджон. – Конечно, не все разговаривают, некоторые молчат, но чаще ругают.
– Кого? – не понял Бажин.
– Не «кого», а «чего». Жизнь, работу, власть, нравы, телевидение, интернет… Всё ругают. Это потому, что всё есть.
Бажин усмехнулся. А ведь он прав. Всё ругают, потому что всё есть. И не жили никогда так легко, как сейчас. Товаров полные магазины, еда на каждом углу, можно не вставая с дивана купить что угодно, принесут, подадут, еще и поблагодарят. Отпала необходимость прилагать усилия. До тридцати лет взрослые мужики еще на приставке играют и привыкли к утреннему латте с корицей, в кофейне за углом. Тяжелые времена рождают сильных людей, сильные люди делают времена легкими, легкие времена рождают слабых людей, слабые люди делают времена тяжелыми. И так по кругу до бесконечности.
– Приехали. Милионная, 19.
– Спасибо, Ирджон. Всего доброго!
– И вам хорошего дня, уважаемый!
Бажин шагнул в полумрак двора-колодца. Шаги гулко отзывались в пустой арке. Несмотря на ранний час, внутри этого квадратного двора уже кипела жизнь, слышались голоса из открытых окон, где-то позвякивала посуда. Дмитрий остановился в центре и поднял голову наверх, проследил взглядом за медленно проплывающим белоснежным облаком, отражающимся в оконных стеклах и меняющим освещение двора с яркого, залитого солнцем на рассеянное, серо-дымчатое. Питер. Непостоянный, как настроение капризной женщины.
– Дмитрий?
Бажин от неожиданности чуть не выронил ручку чемодана. Он и не заметил человека, сидящего за рулем припаркованного автомобиля.
– Да…
– Меня зовут Сергей. Сергей Локшин. Я от генерала Лебедева. Садитесь в машину, здесь нам будет удобнее поговорить.
Локшин оказался тридцатипятилетним, начинающим лысеть человеком. Салон машины, куда сел Бажин, был порядком затерт, прокурен и давно не мыт. Такое же впечатление производил и сам Локшин. Воистину, вещи – отражение своих хозяев. Новый знакомый, очевидно, заметил брезгливый взгляд Дмитрия.
– Машина не моя, я не курю. И после суток сегодня, поэтому не обращайте внимания на мой вид.
– Никаких проблем, – соврал Бажин. – Предлагаю к делу.
Локшин кивнул и поднял стекло.
– Вот этот человек, – Дмитрий передал Локшину несколько фото, – приезжал в Питер практически каждую неделю в течение года. Его имя – Фарук Халид. Это даты его прилетов и номера рейсов, – он протянул Локшину лист. – Мне нужны данные о его передвижениях по городу. Нужно будет отсмотреть камеры в аэропорту и далее…
– Сделаем, я понял.
– Если повезет, нужно установить, с кем встречался, что делал в Питере, что посещал.
– Сколько у меня времени?
– Всё как обычно, – улыбнулся Дмитрий.
– Ясно. Нужно было еще вчера?
– Точно.
– Запиши мой номер, – Локшин кивнул на табличку под лобовым стеклом, – если что будет нужно, или изменится задание. Надолго к нам?
– Не знаю, как пойдет.
– Понял. Ну, тогда лишних вопросов не задаю, поеду, вздремну пару часов и займусь.
Они попрощались, Дмитрий открыл сообщение от онлайн-портье, набрал код на домофоне, и вошел в парадное. Он внутренне рассмеялся этому названию. «Парадное» оказалось весьма и весьма обшарпанным, хранящим следы царствования династии Романовых, не меньше. У входной двери квартиры он проделал ту же операцию, открыл небольшой сейф с кодовым замком, подвешенный прямо у двери и обнаружил в нем ключ от этой самой двери.
Под дождь он в этот день всё же попал. Когда спустя час он вышел на улицу и решил прогуляться до офиса Берестова на Васильевском острове, поднялся небольшой ветерок. Едва он ступил на Дворцовый мост, как с Финского залива набежала огромная туча и хлынул короткий, но такой сильный ливень, что Бажин, обманутый утренним солнцем и, как следствие, застигнутый врасплох, вымок до нитки за какие-то пару минут. Укрыться от потока воды было негде, он бежал по мосту, уже не перепрыгивая луж, сначала внутренне озлобившись, затем, почувствовав в кроссовках хлюпанье, он вдруг развеселился. За короткий период времени Дмитрий пережил все стадии намокания под дождем. Сначала, с первыми упавшими на тело каплями – тревогу и поиск укрытия, затем раздражение от отсутствия этого самого укрытия, досаду от вымокшей обуви и, наконец, детскую радость от стекающих струек воды по волосам и прилипшей к телу одежде. Положение оказалось самым идиотским. Правильнее всего было бы вернуться и переодеться, но одежда из чемодана была не выглажена, и Дмитрий не взял с собой другой обуви. К тому же, времени совсем не было, Берестов после полудня уедет, и вернется неизвестно когда. Бажин посмотрел на часы. Четверть одиннадцатого. Дождь, взявшийся неизвестно откуда, исчез в никуда. Дмитрий открыл в телефоне карту, мельком взглянул на пересечения улиц, и уверенно зашагал по набережной в сторону биржи.
Офис Берестова был совмещен с антикварным магазином, располагавшимся в цоколе, и представлял собой две смежные комнаты, в первой из которых сидела за большим стеклянным столом не то секретарша, не то сотрудница, он этого не понял. В любом случае, вкус у Берестова явно был эстетический. Молодая, красивая какой-то особой красотой. Бажин видел и более совершенные «экземпляры», со следами косметологии, подкачек, укольчиков, макияжа и эффектом посещения фитнес – храмов. Здесь была другая история. Светящиеся умом глаза, насмешка, глубина и отстраненность. Вместе с тем красивые, правильные черты лица, волосы, падающие на белоснежную блузку, и точеная шея мраморной античной статуи. Короче, Бажин почувствовал себя вымокшим уличным котом на международной выставке абиссинских кошек.
– Вы к Роману Сергеевичу?
– Да, к Берестову, – Дмитрий смущенно вытер с лица капли и заметил, как предательски медленно натекает с его кроссовок небольшая лужица.
– У него посетитель, вам придется немного подождать. Хотите чаю или кофе? – Она разглядывала его мокрую одежду, и насмешка… тонкая насмешка сверкала в её глазах. – Вы к нам вплавь добирались?
– Нет, я…
– Да вы не смущайтесь, – улыбнулась девушка. – Это же Питер, тут часто бывает так, приезжим трудно привыкнуть. Так чай? Или кофе? Меня Мира зовут.
– Дмитрий, – кивнул Бажин и тоже улыбнулся. – Кофе, если у вас подают промокшим и обездоленным.
– Ну, на обездоленного вы совсем не похожи. – Лен, кофе принеси, пожалуйста, гостю! – Последние слова она произнесла, нажав кнопку селектора.
«Она точно не секретарша», мелькнуло в мокрой голове Бажина. Смущение, так некстати свалившееся на него, потихоньку отступило.
– А откуда вы знаете, что я приезжий?
Мира усмехнулась.
– Вы приезжий. Думаю, Москва, – она оценивающе ощупывала его взглядом. – Профессия связана с государством. Военный…. Хотя нет, вы – полицейский.
Бажин почувствовал, как челюсть медленно поползла вниз.
– Думаю, прилетели сегодня, судя по вашему виду, утренним рейсом.
– Мне кажется, вы неверно выбрали место работы.
Мира рассмеялась грудным, переливчатым смехом.
– Простите, Дмитрий! Просто Роман Сергеевич предупредил, что приедет человек из Москвы, из уголовного розыска. И вы уронили, – она кивнула на пол позади Бажина. Бирка ручной клади из аэропорта Пулково.
Дверь Берестова открылась, и на пороге показался толстый и лысоватый мужчина в сером костюме. Вслед за ним вышел и сам Берестов. Увидев Дмитрия, он расплылся в улыбке:
– Добрый день, молодой человек! Простите, запамятовал….
– Дмитрий.
– Да, да, точно…. Дмитрий. – Он жестом пригласил Бажина в кабинет. Внутри всё было по-прежнему, как и несколько лет назад, старомодная темная мебель из массива дуба, стены, выкрашенные темно-зеленой краской и практически полностью завешанные картинами, тяжелые портьеры, закрывающие окна, полки с аукционными каталогами графики, живописи, архитектуры. Эдакий кабинет русского дворянина конца восемнадцатого столетия. Пол укрывал толстый ковер, приглушающий звуки, и Дмитрий уважительно не стал ступать на него мокрой обувью.
– Что же вас ко мне привело в этот раз, Дмитрий? – Берестов добродушно смотрел на Бажина поверх тонких очков.
– Вот, Роман Сергеевич, взгляните, – на стол легли снимки изъятых у Халида вещей.
Берестов с минуту разглядывал фотографии, не задержавшись надолго ни на одной, наконец, поднял глаза:
– Что же вас интересует?
– Все эти вещи изъяты у одного человека. И все они – подлинны. Есть заключение авторитетных экспертов.
– Вполне возможно. Яиц работы Карла Фаберже множество, все они в каталогах, остальные предметы мне не известны, по фото я не могу ничего сказать. Что вас смущает, не понимаю? – он откинулся на спинку кресла и ослабил узел галстука.
– Эти предметы объединяют два обстоятельства – они подлинны, и они давно утрачены. Яйцо и диадема во время революции, меч после войны, кодекс Наполеона – в конце восемнадцатого века. Есть еще предметы, их происхождение и подлинность выясняют.
– Это кодекс Наполеона? – Берестов поправил очки и отыскал среди снимков нужный. – Хм… Очень даже… может быть… А взглянуть на оригинал я могу?
– Нет, Роман Сергеевич, он не в России. Но с большой долей вероятности, все эти вещи были проданы отсюда.
– Из России?
– Из Петербурга. Мне хотелось бы узнать, могла ли это быть чья-то одна коллекция? Или, может быть, у вас есть соображения, откуда всё это могло появиться?
– Трудно сказать… Тут ведь, понимаете, Дмитрий, рынок очень специфичный. Многие коллекционеры собирают предметы тайно, по разным причинам. Некоторым коллекциям много десятков лет, люди, начавшие их собирать, давно мертвы, продолжают их дети. Возможно, по какой-то причине распродали одну из таких… Или её часть, я не знаю, – старик снял очки и закусил душку.
– Откуда в ней столько утраченного? Причем, утраченного не в одной стране, даже не в одно время?
– Я не знаю. Да и не моё это дело, – улыбнулся Берестов. – А почему этим делом занимается ваше ведомство? Как я понимаю, среди этих вещей нет ничего украденного?
– Извините, Роман Сергеевич, этого я вам сообщить не могу, тайна следствия, – соврал Бажин.
– Понимаю, понимаю, – усмехнулся Берестов. – Помочь я вам, увы, ничем не могу… Хотя… – он вытащил из стопки фотографию японского меча. – Вообще, коллекционеров, интересующихся самурайскими предметами, в Питере всего двое. Думаю, мимо такого экземпляра они бы не прошли. Остальное не так специфично, многие могли интересоваться.
– Вы можете дать их контакты? Разумеется, никто об этом не узнает.
– Молодой человек, – усмехнулся Берестов, – я, конечно, дам вам их контакты. И вы можете совершенно спокойно им сообщить, от кого вы пришли. Это уважаемые в городе люди, их интересы ни для кого в нашей сфере не тайна. – Он написал на листке бумаги фамилии. – Надеюсь, телефоны найдете сами? Личные номера всё же не принято… Моветон.











