Читать онлайн Молитва к Прозерпине
- Автор: Альберт Санчес Пиньоль
- Жанр: Историческое фэнтези, Героическое фэнтези, Зарубежное фэнтези, Зарубежные приключения, Исторические приключения, Современная зарубежная литература
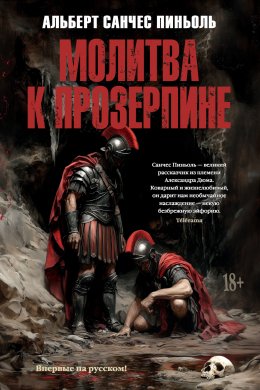
Albert Sánchez Piñol
PREGÀRIA A PROSÈRPINA
Copyright © Albert Sánchez Piñol, 2023
© Н. Аврова-Раабен, перевод, 2025
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025
Издательство Иностранка®
Пресса об Альберте Санчесе Пиньоле
Альберт Санчес Пиньоль стремительно восходит на пьедестал самого читаемого каталонского автора всех времен.
El Periódico
Альберт Санчес Пиньоль – великий литературный зодчий, истинный мастер. Его романы страшно увлекательны, и он умеет сделать так, чтобы у читателей замирало сердце и им не терпелось узнать, что будет дальше.
La Lectora
Мы не первые говорим о том, что в каталанской литературе сложилось новое поколение безудержных творцов. Так вот, Альберт Санчес Пиньоль поистине не знает удержу… Он один из самых важных каталонских писателей современности.
La Vanguardia
Санчес Пиньоль – великий рассказчик из племени Александра Дюма. Коварный и жизнелюбивый, он превращает манипуляцию в искусство и дарит нам необычайное наслаждение – некую безбрежную эйфорию.
Télérama
«Молитва к Прозерпине» – очень многообещающий роман: приключения и интриги, жестокий и завораживающий Древний Рим из альтернативной вселенной, разношерстные персонажи и их трансцендентный квест, невозможные чудовища, этико-политические фантазии и великий талант рассказчика. «Молитва к Прозерпине» – история о том, на что готов пойти человек или целый народ, чтобы избежать конца света.
Ara Llibres о «Молитве к Прозерпине»
Альберт Санчес Пиньоль отправляется в Древний Рим на бой с новыми чудовищами. В своем седьмом романе автор с наслаждением рассказывает хулиганскую историю, погружая читателя в параллельную реальность, населенную древними римлянами и подземными чудовищами-тектонами. «Тектонов я знаю не первое десятилетие. Мы знакомы очень близко. Эти монстры – худшая часть нас самих», – говорит Санчес Пиньоль. Он антрополог, и это образование помогает ему изобразить агрессивный, бессовестный социум, в котором наивысшая ценность – индивидуализм.
The New Barcelona Post о «Молитве к Прозерпине»
В «Молитве к Прозерпине» Альберт Санчес Пиньоль вновь возвращается к схеме, которую мы уже видели в предыдущих его романах, особенно в «Холодной коже». Здесь есть реалистичный контекст – Древний Рим; исторические персонажи – Юлий Цезарь, Цицерон, Помпей; подробно описанный и глубоко прочувствованный подлый мир Римской республики и его властей предержащих, развращенных и лишенных совести. Здесь есть излюбленная тема Санчеса Пиньоля – власть, которая плевать хотела на людей. И знакомый нам стиль – хулиганский, почти вызывающий юмор, ирония, россыпи афоризмов. И скептический взгляд на человечество здесь тоже есть. Я полюбил этот роман – ничего не могу с собой поделать.
Llibres, i punt! о «Молитве к Прозерпине»
Автор помещает действие в эпоху Римской республики, но не той, которая известна нам. «Молитва к Прозерпине» – приключенческий роман, и изображенные в нем исторические события отсылают к проблемам, которые живо волнуют нас сегодня.
Núvol о «Молитве к Прозерпине»
Барселонский автор возвращается к корням – к «Холодной коже», первой своей книге, которая принесла ему успех и славу. «Молитва к Прозерпине» – якобы исторический роман, однако в нем масса фантастического; сюрпризы здесь на каждом шагу, остроумие и фантазия блистают… Но главное – приключения. И странствия. С великим тщанием и мастерством Санчес Пиньоль рассказывает сложную, целостную историю. Он никогда не теряет бдительности, а потому напряжение не спадает ни на миг, и в батальных сценах мы слышим звон оружия и тяжелое дыхание воинов, видим их пот, как на лучших страницах «Илиады».
Zenda о «Молитве к Прозерпине»
Как обычно у Санчеса Пиньоля, в «Молитве к Прозерпине» все не то, чем кажется. Роман читается на нескольких уровнях – нужно вглядываться, погружаться, чтобы не упустить важного. Удачно, что автор, прежде чем стать писателем, был антропологом: эта профессия подарила ему инструментарий для сотворения новых цивилизаций.
L’illa dels Llibres о «Молитве к Прозерпине»
В «Молитве к Прозерпине» Альберт Санчес Пиньоль постулирует «идеальную дилемму».
Europa Press о «Молитве к Прозерпине»
Роман Альберта Санчеса Пиньоля отважно и наглядно вскрывает мифы и манипуляции, кто бы их ни творил.
Артуро Перес-Реверте о «Побежденном»
«Побежденный» – магнетический роман: невозможно оторваться от этой истории, отмахнуться от ее чар… Главный герой поистине укоренен в своей эпохе, как будто порожден воспоминаниями, скажем, Джакомо Казановы, с которым у него много общего.
La novela antihistorica о «Побежденном»
Редко попадается такая книга, про которую ясно, что ее будут читать с неугасающим пылом даже сто лет спустя. Исторический эпик Пиньоля потрясает масштабом и детальностью.
Upcoming4me.com о «Побежденном»
Такой завораживающий ужас мы не испытывали со времен «Повести о приключениях Артура Гордона Пима» Эдгара Аллана По.
Пере Жимферрер, каталонский писатель, о «Холодной коже»
Успех этого романа объясняется не только его литературными достоинствами, но и уникальной его природой.
La Vanguardia о «Холодной коже»
Блистательный роман, который оправдывает само существование Литературы с заглавной буквы Л, – из тех книг, что зачаровывают читателя с первых же слов.
El Cultural о «Холодной коже»
Этот роман – лихорадочная греза, и ее внутренняя логика завораживает сильнее, чем «Песни Мальдорора». Оторваться невозможно.
Charlie Hebdo о «Холодной коже»
«Робинзон Крузо», увиденный «сквозь тусклое стекло, гадательно». Невероятно. По чувствам бьет тараном.
Kirkus Reviews о «Холодной коже»
Ритм гипнотизирует, а мастерски выстроенная история не раскрывает интригу до самого конца.
Der Spiegel о «Холодной коже»
Головокружительная, клаустрофобная история о страхе и желании.
MÍA о «Холодной коже»
Роман, в котором слышны отзвуки Говарда Филлипса Лавкрафта, Джозефа Конрада и Роберта Луиса Стивенсона. Сюжет захватывает с первых же строк – и мы наслаждаемся, как в юности наслаждались романами Жюля Верна, Фенимора Купера и Джека Лондона.
Diario de Jerez о «Холодной коже»
Первый роман Санчеса Пиньоля – тонко, с большим мастерством выстроенная аллегория человеческого зверства, колдовская и отталкивающая.
Publishers Weekly о «Холодной коже»
Совершенно оригинальная концепция… вопросы, которые задает автор в этом романе, будут преследовать вас еще долго.
Bookmarks Magazine о «Холодной коже»
Прибегая к рецептам классики бульварной литературы, Санчес Пиньоль с потрясающей элегантностью исследует природу истины и любви.
Booklist о «Пандоре в Конго»
Второй роман Санчеса Пиньоля – прихотливое метаповествование, пародия на приключенческую литературу, история, рассказанная с большим воодушевлением. Санчес Пиньоль пишет о проблемах восприятия, о природе литературы, о нашей потребности в героях и о пагубе гордыни. Это умнейшая книга, и вопросы, которые ставит автор, пронзают нас насквозь, а приключенческий сюжет, в который все это упаковано, страшно увлекателен.
Publishers Weekly о «Пандоре в Конго»
Второй роман Санчеса Пиньоля и масштабом, и широтой воображения превзошел первый… Эту книгу полюбят и доктора наук, и поклонники Индианы Джонса.
Library Journal о «Пандоре в Конго»
Восхитительно странная вещь… приключенческий роман, достойный Эдгара Райса Берроуза.
The Times о «Пандоре в Конго»
От этого бурлеска, полного фантастических приключений и небылиц, невозможно оторваться.
Financial Times о «Пандоре в Конго»
Ошеломительное историческое приключение.
Scotland on Sunday о «Пандоре в Конго»
Вторая книга Санчеса Пиньоля – чистая радость. Потому что это изумительный приключенческий роман в традициях Генри Райдера Хаггарда и Эдгара Райса Берроуза. Потому что это язвительная пародия на приключенческие романы в традициях Генри Райдера Хаггарда и Эдгара Райса Берроуза… И однако «Пандора в Конго» лишена и яда, и цинизма. Чистая радость и человеколюбие.
Daily Beast о «Пандоре в Конго»
Воистину полный сюрпризов ящик Пандоры – оригинальная композиция, блестящее повествование, плотный и напряженный роман.
La Nación о «Пандоре в Конго»
Потрясающая, великая литература.
Für Sie о «Пандоре в Конго»
Санчес Пиньоль мешает фантастику, любовь и хоррор, и этот пьянящий коктейль поможет выжить в страшных джунглях.
ABC о «Пандоре в Конго»
Под разными призмами структурной антропологии рассматривая всевозможные наши ожидания – расовые, культурные, литературные, – «Пандора в Конго» сплавляет воедино иронию «Темнейшей Англии» Кристофера Хоупа с многоликой витальностью «Книги рыб Гоулда» Ричарда Фланагана. Выходя за пределы реальной постколониальной политики (которая сковывала бы, скажем, британского писателя) в царство гиперболической фантазии, где давным-давно обосновался Умберто Эко, «Пандора в Конго» выводит Альберта Санчеса Пиньоля в ряды важнейших европейских писателей.
The Guardian о «Пандоре в Конго»
Динамичная приключенческая история в лучших традициях Генри Райдера Хаггарда, но также пародия на эти традиции и тонкое рассуждение о власти литературного воображения… Оригинальность Альберта Санчеса Пиньоля кроется в его тематике и великолепно структурированных сюжетах. Это потрясающий и совершенно уникальный роман.
The Independent о «Пандоре в Конго»
Рассуждение о власти, зле и тирании, с блестяще закрученной напряженной интригой.
El País о «Чудовище Святой Елены»
Не отпустит читателя до последней страницы.
Público о «Чудовище Святой Елены»
Этот роман доходит до самого края света, проверяя на прочность любовь и идеалы, преображая историческое в фантастическое.
The New Barcelona Post о «Чудовище Святой Елены»
Часть первая
1
Я, Марк Туллий Цицерон, сын Марка Туллия Цицерона[1], переживший гибель Рима и конец человеческой цивилизации. Я, человек, который, странствуя в недрах земли, уподобился Одиссею, могу утверждать, дражайшая Прозерпина, что причина и корень всех зол заключены в том, что род людской готов скорее изменить мир, чем исполнить свой долг, гораздо более скромный, но не менее насущный, – измениться самому.
Однако это лишь напыщенная фраза. Как и когда начался Конец Света? Я думаю, Прозерпина, что все началось с поражения Катилины в сражении при Пистое[2].
Гора оружия – вот и все, что осталось от знаменитого Катилины и его восстания против Республики. Последние его сторонники, сдавшиеся легионерам, шагали между двумя шеренгами солдат и бросали на землю свои мечи, копья и щиты. От Катилины и его безумной жажды власти осталась лишь горстка потерпевших поражение воинов и груды металла.
Зрелище мрачной процессии показалось мне слишком удручающим, и поэтому я вернулся в лагерь нашей армии. Там царило совсем иное настроение, особенно в роскошном шатре претора: издали были слышны доносившиеся оттуда крики, хохот и звон бьющейся посуды.
Под сводом шатра веселилась пьяная молодежь: мой приятель Гней и другие отпрыски знатных римских семей, самым младшим из которых недавно исполнилось четырнадцать лет, а самым старшим не было и двадцати. Тебе, Прозерпина, может показаться странным, что в палатке главнокомандующего римским войском горланила эта ватага сопляков, пьяных, точно фавны, но тому есть простое объяснение: согласно римской традиции в походах генералов сопровождали сыновья аристократов. Таким образом они познавали секреты военного дела, готовились к исполнению государственной службы и, что всего важнее, устанавливали дружеские отношения с другими представителями знатнейших родов Рима. Пример тому – моя дружба с Гнеем Юнием по прозванию Кудряш. Он был белокур и франтоват – вернее, невероятно белокур и чересчур франтоват – и щеголял золотистыми кудрями, за которые и получил свое прозвище.
Как я уже сказал, Прозерпина, отпрыски аристократических римских семей не знали запретов. Каюсь: мы пользовались всеми привилегиями и вседозволенностью, были молоды, очень молоды, высокомерны и капризны до невозможности. А командир наш, не отличавшийся большим умом, не решался держать нас в ежовых рукавицах. Так случилось потому, что Сенат выбрал для борьбы с Катилиной одного из своих, некоего Гая Гибриду[3]. Его принадлежность к кругу сенаторов оказалась важнее, чем то, что этот старый хрен ничего не смыслил в военном деле и пил не просыхая. Я уверяю тебя, Прозерпина, что нашу победу обеспечили легионеры и центурионы, а вовсе не старик Гибрида: еще перед битвой он был мертвецки пьян, и, когда началось сражение, его не смогли разбудить, даже окунув головой в ледяную воду. И сейчас он пребывал в том же состоянии: храпел, широко открыв рот, время от времени икая и распространяя вокруг себя вонь винного перегара.
Наш шутник Кудряш усадил Гибриду в центре палатки, а остальные ребята распевали песни, провозглашали тосты и ликовали вокруг главнокомандующего, грудь которого была испачкана блевотиной. Его слуги не смогли вовремя придать ему достойный вид по весьма уважительной причине: все они были мертвы. Кому-то из весельчаков показалось весьма забавным испытать шлем Катилины на прочность. Как? Очень просто: шлем надевали на голову слуги, а потом колотили по нему молотом, которым жрецы убивают быков во время жертвоприношений. Пробудившись, наш генерал смог бы созерцать прелюбопытную картину: все его слуги лежали бездыханными у его ног, а на коленях – вот так сюрприз – красовалась отрубленная голова Катилины, которую положил туда Кудряш.
Кудряш и его золотые локоны приветствовали меня:
– Смотрите, кто пришел: Марк Туллий Цицерон собственной персоной! А мы-то думали, что тебя убили. Никакой пользы от этого бедолаги Катилины… Ничего не попишешь, придется терпеть тебя и дальше на уроках риторики.
Он подошел и радостно обнял меня за шею:
– Мы уже получили боевое крещение! Теперь путь в магистратуру[4] нам открыт.
От него несло вином: мой приятель был столь же счастлив, сколь пьян.
– Боевое крещение? – язвительно переспросил я. – Да ведь мы стояли так далеко от первой линии, что даже не слышали криков солдат, только видели раскрытые рты!
Наш разговор прервал гонец, который услышал, как Кудряш назвал меня по имени:
– Ты Марк Туллий Цицерон? – спросил он, подойдя ко мне. – Я тебя ищу по всему лагерю. Я принес тебе послание.
Он передал мне письмо моего отца, который приказывал мне немедленно возвращаться в Рим.
Здесь, Прозерпина, я должен пояснить, что мой отец, почтенный и неподкупный Марк Туллий Цицерон, чье имя я унаследовал, был самым выдающимся римлянином нашего века.
– Письмо от отца? – с восхищением произнес Кудряш. – Когда встретишься с ним, передай ему мои поздравления. Эта победа – его заслуга. Во всяком случае, в большей мере, чем Гибриды, – добавил он со смехом, – вне всякого сомнения. Знаешь, о чем сейчас поговаривают? Твоего папашу хотят удостоить звания отца отечества или что-то в этом роде.
Когда-нибудь, Прозерпина, я попробую вкратце объяснить тебе, какую роль сыграл мой отец в победе над жаждавшим власти и одновременно жалким Катилиной. Но сейчас скажу только, что должен был последовать приказу родителя, и без промедления: в Риме отцы могли распоряжаться как жизнью, так и смертью своих детей. И хотя это правило считалось устаревшим и уже не всегда выполнялось, мой отец в этом отношении был большим консерватором. Увидев, что я собираюсь отправиться в путь в полном одиночестве, Кудряш спросил меня, где мои слуги. Но я взял с собой в поход только одного из них, а он пропал во время сражения: то ли погиб, то ли сбежал – почем мне знать.
– О боги! – возмутился Кудряш. – И как тебя угораздило отправиться в поход с одним-единственным рабом?
В этот самый момент парни, продолжавшие развлекаться, собирались покончить с последним рабом Гибриды: они уже успели напялить ему на голову шлем, снятый с трупа Катилины, и один из этих дебоширов воздел над ним молот для жертвоприношений, чтобы нанести страшный удар. Слуга зажмурился, дрожа от страха, но в последний момент Кудряш схватил беднягу за руку и дернул к себе: удар кувалды пришелся в землю.
– У-у-у! – разочарованно воскликнули все и покатились со смеху.
Кудряш обратился к слуге, которого только что спас от неминуемой смерти:
– Можно считать, что ты уже умер и, следовательно, больше не принадлежишь Гибриде. В то же время согласно закону ты стал моей собственностью, потому что я тебя спас. А поскольку ты мой, я могу сделать с тобой все, что мне заблагорассудится, – например, подарить тебя кому-нибудь. – Тут Кудряш подтолкнул раба ко мне. – Держи, он твой.
– Ты, несомненно, станешь хорошим судебным защитником, – сказал я Кудряшу.
Так я обзавелся рабом; он стал мне такой же собственностью, как мои сандалии.
– Тебе негоже путешествовать одному, – сказал мой друг. – Дорога до Рима небезопасна. И вдобавок, что скажут люди, увидев патриция без охраны и без слуг? А Гибрида о нем и не вспомнит; кроме того, когда он проснется, у него будут дела поважнее: например, написать в Рим, что сам Юпитер положил ему на колени голову Катилины.
Я окинул подарок Кудряша быстрым взглядом. Передо мной стоял самый обычный слуга, обритый наголо, как все рабы. Над каждым его ухом виднелись буквы клейма «ГГ», то есть Гай Гибрида. Его худое аскетичное тело покрывала ветхая лиловая туника с малиновой полосой на груди. Он был лет на десять старше меня, а мне в ту пору исполнилось семнадцать. На его лице в первую очередь выделялись отвислые щеки, делавшие его похожим на старую клячу; их покрывала сеть глубоких, как русла рек, морщин. С первого взгляда становилось ясно, что он много страдал. Чтобы понять, с каким человеком имеешь дело, нет ничего лучше, чем задать ему несколько хорошо продуманных вопросов.
– Скажи, – начал я, – ты доволен, что стал моей собственностью, или это тебя печалит?
Он опустил глаза и ответил безразличным тоном:
– Если ты, доминус[5], доволен, то и я этому рад.
Прекрасный ответ. Именно этого и ожидали от рабов: они не должны обладать волей, сознанием и решимостью; все их интересы должны отражать волю хозяина. По мнению Кудряша, человек становился рабом потому, что его натура была низменной, а я не мог с ним согласиться, – по-моему, именно жизнь в рабстве унижает человека. Это расхождение во взглядах было существенным, и мы могли бы спорить бесконечно, но палатка, где собралась толпа беснующихся молодцов, которые голосили, подобно петухам, не слишком подходила для философских дискуссий.
В любом случае, дорогая Прозерпина, не думай, что наше с Кудряшом отношение к рабам могло сильно различаться. Мы оба происходили из семей патрициев и выросли в окружении слуг, дорогой мебели и домашних животных; при этом в первую очередь нас обоих научили бережно обращаться с мебелью, а заботиться – о зверье. Когда я выходил из палатки в сопровождении раба, мне навстречу шла группа приятелей-патрициев. Они попытались втолковать мне, что я ошибся: надо было идти в палатку на вечеринку, а не на улицу.
– Во время битвы мне не удалось вынуть меч из ножен, – ответил я им, – и меня это сильно огорчает. Мне только что подарили этого раба, и я решил немного позабавиться: сперва я всажу меч ему в грудь, а потом вспорю живот.
Как ты можешь себе представить, Прозерпина, раб побледнел.
– Это шутка, – успокоил я его, криво усмехнувшись. – Я из Субуры.
(Субура, Прозерпина, – это один из самых населенных районов Рима, и мы, его обитатели, славимся своим острословием и грубым юмором.)
Прежде чем отправиться домой, я решил из чистого любопытства прогуляться по полю битвы. Мой новый раб следовал за мной на почтительном расстоянии. Я захотел приблизиться к грудам трупов, и он направился за мной, точно верный пес.
Поле битвы по окончании сражения всегда являет одну из самых страшных картин: тысячи разбросанных тут и там трупов, хаотичное сплетение мертвых рук и ног. Конец всех агоний вместе: пот, моча и испражнения тел. И тут же рыскали шайки мародеров и набрасывались на тяжелораненых, которые еще не испустили дух и продолжали стонать. Солдаты пытались отогнать их уколами копий, потому что все ценности принадлежали Сенату, но делали это не слишком рьяно.
В тот день я увидел, что известное изречение соответствовало истине: после больших сражений обычно идут долгие проливные дожди, будто совокупность страданий тысяч людей вызывает сострадание небес. Пока я рассматривал поле битвы, упали первые крупные капли. Они падали на землю медленно и печально, дождь был грустным, несмотря на то что битва завершилась нашей победой. Услужливый раб снял с себя тунику и держал ее над моей головой, словно зонт. Шагая по полю и осматривая следы сражения, я завел с ним разговор.
– Ты не беспокойся, – утешил я его. – Я не похож на Гнея-Кудряша. Я бью вас только по справедливости, а не просто так. Он считает вас неодушевленными предметами, как если бы речь шла о речной гальке, а я с ним не согласен. Разница между тобой и мной заключается не в нашем сознании, а в нашей судьбе. Ты всегда останешься рабом только потому, что твое рабское положение не позволяет тебе изменить свой статус. А на мои плечи, поскольку я сын патриция, напротив, ложится обязанность решать свою судьбу. И поверь мне: возможно, твоя жизнь не слишком сладкая, но зато куда более беззаботная. Как тебя зовут?
– Сервус[6].
– Ты раб, которого зовут Сервус?
– Да.
Его ответ рассмешил меня. Такое самоуничижение было высшим проявлением рабства: само имя подчеркивало его угнетенное положение, сводило на нет его личность.
– Вот забавно! – сказал я с издевкой. – С точки зрения риторики твой ответ – анадиплосис, но я не думаю, что тебе знакомо это понятие.
– В стихотворении так называется повтор последнего слова предыдущей строки. Поэтому ты и рассмеялся, узнав, что я раб, которого зовут Сервус.
Меня удивил его тон, его уверенность в себе, его дерзкий ответ, и впервые с тех пор, как мы вышли из палатки претора, я обернулся, чтобы поглядеть на него. Капли дождя струились по бритому черепу Сервуса, а серые глаза смотрели на меня взглядом раненого волка, который одновременно и боится, и ненавидит охотника. Этот человек не был свободным, но не был и невеждой. И если бы в тот момент я послушал свое сердце, а не свой разум, то узнал бы о Сервусе самое важное для себя: с ним в мою жизнь вошли опасность и тревога.
Как я уже сказал, шел дождь и на горизонте сверкали молнии. В эту минуту к нам подошел какой-то солдат:
– Господин, вы, наверное, ищете место, где был повержен Катилина. Это случилось вон там.
И он указал копьем на небольшой холмик. Я пошел туда.
В окрестностях Пистои нет больших открытых пространств, и из-за этого битву нельзя было увидеть во всем ее величии: линию фронта не получалось целиком охватить взглядом. Но там, на холме, я увидел несколько лежавших рядом трупов. Мародеры еще не добрались сюда, и можно было заметить, что доспехи солдат и их одежда были не из бедных. Несомненно, передо мной лежали бойцы личной охраны Катилины. Я внимательно осмотрел их тела.
– Раб, ты видишь под дождем эту страшную картину побоища. Скажи мне, что в ней кажется тебе самым важным и определяющим?
Я не столько обращался к Сервусу, сколько размышлял вслух, как нас тому учили на уроках риторики, и поэтому был удивлен его быстрым и точным ответом.
– Это было войско рабов, беглецов и всякого сброда, но все солдаты ранены в грудь, а не в спину.
И он был прав. Совершенно прав.
Как я уже говорил тебе, Прозерпина, моя цель – рассказать тебе о том, как погибла наша любимая и прогнившая насквозь Республика, и даже более того – поведать тебе о конце жизни, того существования, которое было известно роду человеческому, обитавшему на поверхности земли. И хочу подчеркнуть еще раз: Конец Света начался на следующий день после гибели Катилины.
Через несколько дней после битвы я снова оказался в Риме, куда прибыл в сопровождении Сервуса. Плебс праздновал поражение Катилины точно так же, как мои приятели в палатке претора: все танцевали, пили и пели. Циничность толпы всегда вызывала у меня отвращение: многие из плебеев-бедняков и обездоленных нищих раньше считали Катилину своим героем, но сейчас это совершенно не мешало им участвовать в народном гулянии (оплаченном Сенатом) и праздновать его поражение. Ничего не поделаешь: люди любят повеселиться, а повод для веселья им не слишком-то важен.
Моим отцом был Марк Туллий Цицерон (в Риме, Прозерпина, первенца часто называли именем отца, поэтому нас звали одинаково). И ты обязательно должна уразуметь одну истину: Цицерон был самым лучшим оратором и государственным деятелем, а следовательно, первым среди граждан Республики и главным ее защитником.
Поражение Катилины, в котором Цицерон сыграл не последнюю роль, вознесло его, моего отца, на вершину славы и сделало самым почитаемым гражданином. А теперь, Прозерпина, мне надо кратко изложить тебе историю Катилины, чтобы ты представила, каким был Рим незадолго до Конца Света, и смогла бы понять события, случившиеся впоследствии.
Катилина был молодым патрицием, имевшим все: власть, богатство, имя (и не простое, а доброе), славу (и к тому же хорошую), красивую внешность, молодость и здоровье… Однако в Риме это счастливое сочетание не возвышало личность, а скорее наоборот: избыток роскоши и привилегий погружал людей в трясину порока. Мой отец не раз говорил, что тот, кто всего лишен, хочет чего-нибудь добиться, а тот, кто владеет всем, всегда жаждет большего. Таким образом, Катилина был порочен по своей природе. А где еще можно предаваться порокам, как не в Риме? Чем больше играл Катилина, тем выше делал он ставки, и чем больше он предавался разврату, тем дороже ему обходились женщины. И в конце концов азартные игры и похоть разорили его. Совсем.
Поначалу он не придал этому значения. В Риме слово «разориться» имело разные значения в зависимости от того, был ли ты патрицием или плебеем. Все или почти все патриции залезали в страшные долги, и некоторое время Катилина поступал так же, как прочие представители его класса: брал деньги взаймы, а потом возвращал их при помощи политических интриг. Римский Сенат был прибежищем порока похлеще, чем самый грязный притон Субуры, а потому Катилина, будучи сенатором, продавал свое имя и свой голос в обмен на деньги и услуги.
Довольно долго он слыл самым отъявленным проходимцем в Риме. Катилина со своей компанией головорезов не пропускал ни одной таверны и ни одного публичного дома. Однажды во время одной из таких попоек они даже изнасиловали девственницу-весталку. (Да будет тебе известно, Прозерпина, что весталки были жрицами, хранившими святой огонь Рима. Их выбирали среди самых достойных девиц города, что делало подобное преступление, омерзительное само по себе, еще более отвратительным.) Бесстыдный безумец Катилина, естественно, плевать на это хотел, но римляне считали такой поступок страшным злодеянием. Ему чудом удалось избежать казни.
Помню, что я в ту пору неоднократно спорил с Гнеем-Кудряшом на уроках риторики по поводу изнасилования весталки. По его мнению, этот случай служил доказательством того, что главной угрозой для Республики был недостаток добродетели: судьба Катилины показывала, что порочные натуры склонны к предательству. Я возражал ему: корнем зла, как доказывал случай Катилины, являлся не порок, а долги, ибо без долгов он бы никогда не стал угрозой для Республики, а лишь для собственного здоровья.
Из-за такого поведения Катилины, который продолжал бесчинствовать, его долг вырос до колоссального размера. Никто уже не хотел давать ему взаймы ни асса, а это была самая мелкая из наших монет. Представь себе, Прозерпина: долги в то время надо было возвращать с процентами – двадцать процентов или даже тридцать. После разгрома Катилины мой отец предложил принять закон, согласно которому устанавливался бы более разумный предел – двенадцать процентов. Но тогда вопрос стоял по-другому: как мог Катилина расплатиться со своим огромным долгом при ставке тридцать процентов? Ответ предельно прост: никак. И таким образом развратник и негодяй превратился в безумного революционера.
Он начал посещать таверны не ради веселых попоек, но для того чтобы подготовить заговор, а в публичных домах не трахал шлюх, а устраивал тайные собрания. Катилина начал собирать вокруг себя недовольных и разорившихся людей: сначала таких же патрициев, как он сам, а потом людей более низкого звания и наконец плебеев, самый отъявленный сброд. Но всех их объединяло только одно: долги.
Он даже разрешил, чтобы к его мятежу присоединились рабы! Его последователи шли за ним, потому что деваться им было некуда: плебеев ждал дома только голод, а патрициев – бесчестье. В этом мире их всех преследовали долги, проклятые долги. И потому имя Катилины стало символом: «упразднить долги» – таким был его девиз и единственное требование его кампании. Нельзя не признать, что такая политическая программа была столь же простой, сколь и ясной, но ее воплощение в жизнь привело бы к краху всех наших устоев. Мне вспоминается ответ отца, когда я спросил его, что он думает по этому поводу: «Трагедия демагогических мер, о сын мой, заключается в том, что их можно принять только один раз. Если бы Катилина захватил власть и уничтожил долги, ростовщики, естественно, рассердились бы и прекратили давать займы. В таком случае вся система финансов Республики, как государственных, так и частных, рухнула бы: оборот денег бы прекратился, работникам перестали бы оплачивать их труд, а с рынков исчезли бы продукты. Голод и хаос. Но что еще хуже, без государственных денег как бы мы могли содержать легионы, если вдруг противник решил бы на нас напасть? Какими бы отвратительными нам ни казались эти жирные менялы, которые дают людям в долг на форумах, главная обязанность государственного деятеля – защита существующего порядка, каким бы несовершенным он ни был. – И затем он заключил: – Таков, Марк, главный парадокс общественной жизни: политика, как и военные действия, – это совокупность необходимых зол, от которых мы ожидаем получить некий положительный результат».
Как бы то ни было, речи Катилины с каждым днем имели все больший успех. Вокруг него сплотилась целая орда мерзавцев и пьяниц, ожесточенных несчастливцев, бедолаг, которые обвиняли во всех своих бедах Сенат и лиц, облеченных властью (никто из них не замечал никакого противоречия в том, что сам Катилина принадлежал к власть имущим и даже продолжал быть сенатором). Когда людям нечего терять, они перестают разумно мыслить.
Эти пройдохи начали мочиться на статуи сенаторов – противников Катилины, коих было большинство, и мазать своими испражнениями их мраморные лица. Поскольку никто их не останавливал, очень скоро их перестали удовлетворять нападения на образы этих людей, и мерзавцы стали нападать на них самих. Стоило им встретить какого-нибудь магистрата, как они избивали сопровождавших его рабов, а если бедняге не удавалось вовремя убежать, то доставалось и ему.
В то время в Риме восходили еще два светила в области политики: Юлий Цезарь и Марк Красс. Катилина предложил им присоединиться к своему заговору против Сената. В конце концов, Цезарь был так же порочен, как Катилина, и не менее щедр на обещания: все прекрасно знали его склонность к популизму. С Крассом дело обстояло иначе. Он был несметно богат. Кстати, Прозерпина, его богатство создавалось такими нечестными способами, что об этом стоит здесь упомянуть.
Красс начал скупать недвижимость в Риме, а если домовладельцы не соглашались на сделку, их дом страдал от случайного, скажем так, пожара. Пока из окон дома вырывались языки пламени, а хозяин рыдал, на сцене, подобно ясновидящей сивилле, появлялся Красс и снова предлагал купить дом, однако теперь лишь за четверть первоначальной цены. Что мог ответить ему несчастный домовладелец? Его дом на глазах превращался в груду пепла; любая сумма казалась ему лучше, чем ничего. Хитрость заключалась в следующем: Красса на самом деле интересовал не дом, а участок городской земли, цена которого в Риме могла достигать астрономических цифр. Потом он строил на этом участке шестиэтажный дом и сдавал в нем помещения ватагам пролетариев, единственным достоянием которых в этом мире была их детвора. Стоило только какому-нибудь дому загореться – случайно или нарочно, – Красс и его приспешники были тут как тут и предлагали хозяевам купить пожарище. Таким образом он безумно разбогател.
Но зачем было этому человеку, обладавшему завидным положением в обществе и несметными богатствами, связываться с обнищавшим демагогом Катилиной? Дело в том, что их объединяла беспредельная ненависть к Сенату. Всем было известно, что Красс нанял бы дрессировщика слонов, если бы тот мог гарантировать, что научит животное справлять большую нужду на головы сенаторов.
Однако ни тот ни другой – ни Цезарь, ни Красс – не согласился примкнуть к восстанию Катилины, так как оба сделали свои расчеты. Цезарь видел в Катилине – и совершенно справедливо – не революционера, а просто безответственную личность. А Красс привык вкладывать свои деньги и поднаторел в этих делах; он понял, что Катилина будет таким же плохим правителем, как игроком в кости. А значит, ставить на него не имело смысла – и это тоже была правильная мысль.
Несмотря на то что никто из политиков к нему не присоединился, Катилина продолжал плести заговор против Сената и Республики. Он хотел захватить здание Сената со всеми сенаторами внутри и объявить себя тираном, бессменным диктатором или кем-то еще в этом роде. Почему бы и нет? Кто мог бы ему помешать, если Сенат будет в его власти? Но Катилина забыл об одном препятствии, об одном человеке. О моем отце, Марке Туллии Цицероне, лучшем ораторе в мире со времен Демосфена[7].
Откровенно говоря, Прозерпина, решающее событие, которое вознесло моего отца на вершину славы, было весьма прозаическим, и это еще мягко сказано. Что происходило за несколько дней до того, как Катилина завершил свои приготовления для захвата Сената? Я тебе сейчас это объясню.
В Риме порок и добродетель сочетались между собой так же хорошо, как мед и вино в чаше, и доказательством этому может служить то обстоятельство, что любовница моего отца спала также и с Катилиной. (Мой отец, которого все считали праведником, предпочитал публично называть ее «подругой», ха-ха!) Эта женщина узнала обо всех приготовлениях к мятежу от самого Катилины, который был весьма нерадивым заговорщиком (и кому могло прийти в голову делиться планами по завоеванию Республики со шлюхой?). Она тут же рассказала обо всем моему отцу. Почему эта женщина так поступила? Ответ прост: Катилина был безумцем, а мой отец – нет; Катилина был разорен, а мой отец – нет; моего отца поддерживал Сенат, а Катилину – нет. А проститутки всегда выбирают деньги, власть и существующий порядок. Благодаря этому на следующий день, когда Цицерон предстал перед Сенатом, его язык был так же остро заточен, как рог критского быка[8].
Речь, которую он произнес перед сенаторами и перед изумленным Катилиной, открыла ему путь в Историю. Несмотря на то что Республика переживала в те дни самый серьезный политический кризис, Цицерон хранил спокойствие: вместо того чтобы наброситься на Катилину с проклятиями и оскорблениями, как поступил бы Катон[9], мой отец ограничился тем, что отчитал его, словно невоспитанного мальчишку. Он того заслуживал. «Доколе же ты, Катилина, будешь злоупотреблять нашим терпением?»[10] При помощи подобных фраз он добивался двух целей: с одной стороны, доказывал свое моральное превосходство над врагом, а с другой – и это было важнее всего – давал понять, что ему известны все детали заговора. (На самом деле он знал планы заговорщиков только в общих чертах, а может, и того меньше.)
Пока мой отец произносил свою речь, беспокойство Катилины очевидно возрастало. Немногие сенаторы, которые по причине своей беспринципности или порочности собирались поддержать его, один за другим поднимались со своих мест и от него отдалялись. Безусловно, такое поведение нельзя назвать благородным, но, как говорят циники, люди иногда путают осторожность и подлость. В конце концов Катилина не смог сдержаться: грубо выругавшись, он вышел из Сената.
А сенатору так поступать не следовало. Политика заключалась как раз в обратном: сносить поток диалектической речи, напичканной оскорблениями и клеветой, словно бурю с ее громом и молниями, а потом отвечать с лицемерной улыбкой. Катилине следовало действовать именно так, но он был не политиком, а просто болваном.
Это бегство означало полное его поражение. Поскольку план разоблачили и он, следовательно, потерял всякий смысл, Катилина скрылся в горах, где собрал маленькое войско – вернее, просто плохо вооруженное сборище преступников и негодяев, от которых во время военных действий не было бы никакого толка. Перед ними ставилась единственная задача: войти в Рим, изобразить на улицах поддержку мятежа и отвлечь внимание от второго отряда, которому предстояло ворваться в Сенат. Однако теперь, когда все планы рухнули, дух этой маленькой армии был подорван.
Тем временем мой отец зря времени не терял: Сенат дал ему неограниченную власть, чтобы подготовить силы для защиты Республики. Цицерон поручил командование консульской армией некоему Гаю Гибриде, не слишком знатному аристократу. (Выбор Цицерона определялся тем, что этот человек не мог затмить его славу: хотя мой отец был лицом гражданским и весьма далеким от военных дел, ему хотелось, чтобы поражение Катилины и спасение Республики во веки веков были связаны с его именем.)
Я и все мои приятели из благородных семей, естественно, записались в армию. Несмотря на молодость и крайнюю наивность, мне уже было известно, что римский патриций не должен пропускать ни единой возможности проявить себя и подняться на следующую ступеньку cursus honorum[11], то есть политической карьеры, как ее понимали в Риме. И вдобавок – кто же упустит возможность участвовать в битве, поражение в которой невозможно?
По правде говоря, мы рассчитывали увидеть не сражение, а просто охоту. Сторонники Катилины, к нашему удивлению, сражались лихорадочно и яростно, хотя не имели ни малейшей надежды на победу. Что могла сделать толпа плохо вооруженных негодяев против настоящих дисциплинированных легионеров? Катилина храбро сражался до конца, с самоубийственной отвагой. Этого никто не ожидал: мы поспорили, и большинство считало, что он скроется в Нубии или в каком-нибудь еще более отдаленном краю и покинет свое войско. Но он этого не сделал. Он принял смерть, возглавляя своих сторонников. Кто бы мог подумать! Против всех ожиданий, самая недостойная жизнь завершилась самой достойной смертью. Я не отрицаю, Прозерпина: люди могут вести себя непредсказуемо, особенно те, что живут на поверхности земли.
С другой стороны, речь моего отца в Сенате против Катилины стала одной из самых известных речей, произнесенных на латинском языке. Если ограничиться оценкой техники ораторского искусства, то мне кажется, что он писал тексты гораздо более совершенные. И, откровенно говоря, местами эта речь излишне манерна. Как, например, это нелепое «о времена, о нравы!», словно календарь был виновен в мятеже. И к тому же из этой цитаты как будто следует, что вооруженное восстание народа свидетельствует об упадке нравов. И представь себе, хотя в это трудно поверить, эти слова стали крылатым выражением. Если, например, какой-нибудь цирюльник, брея клиента, случайно царапал ему щеку или квартиросъемщик не вносил хозяину квартиры плату вовремя, потерпевший возводил взгляд к облакам и жалобно цитировал Цицерона: «О времена, о нравы!» Я только что сказал тебе об этом, Прозерпина, и не устану повторять: люди на поверхности земли очень странные. И измениться им не дано.
Таков был он, мой отец, Марк Туллий Цицерон, первый среди римлян и самый благородный из них. Какой внушительный облик! Цицерон отличался высоким ростом и не стеснялся своей дородности. У него была бычья шея, большие руки крестьянина, привыкшего трудиться в поте лица на полях, могучий череп. Однако рот, из которого изливались его бессмертные речи, как ни странно, был небольшим, а губы тонкими. Он обладал низким грудным голосом и всегда отличался сдержанностью, а его глаза не только смотрели, но и слушали. А какая у него была голова! Все государство римское умещалось в этом мраморном черепе. Его присутствие всегда внушало трепет и сковывало волю любого человека, а меня даже более остальных. Разве мог я когда-нибудь забыть о том, что я сын самого Цицерона? Когда я открывал последнюю дверь в покои, где мне предстояло встретиться с ним, мне казалось, что я ныряю в ледяную воду. Вот каким был этот человек!
Так вот, как уже было сказано раньше, получив его послание, я немедленно вернулся в Рим, в район Субура, где мы жили. Я нашел отца в самом центре дома, то есть во внутреннем дворе, где он размышлял, наблюдая за рыбками в маленьком водоеме. Цицерон предложил мне присесть, и мы устроились друг напротив друга на ложах, которые стояли здесь же, во дворике.
– Я оставил в Риме отца, а возвратившись, вынужден делить его со всей страной.
В это время в Сенате уже начались дискуссии о том, чтобы присвоить ему титул отца отечества в знак благодарности за его деяния в защиту Республики во время кризиса, вызванного действиями Катилины. На лице его мелькнула улыбка: даже ему не удавалось скрыть, что такая почесть тешит его тщеславие. Из ложной скромности он сменил тему разговора:
– Как прошла битва?
Я поведал ему обо всем: о неожиданном упорстве сторонников Катилины, о их борьбе не на жизнь, а на смерть, а потом приказал привести в качестве свидетеля Сервуса с его отвислыми щеками.
– Даже Сервус, хотя он не более чем простой домашний раб, – сказал я, – заметил на поле боя одну важную деталь. Пусть он сам тебе объяснит.
Но Сервус был хорошо обучен и рта не раскрыл, пока не услышал приказа хозяина дома.
– Говори, – велел ему Цицерон.
И тогда Сервус объяснил, что все погибшие получили ранение в грудь, никто из них не пытался бежать. Мой отец задумался, не говоря ни слова, сделал пару глотков. Я не смог удержаться:
– Отец, в Сенате говорили, что последователи Катилины – это подонки общества. Но негодяи не сражаются, они спасаются бегством. А эти люди боролись, я тому свидетель.
Цицерон молчал. В тишине дворика слышалось только журчание воды в водоеме.
– Они считали свое дело правым и поэтому сражались до последнего, – продолжил я. – Очень немногие сдались в плен. Они не искали нашего снисхождения! И вывод, который напрашивается из этой истории, весьма серьезен: возможно, это были не преступники, а просто люди, лишенные самого необходимого. Я не стану возражать: их вождь отнюдь не мог считаться образцом добродетели, но они последовали за ним от безнадежности, потому что никто не указал им иного выхода.
Мой отец по-прежнему молчал.
– Мы убили несколько тысяч повстанцев, – продолжил я, – но, когда ростовщики снова начнут давать деньги под большие проценты, опять обнищают тысячи и тысячи людей и появится новый Катилина, чтобы их возглавить. Отец, – заключил я, – раны на груди мятежников говорят, что они нам не враги. Враг Рима – не толпа сбившихся с праведного пути плебеев, а бесконтрольное ростовщичество.
Цицерон не согласился со мной, но и не возразил. Он сказал:
– Твоя мысль столь же интересна, сколь справедлива. Однако я поставлю перед тобой другой вопрос, который считаю более важным: Марк, как ты думаешь, что погубило Катилину?
– Совершенно очевидно, – ответил я, ни минуты не сомневаясь, – непомерное самомнение, порочность, безумие и коварство.
– Нет. Катилину отличали все эти черты, но погубила его неспособность измениться. Рим полон безнравственных патрициев, и Катилина был всего лишь одним из них. Мы же не можем убить всех этих людей, правда? Поэтому мы тайно предложили ему тысячу соглашений, тысячу договоров, чтобы избежать насилия. Я всегда настаивал на том, что наихудший мир предпочтительнее, чем самая замечательная война. Однако он не захотел принять наши условия.
– Но почему?! – воскликнул я.
– Потому что не мог. Он так далеко заплыл в океане порока, что был не в состоянии вернуться в порт добродетели. Если бы он решил измениться, исправиться, то сейчас был бы так же жив, как мы с тобой. Представь себе, что он бы явился ко мне или к сенаторам, которые больше других ненавидели его, и сказал нам: «Помогите мне». Неужели ты думаешь, что мы бы ему не помогли? Нет, этот самый недостойный из оптиматов[12], худший из лучших, получил бы от нас помощь! Каким бы ни был Катилина, он все равно принадлежал к нашему кругу. Любой выход предпочтительнее войны, и цель политики – избежать войны гражданской. – Цицерон тяжело вздохнул. – Но Катилина не сумел измениться, и неспособность преобразиться привела его к гибели. Он предпочитал разрушить Рим, вместо того чтобы попробовать изменить себя. Такова душа человеческая.
Он замолчал и помахал рукой перед носом, словно отгоняя какую-то вонь. Этот жест означал: «Забудем о Катилине». Цицерон напустил на себя важный вид и торжественно произнес:
– Марк, я велел тебе немедленно вернуться в Рим, потому что хочу поручить тебе важное дело.
Эти слова уже касались меня лично, и я заерзал на своем ложе.
– Я хочу, чтобы ты отправился в провинцию Проконсульская Африка[13]. Тебе поручается расследовать один случай, который может стать очень важным как для судьбы Республики, так и, возможно, для всего мира.
Как ты можешь себе представить, Прозерпина, я стал расспрашивать его о своей задаче.
– Ходят слухи, что в глубине провинции происходит нечто странное, – сказал он. – Это лишь слухи, но достаточно обоснованные, если они достигли моих ушей. И согласно им, там появилась мантикора. Один греческий географ писал, что у этого чудовища туловище льва, змеиный хвост и человеческая голова. В пасти его три ряда зубов, и этому монстру очень нравится лакомиться человечиной. – Цицерон еще больше откинулся на своем ложе, точно искал опору для спины, чтобы закончить свое объяснение. – Мантикора интересует нас из-за одной своей особенности: она появляется только во времена, предшествующие гибели великих империй. Гомер упоминает о появлении этого чудовища за несколько дней до падения Трои. Персы, со своей стороны, поняли неизбежность краха их империи, потому что заметили мантикору у палатки Дария ночью перед битвой при Гавгамелах[14], в которой его противником был Александр Македонский. И даже с нашими заклятыми врагами, карфагенянами, случилось нечто подобное. Моему отцу довелось еще встретиться с ветеранами последней Пунической войны[15]. И все они утверждали, что видели, как чудовищное животное ходило вдоль стен города за несколько дней до решающей атаки, и это зрелище подорвало боевой дух защитников Карфагена.
Из уважения к отцу я не расхохотался, но не смог удержаться от шутки:
– Я бы с удовольствием отправил эту самую мантикору, или как еще ее там называют, к Гнею-Кудряшу, чтобы победить его во всех наших дискуссиях о грамматике.
Мой отец ответил мне неожиданно сурово:
– Не смейся! Хотя кажется, будто эту историю придумали, чтобы пугать детвору, все великие авторы, все без исключения, упоминают мантикору. И сейчас одно такое существо появилось к югу от развалин Карфагена.
– Но отец, – возразил я ему раздраженно, – даже если эти слухи верны, какое нам до них дело? На свете нет больше ни одной империи, которая могла бы соперничать с нами, остался только Рим.
– Вот именно.
Он замолчал. И это было молчание человека, который раздумывает о серьезной угрозе.
– Так ты не шутишь? – осмелился нарушить его молчание я. – Ты отправляешь меня в Африку, чтобы проверить какие-то нелепые слухи?
Я не мог поверить своим ушам: отец хотел, чтобы я отправился в далекую затерянную провинцию, путь куда, наверное, был нелегким, с единственной целью – провести совершенно нелепое расследование.
Признаюсь тебе, Прозерпина, причиной моего раздражения в значительной степени являлось честолюбие. Отец в то время оказался на вершине славы, а я был его сыном. После поражения Катилины все его хвалили, осыпали почестями, предлагали важные посты. Оставшись рядом с ним, я тоже, несомненно, мог получить определенную выгоду. Если же, напротив, пока он будет пожинать плоды своей победы, я окажусь далеко, из всего этого потока привилегий на меня не упадет ни одной капли.
Но что мне оставалось делать? Я не мог отказаться, не мог протестовать и даже возразить ему не мог: в Риме существовала непререкаемая норма – patria potestas, то есть власть отца, которая считалась безграничной и святой. А если твоим отцом был Цицерон – тем более.
– Я снабжу тебя деньгами, рекомендательными письмами и транспортом. С этим не будет никаких проблем, меня волнует только одно: обеспечить тебе хорошую охрану.
Всем тщеславным юнцам свойственно хорохориться, а я к тому же рассердился и поэтому заявил довольно нагло:
– Мне не нужна никакая охрана, кроме моего меча.
Цицерон не смог удержаться от смеха:
– Марк, тебе многое хорошо дается, но с мечом ты явно не в ладах; твой учитель говорит, что ты с этим оружием в бою так же бесполезен, как молот, от которого осталась одна рукоять.
Он снова засмеялся, а потом напустил на себя серьезный вид и заявил:
– Я хочу, чтобы тебя сопровождал ахия.
На этот раз рассмеялся я:
– Не шути, отец, ведь ты сам учил меня с презрением относится к верованиям астрологов, магов и лозоходцев. И ахии – только одно из проявлений этих глупых суеверий.
Ахиями, Прозерпина, называли одиноких воинов, воспитанных в монастырях где-то на востоке. Считалось, что они обладают невероятными боевыми навыками, благодаря которым их невозможно победить в сражении. Во всяком случае, такова была теория, потому что я не видел живьем ни одного такого солдата, и само их существование подвергалось сомнениям.
– Ахии, конечно, существуют, – настаивал мой отец, кивая своей могучей головой. – Только их нелегко отыскать, а еще труднее добиться того, чтобы они тебя защищали.
– Господин, я знаю, как связаться с ахиями.
Это сказал Сервус, не попросив разрешения говорить, но важность его заявления извиняла подобную дерзость.
– Ты? – удивился Цицерон. – И как же надо поступить, чтобы разыскать ахию?
– Их не надо разыскивать. Они сами тебя находят, но только тогда, когда посчитают нужным.
Я рассмеялся:
– А как их позвать? Мне что, нанять глашатая?
– Ахий вызывают не голосом, – объяснил Сервус, – а сердцем.
Мы с отцом обменялись удивленными взглядами.
– Сервус был рабом старика Гибриды, у которого уже голова не варит, – объяснил я. – Поэтому, возможно, ему нравится жить в окружении разных чудаков.
– Тебе нужно просто запереться в своей комнате и следовать моим советам, – сказал Сервус, словно пропустив мое замечание мимо ушей.
Цицерон посмотрел на небо: вечерело, а у него еще оставались важные дела.
– Что ты теряешь? – спросил он, поднимаясь со своего ложа. – Если завтра с утра здесь появится ахия, награди этого раба. А если нет, накажи двойной мерой розог: за дерзость и за обман. А сейчас мне нужно заняться делами, чтобы подготовить твое путешествие. Я хочу, чтобы завтра утром все было готово.
– Так, значит, – заныл я, – мне надо отправиться в путь уже завтра утром?
– Зачем откладывать срочное дело, когда можно ускорить события? Тебе дается важное поручение, ты сын Марка Туллия Цицерона, и я возлагаю на тебя большие надежды.
И с этими словами он ушел, оставив меня во дворике. В тот вечер я заперся в своей комнате, горя негодованием и молча страдая от ярости. Меня сопровождали только мое разочарование, кувшин вина и Сервус, который мне его наливал.
– Ну и что же ты мне посоветуешь делать, – сказал я ехидно, попивая вино, – чтобы при помощи магии привлечь ахию к нашему дому в Субуре до восхода солнца?
– Ахии слышат чувства, точно так же как другие люди понимают друг друга при помощи слов.
– Неужели? – недоверчиво произнес я, прихлебывая вино.
– Именно так. В твоей груди должно родиться достаточно сильное переживание, чтобы чувства ахии его восприняли.
– Я хочу тебе напомнить, что в нашем бурлящем жизнью городе обитает почти миллион жителей. Ты думаешь, что все остальные горожане бесстрастны?
– Именно поэтому твои переживания должны быть достаточно сильными и неординарными, чтобы какой-нибудь ахия услышал их и пришел на зов.
– А как, черт возьми, получится, что ахия сможет услышать мои страсти, если они кипят глубоко в моей груди?
– Нектар спрятан еще глубже в чашечке цветка, но пчела может почувствовать это на невероятном расстоянии и прилетит, чтобы его пить.
Спорить с ним было бесполезно, поэтому следующие слова я произнес скорее для себя самого:
– Хочешь знать, какое чувство обуревает меня сейчас? Ярость!
– Это уже неплохо, – сказал Сервус, наливая мне еще вина. – Продолжай в том же духе.
– Все очень просто! Мои приятели и я сам – дети самых знатных римских семей, мы – дети города, который покорил весь мир, и с самого нашего рождения нас воспитывают, чтобы им управлять. А что сейчас получается? Именно теперь, когда мне представляется исключительная возможность продвинуться и получить хорошее место, мой собственный отец выгоняет меня в пустыню. В буквальном смысле слова! – Я швырнул пустую рюмку в стену. – Когда мой отец будет праздновать свой триумф или когда ему устроят овацию, все станут спрашивать: «Где Марк, старший сын Цицерона?» И ехидные злопыхатели будут отвечать сами себе: «Наверное, отец не считает сына достойным, если не хочет видеть Марка рядом даже в такой торжественный день, когда его самого объявляют первым среди римлян».
– Но это не так, – заметил Сервус. – Твой отец отправляет тебя с заданием во благо Республики.
– Это называется политикой, идиот! Государственных должностей меньше, чем тех, кто на них претендует. Известно ли тебе, какую часть тела в первую очередь использует молоденький патриций? Локти! И хочешь знать, кто первым станет распространять слухи, вредящие моей репутации? Мой лучший друг Гней-Кудряш!
В Риме накануне Конца Света, Прозерпина, мы, знатные граждане, обычно вымещали свое недовольство на домашних рабах. Они были подобны книжным полкам, которые молча выдерживали всю тяжесть наших знаний. В тот вечер, выпив добрую половину содержимого кувшина, я стал крушить мебель в комнате.
– Этого недостаточно, – заявил Сервус. – Если ты хочешь, чтобы ахия явился, твое чувство должно стать сильнее, напряженнее и призывнее. И быть более искренним.
Не слушая его, я опустился на пол в углу комнаты. Вино ударило мне в голову.
– Я не просто плохо владею мечом, я совершенно никчемный боец. Мой учитель из Иллирии[16] говорит: «Марк, сколько я ни стараюсь, ты до сих пор не знаешь даже, с какой стороны надо браться за гладий». И однажды я понял тому причину: мне никогда не стать хорошим бойцом, потому что я не выношу вида ран. Я не могу смотреть, как острый клинок вонзается в человеческую плоть. И знаешь почему? Потому что я трус, и с этим ничего не поделаешь: оружие внушает мне безумный страх. – Я перевел дыхание и продолжил: – Несколько лет назад, как раз перед тем, как мне предстояло облачиться в тогу, которую носят мужчины, мне каждую ночь снился один и тот же сон: я падаю вниз и вниз в бесконечно глубокий колодец, чьи стены щетинятся остриями мечей. Они ранили меня, но не убивали, и мое падение не прекращалось, оно длилось вечно. Отец успокаивал меня, говоря, что подобные сны характерны для юношей моего возраста и что это пройдет, когда я смогу носить тогу. Но даже Цицерон может ошибаться: ночные кошмары не прекратились, я не перестал бояться мечей и колодцев. Ничего подобного. Просто я больше не говорю с отцом о своих страхах, чтобы ему не было за меня стыдно. Я ненавижу заточенные клинки и бездонные колодцы, ненавижу и боюсь. А теперь ответь: ты можешь себе представить человека, который претендует на магистратуру в Риме и при этом ненавидит два главных достижения нашего государства – военное и инженерное искусства?
Я выпил еще вина и засмеялся над самим собой – бедным пьяницей, потерпевшим поражение, но позволяющим себе язвить.
– Пару дней назад, – напомнил я Сервусу, – в палатке претора Гибриды, там, где ты стал моей собственностью, собралась компания юнцов, помнишь? Тогда нас окружали будущие наместники Македонии, Испании, Азии. Все эти мальчишки однажды превратятся в консулов и преторов, завоюют земли, которые пока не принадлежат нам. Их имена обретут бессмертие благодаря монетам, где запечатлеют их профили, их лица будут воспроизведены в камне памятников и бюстов. А я? Я – трус. – Я поднял голову и посмотрел Сервусу в глаза. – Как это ни удивительно, в той палатке было только два человека, которым не суждено сделать ничего примечательного, – ты и я. Для тебя, всю жизнь проведшего в рабстве, в таком положении вещей нет ничего нового, ты от этого никак не пострадаешь. Но для меня это самое жестокое унижение, которое ложится на мои плечи непомерным грузом: я, сын самого храброго героя во всей Римской империи, одновременно являюсь самым отъявленным ее трусом.
Я вздохнул, всхлипнул и снова заговорил, несмотря на икоту, прерывавшую мою речь:
– Мантикора! Какой глупый повод отправить меня с глаз долой! Какой идиот поверит в эту детскую сказку? И знаешь, что хуже всего? Я думаю, что сплетни, которые распустит Кудряш, чтобы объяснить мое отсутствие, на самом деле будут не пустыми выдумками, а чистой правдой: Цицерон удаляет меня, потому что знает о моей слабости и стыдится своего сына.
– Вот теперь, – сказал Сервус бесстрастно, – твой клич может дойти до какого-нибудь ахии.
А сейчас, Прозерпина, я хотел бы объяснить тебе, почему судьба молодого патриция в Риме накануне Конца Света была такой нелегкой.
Да, конечно, я понимаю, что мы обладали многими привилегиями и жили в роскоши и достатке. В конце концов, Рим владел всем миром, а наши отцы, патриции, были избранным меньшинством, которое правило в столице.
Однако за этим великолепием и роскошью скрывалась жестокая реальность: вся наша жизнь подчинялась строжайшей дисциплине. Послушай, какими были наше детство и отрочество.
До тринадцати лет сыновьям аристократов давал уроки частный педагог (особенно ценились греки). Однако это было единственное обстоятельство, которое отличало нас от сыновей плебеев. До этого возраста я обычно играл на улицах и в переулках Субуры с ребятами из разных семей, не делая между ними никакого различия. У нас была веселая компания. Мне вспоминается, что мы устроили свой тайник в коротком тупике, где всегда было темно и пахло гнилыми овощами. Он стал центром нашего мира, и кто-то из нас назвал его Родосом в честь острова, где жили кровожадные пираты. Да, мы были пиратами, а зловонная улочка – нашим секретным пристанищем. Кстати, именно там, в тупике Родос, я познакомился с Кудряшом. Знаешь, Прозерпина, почему детство – это особая пора? Потому что, какое бы детство тебе ни досталось, хорошее или скверное, оно останется с тобой на всю жизнь.
Однако, когда тебе исполнялось четырнадцать, тебя облачали в тогу взрослого мужчины, и после этого ритуала римские мальчишки уже не считались детьми. Прощай, детство; прощай, наш тупик Родос! Какая перемена! После детских игр начиналась жизнь, которая проходила в беспрерывном соревновании. Таковы были традиции.
От благородного юноши требовалось многое: блистать в ораторском искусстве, отлично ездить верхом, петь, быть хорошим атлетом и гимнастом, безупречно орудовать мечом (да-да, мечом!), говорить по-гречески так же свободно, как по-латински, и писать поэмы из тысячи строк на обоих языках. Но недостаточно было успешно освоить все эти науки и искусства – требовалось также занять важное положение в обществе: если юноша принадлежал к знатному роду, ему приходилось постоянно доказывать, что он достоин своих предков, а если, напротив, его родные ничем не выделялись, ему надо было доказать, что фамилия его семьи никакого значения не имеет. А как этого достичь? Налаживать контакты в обществе. На форуме, в банях, в цирке и в театре – как до спектакля, так и после, – в публичных домах и всюду, где только можно. Надо выучить сотни имен разных людей и делать вид, будто любишь их по-настоящему. С распутниками тебе придется быть таким же повесой, как они, и участвовать в оргиях и вакханалиях. А когда доведется иметь дело с последователями Катона, следует проявить простоту духа, скромность характера, с презрением относиться к роскоши и ненавидеть иностранцев, особенно скифов, потому что, по мнению этого политика, именно они угрожали устоям римского общества. (Я, Прозерпина, никогда в жизни не видел ни одного скифа, даже в Субуре, где иноземцы встречались так же часто, как камни на римских дорогах. Но на всякий случай в присутствии последователей Катона я всегда показывал, что смертельно ненавижу этих самых скифов, кем бы они ни были.)
Cursus honorum, или политическая карьера, превращался в настоящий бег с препятствиями. Римские общественные должности – те самые магистратуры – располагались в иерархическом порядке, и патриций должен был подняться по ступеням служебной лестницы, не пропуская ни одной из них: квестор, эдил, трибун и претор. И наконец получить главную премию – стать консулом.
Каждое из этих мест можно было занять лишь по достижении определенного возраста. Законом и традицией запрещалось занимать должность квестора, если тебе еще не исполнилось тридцати, а эдила – тридцати шести. Наивысший пост консула, к которому стремились все, можно было занять только после сорока двух. К тому же от юного патриция требовалось выполнить еще одно непростое условие: безупречный cursus honorum предполагал, что патриций получал ту или иную должность «в свой год», то есть становился квестором в тридцать, эдилом в тридцать шесть и консулом в сорок два. Если этого не случалось, старые магистраты, сенаторы и прочие патриции всегда напоминали ему об этом обстоятельстве, говоря: «О да, конечно, теперь он магистрат, но не смог занять этот пост в свой год».
Даже ты, Прозерпина, будучи существом из другого мира, можешь понять, что от молодых патрициев требовали нечеловеческих усилий. Недаром патриции называли себя оптиматами, что означало «лучшие из людей». Возможно, звание это и не было заслуженным, но могу тебя заверить: испытания, которые они вынуждены были пройти, чтобы приобщиться к столь избранному кругу, оказывались посложнее тех, что устраивали спартанцы.
Конкуренция была жестокой: во время предвыборных кампаний и самих выборов в ход шли миллионные взятки, грязные обвинения и неумеренная лесть. Претенденты готовы были на любые шаги ради магистратуры и тем более – чтобы заполучить должность «в свой год». Гней-Кудряш был моим закадычным дружком со времен Родоса, но любой из нас, ни секунды не сомневаясь, сделал бы все что угодно, лишь бы опередить друга и занять место первым. В чем заключалась суть cursus honorum? В самом жестоком лицемерии и в самой лицемерной жестокости.
Накануне моего путешествия в Африку я был семнадцатилетним юнцом, и должен был пройти еще не один год, прежде чем я смог бы претендовать на самую низшую должность квестора. Казалось, времени у меня было предостаточно, но успокаиваться не стоило. Начнем с того, что римлянин, желавший получить магистратуру, должен был до этого поучаствовать по крайней мере в десяти военных кампаниях. В десяти! А у меня на счету пока была только одна, против Катилины, и вдобавок никто нам не объяснил как следует, берутся ли в расчет военные действия против войска рабов.
Теперь ты понимаешь, Прозерпина, почему я так расстраивался и переживал? Рим был центром мироздания, и если именно в тот момент мой отец удалял меня оттуда, вся моя карьера могла рухнуть. Зачем? Почему он так поступал? Может быть, Цицерон хотел меня испытать? Или желал, чтобы лишения и трудности закалили мой дух и мое тело? А может быть, он сам участвовал в каком-нибудь заговоре сенаторов и хотел отправить меня из города на случай неизбежных репрессий, если их план провалится? Дело в том, Прозерпина, что в мире перед Концом Света политика была делом не менее опасным, чем война, но имелось и одно важное отличие: на войне люди рисковали только собственной жизнью, а участвуя в политических кознях – и своей, и своих близких. Как мог мой отец, сам знаменитый Цицерон, верить в существование фантастического чудовища только потому, что о нем упоминали два или три известных древних автора? Такое случается. Иногда, Прозерпина, люди образованные, которые читают слишком много книг, верят в их содержание больше, чем в богов.
Но сейчас, Прозерпина, позволь мне вспомнить, как мы шутили в Субуре, и сказать каламбур, который сейчас, после всего случившегося потом, звучит даже забавнее: меня отправляли на край света, не подозревая даже, что именно там, в той глуши, куда я направлялся, начинался Конец Света.
Так вот, в результате я спал очень мало и скверно; мне снились колодцы и клинки, и на следующий день я поднялся в отвратительном настроении. Раб Деметрий, который захотел помочь мне одеться, в знак благодарности получил пару подзатыльников.
На прощание отец сделал мне подарок: он купил для меня паланкин и пятерых рабов-носильщиков для путешествия. Паланкин, Прозерпина, был очень удобным видом транспорта. Представь себе широкое ложе на горизонтальных шестах, четыре конца которых кладут себе на плечи носильщики. Если рабы хорошо обучены и шагают размеренно, путешествие проходит спокойно и за день можно покрыть довольно большое расстояние. К тому же у паланкина имелись две дополнительные детали, которые делали этот отцовский подарок еще удобнее: во-первых, ложе для путешественника было скрыто за занавесями, и там всегда можно было спрятаться от посторонних взглядов; а во-вторых, снизу к паланкину крепились ящики для багажа. Ты, наверное, заметила, что я говорил о четырех концах шестов, а в подарок я получил пятерых рабов, а не четверых. Так делалось для того, чтобы носильщики могли отдыхать поочередно, – все было отлично продумано.
Пятеро рабов загружали мой достаточно объемный багаж в нижние ящики паланкина. Оставалось только решить вопрос моей охраны, и такая предосторожность была нелишней, потому что дороги Италии и всех римских владений кишели шайками бандитов. На суше на путников нападали разбойники, а на море – пираты, поэтому путешественники предпочитали передвигаться большими группами или под многочисленной охраной. Как ты помнишь, Прозерпина, Сервус похвастался своими знаниями об ахиях, и, когда мы стояли возле дома, я решил немного над ним поиздеваться. По улице мимо нас проходили толпы самых обычных римлян, и я спросил:
– Ну и где же твой знаменитый ахия? Я вижу лишь самых обычных плебеев.
– Доминус, – попытался оправдаться раб, – я только предложил тебе попробовать направить свои чувства, словно луч маяка в ночи. И нам не дано знать, что случилось. Может быть, ни один ахия не смог тебя почувствовать, а может быть, они отвергли твой призыв.
В эту минуту в разговор вмешался Цицерон.
– А с ним что мне делать? – спросил он, имея в виду Сервуса. – По сути дела, он принадлежит тебе.
В нашем доме была дюжина таких же рабов, как Деметрий, однако все они, естественно, принадлежали моему отцу, а не мне. До этой минуты мне не приходило в голову, что по закону Сервус являлся моей собственностью. Я не стал долго размышлять:
– Избавься от него, – решил я. – Предчувствие говорит мне, что этот раб не принесет мне ничего, кроме неприятностей.
Мои слова означали, вне всякого сомнения, смертный приговор. Сервус в отчаянии бросился мне в ноги, моля сохранить ему жизнь.
И в этот миг появился ахия.
Цицерон прищурил глаза, как делал всякий раз, когда старался рассмотреть что-то вдалеке или наблюдал нечто, особенно достойное восхищения. Я проследил за его взглядом и увидел это существо.
Оно шло прямо к нам, и два его свойства сразу бросались в глаза: во-первых, оно было нагим, а во-вторых, это была женщина.
Я только слышал рассказы об ахиях и считал их какими-то сказочными или легендарными существами, наподобие единорогов или пигмеев, которых никто никогда не видел на самом деле. И тем не менее эта женщина в точности соответствовала описанию ахий, хотя до того момента я не подозревал, что среди них есть женские особи.
Она была стройна, удивительно стройна, и на ее обнаженном теле не было ни одного волоска: ее кожа казалась абсолютно гладкой, как у дельфина. Голова была обрита наголо так аккуратно, что казалась сделанной из слоновой кости, а ресницы и брови просто отсутствовали. Когда я сказал, что она была нагой, то имел в виду, что ее тело не закрывал ни один, даже самый маленький лоскуток ткани. Однако на груди у нее был нарисован или вытатуирован большой крест в форме греческой буквы хи; он занимал все туловище, и на его фоне выделялись маленькие и твердые груди. Позже я увидел, что вторая большая X украшала ее спину, и понял, откуда взялось их имя – ахии.
Все ее мускулистое тело было натренировано, каждая мышца казалась напряженной и сильной. Она не вписывалась в принятые каноны женской красоты: римлянам нравились матроны с широкими бедрами и мягкими ягодицами, а ее точеное тело, напротив, отличалось худобой. Как это бывает у кошачьих, в нем удивительно гармонично сочетались ловкость и сила. Пораженный этой картиной, я присмотрелся получше: она не носила никакой одежды, но правую щиколотку украшало нечто похожее на каменное кольцо. И ни клочка ткани, только огромные татуированные буквы X как подобие одежды. Она продвигалась по улице, никак не стесняясь своих открытых всем взорам грудей и прочих женских атрибутов, и, что самое удивительное, никто не возмущался и не обращал на пришелицу ни малейшего внимания. Только иногда какой-нибудь прохожий бросал на нее украдкой короткий взгляд на ходу, даже не останавливаясь. И пока я наблюдал за этой сценой, мне в голову пришла следующая мысль: хотя патриции и плебеи жили в одном и том же городе, на самом деле мы обитали в двух разных мирах. То, что для меня было туманной легендой, для них оказалось явлением совершенно естественным, что подтверждалось их невозмутимостью при появлении на улице настоящей ахии.
Я тебе уже объяснил, Прозерпина, что ахии были чем-то вроде странствующих воинов. Победить их было практически невозможно, потому что они обладали фантастическими способностями в области военного дела. Их религия казалась нам очень странной, и им не нравилось связываться с людьми. Все в них было покрыто тайной, и одного взгляда на первого, вернее – первую увиденную мною ахию мне оказалось достаточно, чтобы понять: этот секрет мне не раскрыть никогда.
Мой отец пришел в себя прежде всех.
– Вот это да! – воскликнул он. – Добро пожаловать, ахия! Теперь не надо искать охранников. – И, обращаясь ко мне, произнес: – Твой раб сдержал слово. Бросать его теперь было бы некрасиво.
И само собой разумеется, это был не совет, а приказ.
– Конечно, – ответил я покорно и, решив показать свою власть, шагнул к ахии и произнес: – Кем бы ты ни была – воительницей, восточной весталкой или кем-то еще, заруби себе на носу: здесь командую я.
Цицерон мягко потянул меня за локоть.
– Марк, – сказал он, – оставь ее в покое. Ахии неразговорчивы, а ее добровольное появление показывает, что она будет защищать тебя до твоего возвращения или до смерти.
И он заключил меня в медвежьи объятия, скорее следуя традиции, чем выражая искренние чувства:
– Помни всегда, что ты римлянин, к тому же из рода Туллиев. Прощай.
Таково было его напутственное слово.
Вот так и началось, дорогая Прозерпина, мое путешествие в Проконсульскую Африку в компании Сервуса и ахии (больше никого со мной не было, пять рабов-носильщиков не в счет). Я ехал в паланкине, а Сервус и ахия шли перед ним пешком, чтобы прокладывать нам дорогу, если понадобится.
Наше путешествие состояло из нескольких этапов. Сначала нам надо было добраться до побережья, поэтому мы достигли Тибра и сели там на речное суденышко, которое должно было довезти нас по реке до морского порта в Остии[17]. Когда мы поднялись на борт, снова стало ясно, что ахия не подчиняется законам остального мира: она не заплатила за проезд и никто от нее этого не потребовал. Казалось, люди видели в ней некий призрак в телесной оболочке – существо, которое вхоже в наш мир, но к нему не принадлежит.
Еще удивительнее показалась мне реакция людей в большом порту Остии, где мы собирались сесть на корабль, чтобы добраться до Сицилии, следующего пункта на нашем пути в Африку. Стоило нам оказаться на палубе, как пассажиры и моряки страшно обрадовались и закричали: «Ахия, ахия едет с нами!» Эти люди были так уверены в волшебной силе ахии, что само ее присутствие, казалось, должно было обеспечить им защиту от нападений пиратов или от грозной морской стихии. Все благодарили богов и ликовали. Я только презрительно покачал головой, объяснив для себя этот избыток энтузиазма беспредельной глупостью плебеев.
2
Безбрежности моря и пустыни действуют на людей по-разному: оказавшись в одиночестве среди песчаных дюн, они думают о своих богах, а в волнах океана – о крахе всех надежд.
Что может быть однообразнее путешествия по морю? На корабле заняться совершенно нечем, и остается только смотреть на простор серых волн, прикрывая чем-нибудь плечи. Волны так же отвратительно однообразны, как дюны пустыни. Нет, пожалуй, я не прав: волны еще хуже, потому что они всегда в движении и словно смеются и издеваются над нами, раскачивая корабль и толкая его то вправо, то влево.
Путешествие по морю неприятно сочетанием двух обстоятельств: избытка свободного времени и недостатка пространства. Чтобы немного развлечься, я написал пару стихотворений, слишком длинных и очень скверных, но это упражнение не развеяло мою скуку; от нечего делать мне пришло в голову понаблюдать за самым необычным пассажиром нашего корабля – ахией.
Как я уже говорил, тело моей спутницы свидетельствовало о необычайной силе, но не походило на грузные фигуры фракийских гладиаторов с их накаченными мышцами: ее туловище, руки и ноги казались идеально сложенными, а под кожей не было ни капли жира. Своими повадками эта женщина напоминала кошку: бо́льшую часть времени, как днем, так и ночью, она спала в каком-нибудь уголке на палубе, свернувшись клубочком, как младенец, хотя глагол «спать» кажется мне не слишком точным. У меня создавалось впечатление, что даже во сне она следит за всем происходящим лучше, чем вся бодрствующая команда корабля. Меня восхищала ее способность приспосабливаться к любой температуре: ахия ни разу не пожаловалась ни на ночной холод, ни на дневную жару.
Кроме того, она не придавала никакого значения нуждам своего тела и не имела в буквальном смысле слова ничего. Ее религия отвергала любую собственность как слишком поверхностную. Когда ахия испытывала голод или жажду, она делала простой и понятный всем жест: протягивала руку. И тут же пассажиры и моряки спешили положить ей на ладонь свои скромные приношения. Некоторые женщины, наиболее понятливые, толкли для нее в ступке немного овса, добавляли к нему горячую воду и перемешивали эту кашицу, пока она не становилась склизкой. Ничего другого ей не требовалось, она принимала только эту пищу, да еще какие-нибудь сырые овощи, точно кролик, и вообще ела очень мало.
После восхода солнца она обычно делала упражнения, каких я никогда раньше не видел, хотя в наших гимнасиях работали самые лучшие учителя. И должен признаться, меня восхищала ее способность управлять своим телом. Ахия обладала такой нечеловеческой гибкостью и невероятной грацией, что, наблюдая за ней, зрители сомневались, кто перед ними: балерина, которая ведет бой, или воительница, которая танцует. Но это была только подготовка к настоящей тренировке. Потом наступало время для укрепления мышц, развития координации всех частей тела и других способностей: для этого она опоясывалась веревкой, спускалась на ней за борт и делала упражнения между обшивкой корабля и волнами, которые бились о корабль с такой силой, что хлопья пены падали на палубу.
Но самым удивительным было другое упражнение. Несмотря на нехватку места на корабле, ахия умудрялась заниматься бегом, придумав для этого удивительный прием: она спускалась по одному из бортов корабля и принималась бегать с огромной скоростью вокруг судна, цепляясь руками и ногами за любые выступы. Зрелище казалось почти невероятным: мне не удалось бы даже удержаться, а она двигалась вдоль этой абсолютно вертикальной стены с такой ловкостью, что казалась помесью паука и мартышки.
Что же касается отношений с людьми, то она их практически не поддерживала, ни с кем не разговаривала, была сдержанной и безразличной ко всему, будто не хотела сближаться ни с кем. Порой кто-нибудь из пассажиров почтительно подходил к ней и оставлял у ее ног небольшое подношение: пару монет или даже крошечную вотивную статуэтку. Она не благодарила людей, но и не оскорблялась, не возвращала подарок, но и не брала.
Однажды, рассматривая ее, я снова обратил внимание на странное каменное кольцо, которое она носила на правой щиколотке. Оно было твердым, шероховатым, темно-серого цвета и сделано, скорее всего, из какого-то минерала, а не из металла. Как бы то ни было, оно не могло быть остатком старых кандалов. Я предположил, что это кольцо как-то связано с обетом, данным Гее, которой поклонялись ахии, но никакой уверенности в этом у меня не было: это существо было непостижимым.
На протяжении всего морского путешествия, которое прошло в несколько этапов, до нашего прибытия в Африку мы разговаривали только три раза и очень недолго. Вот, Прозерпина, наша первая беседа:
Я: Как тебя зовут?
Она: Ситир. Ситир Тра.
Конец первого разговора.
А вот и второй, на следующий день:
Я: Ну хорошо, Ситир, вас, ахий, привлекают сильные чувства. Но в ту ночь, насколько я помню, я был просто раздражен и разочарован, и мной двигали разве что непомерное тщеславие и раненое самолюбие. Как же так? Неужто эти чувства достойны того, чтобы ты рисковала своей жизнью, защищая меня?
Она: Если тебе это неизвестно, мой ответ на твой вопрос ничего тебе не даст.
Здесь я должен сказать, что Сервус внес свой небольшой вклад в наши рассуждения:
– Никто не знает, почему пчелу влечет нектар из одного цветка, а не из другого, доминус, но совершенно ясно, что тому есть причина.
Я подумал было, что на этом наш разговор заканчивается, но не смог удержаться от шутки в субурском духе и сказал что-то вроде: «А вот эта женщина никого не привлечет, хотя и разгуливает, показывая всему миру свои прелести». И тут она, Ситир, подскочила ко мне, и от ее слов мне стало не по себе.
– Ты прав, в тот вечер от тебя исходили только злобные и ребяческие эмоции. Но наставники, служащие богине Гее, учат нас читать не только чувства, но и то, что спрятано за ними.
– Неужели? И что же ты разглядела за моими чувствами?
– Птенчика, который хочет вылупиться из яйца. И я здесь, чтобы помочь ему разбить скорлупу. Но постарайся меня не разочаровать. – И потом она добавила: – Ты знаешь, что представляет собой этот мир? Огромная силосная башня, в которой хранится не зерно, а страдание, и бо́льшую часть этого страдания причиняют не смерть или болезни, а несправедливость. И вот сейчас, когда в мире столько несправедливости и столько несчастных, которых можно спасти, я трачу свое время на тебя.
Она положила ладонь мне на грудь под ключицей, посмотрела на меня своими зелеными глазами – о, какие у нее были глаза! зеленее, чем водоросли в заводи Стикса, – и сказала:
– Я больше не буду тебе этого повторять, птенчик; но если ты разочаруешь богиню Гею, я тебя придушу.
Она произнесла эту угрозу таким же бесстрастным тоном, каким бы могла сообщить: «Вечером я убью кролика и приготовлю ужин».
И наконец, наш третий разговор:
Я: Ты не слишком разговорчива, Ситир Тра.
Она: Зато ты, птенчик, чересчур болтлив.
Раньше я сказал, Прозерпина, что плебеи очень обрадовались, узнав, что поплывут на одном корабле с ахией, однако они не докучали ей, а скорее наоборот. Хотя на палубе всегда скапливалось много народу, вокруг Ситир обычно образовывалось свободное пространство, будто все предпочитали держаться от нее подальше. Я поделился своими наблюдениями с Сервусом:
– Плебеи преклоняются перед ахиями, это совершенно очевидно. В чем дело: они считают их своими спасителями или испытывают перед ними священный трепет?
– Я вижу, доминус, тебе незнакома поговорка.
– Нет.
И тут он произнес:
– «Если встретишь козу, не подходи к ней спереди; если встретишь лошадь, не подходи к ней сзади; а коли встретишь ахию… не подходи вообще». – И он заключил: – Ахии сами приближаются к человеку, которого решили защищать, что случается крайне редко. Мне кажется, доминус, ты еще не отдаешь себе отчета в том, насколько тебе повезло заполучить ахию в хранители.
Вот такова была Ситир Тра, ахия.
Путешествие в Африку оказалось долгим и утомительным. Ты, Прозерпина, живешь в такой огромной подземной пещере, что в ней бы легко поместился целый остров Корсика, и поэтому тебе трудно понять, какую важную роль играли моря для нас, римлян. На поверхности земли океаны полны не пресной водой, не лавой и не ртутью, а, каким бы странным это обстоятельство тебе ни показалось, водой соленой. И эти огромные пространства, заполненные непригодной для питья водой, не разделяли владения Римской империи, а объединяли.
В Мессине мы пересели на другой корабль, который довез нас до Лилибея на самой западной оконечности острова Сицилия[18], а там нам пришлось подняться на борт третьего корабля. На этот раз мы уже отправлялись в Утику, столицу провинции Проконсульская Африка.
Во время этого последнего путешествия по морю я посвятил досуг тому, что мне следовало бы сделать гораздо раньше: мне захотелось расспросить Сервуса о его прошлом и узнать, почему он так много знает об ахиях. И он рассказал мне историю своей печальной жизни, такой же серой и пустой, как море, что окружало в тот день наш корабль. Сервус был сиротой, а в нашем мире перед Концом Света такая судьба вела прямиком к жизни, полной страданий, унижений и несчастий. А потому, прежде чем продолжить рассказ, позволь, чтобы тебе было понятнее дальнейшее повествование, коротко описать важнейший общественный институт, основу нашей древней и прогнившей Республики, – рабовладение.
В Риме перед Концом Света люди попадали в рабство в основном четырьмя способами. Во-первых, из-за долгов. Гражданин, неспособный вернуть свои долги, обычно возвращал их ценой своей свободы. Во-вторых, дети рабынь становились собственностью доминуса своей матери. Однако эти два способа не могли значительно увеличить численность рабов. Третьим способом, который, напротив, обеспечивал мощный приток невольников, была война.
Первая причина и объяснение любой войны – выгода, которую рассчитывают получить те, кто ее развязывает. Это закономерно, и я могу уверить тебя, Прозерпина, что рабы были для римских патрициев самым главным, надежным и верным источником богатств, гораздо важнее, чем золото или серебро. Тем не менее приток пленных сильно колебался: он зависел от результатов кампаний, а никто не знал точно, когда война начнется, чем закончится и можно ли будет извлечь из нее достаточную выгоду.
Таким образом, достойнейший, важнейший и всеохватывающий общественный институт, коим являлось рабовладение, мог продолжать свое существование в основном благодаря четвертому способу – использованию сирот.
В Риме и его владениях рождалось огромное количество нежеланных детей; родители оставляли на произвол судьбы тысячи и тысячи младенцев, и огромное их большинство пополняло ряды рабов.
Детей оставляли у ворот учреждений, которые представляли собой не что иное, как выгодные предприятия. Сирот там обеспечивали кровом над головой и пропитанием (довольно скудным), рассчитывая получить с этих затрат в будущем солидные проценты: как только малыши могли поднять мотыгу или идти за плугом, их продавали как сельскохозяйственных рабочих. Я не стану здесь распространяться о самых темных сторонах этих сделок, Прозерпина, чтобы не оскорблять твой слух. Сервус был одним из этих безымянных детей. Одним из многих. Но ему повезло: его взяли к себе монахи, поклонявшиеся богине Гее.
Они принадлежали к необычному религиозному ордену, чьи корни уходили на Восток. На самом деле их верования отличались от всех прочих, и, насколько мне известно, этот культ был единственной атеистической религией из всех существовавших. Они не верили ни в какого бога (хотя наш пантеон предлагал им самый широкий выбор). Монахи считали Гею женщиной, чтобы иметь возможность создавать ее скульптурные изображения и представлять себе образ богини. Однако Гея для них была скорее не божеством, а некоей идеей, размытым понятием. Она считалась началом начал, естественным состоянием мироздания, то есть покоем и равновесием. (Да разве покой – естественное состояние мира?! Не смешите меня! Последователям Геи следовало бы наведаться на площади Рима и погулять немного среди орущих торговцев, полумертвых уток и поросят, проституток и воришек!) Вообще-то, последователи Геи не отрицали категорически существование божеств; они просто утверждали, что люди слишком ничтожны, чтобы им было дано точно знать, есть ли на свете бессмертные боги или нет, а коли этот вопрос нельзя решить, то не стоит и терять время попусту. Однако из постулатов этой религии следовало, что люди могут уразуметь и различить два понятия: чувство справедливости и смысл эмоций. Таким образом, верившие в богиню Гею считали, что в жизни у людей может быть только две цели: установить справедливый порядок в обществе людей и понять их чувства.
Я объяснил тебе все это, Прозерпина, потому что Сервуса подбросили к воротам монастыря Геи. Считалось, что эти монахи лучше других обращаются с сиротами, а поэтому у их ворот всегда появлялись корзинки с младенцами. Сервус оказался среди счастливцев, потому что его взяли в один из таких монастырей. Их было много в провинции Азия, в Иудее и в Египте. Насколько я знаю, западнее Анатолии таких монастырей не было, а значит, родители Сервуса жили где-то на Востоке. Как бы то ни было, черты его лица и даже его лошадиные щеки могли принадлежать выходцу из любой римской провинции.
И вот как обстояло дело: монахи воспитывали детей, но, когда тем исполнялось десять лет, им предстояло пройти первый отбор: самых способных – то есть самых умных, одаренных и здоровых – отправляли в главный монастырь, расположенный к востоку от Дамаска, на самой границе пустыни. Он славился своими размерами и мог принять одновременно до двух тысяч детей. Там на протяжении пяти лет их воспитывали в крайней строгости и посвящали в эзотерические тайны религии Геи. Когда детям исполнялось пятнадцать, из них снова отбирали лучших: только каждого сотого (одного-единственного из каждой сотни!) отправляли в другой монастырь, гораздо меньше первого. Его расположение хранилось в тайне. Известно лишь, что он находился в азиатской пустыне и был отрезан от всего мира.
Там юноши и девушки занимались как духовными упражнениями, так и военной подготовкой и закалялись так, что в сравнении с ними древние спартанцы показались бы нам слабаками. Молодых людей испытывали на прочность, проверяя границы возможностей их тела и духа. Они учились убивать и любить, им надо было страдать с любовью, любить с болью, очищать свою душу, заострять чувства и укреплять тело. И тех, кто выносил все эти сладостные муки, ждало еще последнее, решающее испытание.
Сервус оказался среди этой группы избранных, но очень долго не хотел рассказывать мне, в чем заключался этот важный ритуал. Я заставил его говорить, потому что доминусу принадлежит не только тело раба, но и его прошлое. Он заговорил и поведал мне вот что.
У стен этого тайного монастыря располагался гигантский кратер, который образовался, согласно древней легенде, когда с неба упала огромная скала. (Вот еще пример идиотских суеверий: как могут с неба падать камни, если все прекрасно знают, что над нашими головами находится эфир и на нем не может удержаться никакое тело тверже облаков?) Так вот, когда наступал день испытания, все юноши и девушки собирались возле Большого кратера, на краю котловины шириной в тысячу шагов. Великое испытание было очень простым: надо было пересечь низину, медленно шагая по сухой земле. И больше ничего.
Обнаженные юноши и девушки шагали по этому пустынному пространству, которое, однако, было особенным: тут и там на земле лежали темные камни размером с большое яблоко. Оказывается, иногда – довольно редко – один из этих камней прицеплялся к щиколотке испытуемого, который проходил мимо.
Когда Сервус описал мне это явление, я просто покатился со смеху:
– Камни не падают с неба, не могут двигаться и уж тем более не могут оборачиваться вокруг чьей-нибудь ноги.
– Это не камни, – заметил он. – Никто не знает, что это, но точно не камни.
Монахи называли их просто Темными Камнями, и, по словам Сервуса, иногда Темные Камни Большого кратера выбирали кого-нибудь. На несколько кратких мгновений, пока юноша или девушка проходили мимо, булыжник становился гибким и быстрым, точно язык хамелеона. Камень подпрыгивал, змеей обвивался вокруг щиколотки подростка и оставался там навсегда. Навсегда. Кольцо из темного камня над ступней было отличительным знаком ахий. Как я уже говорил, юноши и девушки не носили никакой одежды и удаляли весь волосяной покров на теле, даже на половых органах, при помощи особой техники и мазей, после применения которых волосы больше уже никогда не росли. Так вот, счастливцам, получившим в тот день каменный подарок, татуировали огромную букву X на груди и на спине. После этого их отправляли прочь из секретного монастыря: им предстояло посвятить всю свою жизнь поиску сильных чувств, которые они могли воспринять благодаря своей приобретенной чувствительности, и исправлению, при помощи своих познаний в военном искусстве, как можно большего числа несправедливостей. Так создавали ахий.
– А ты тут при чем? Какую роль играл ты на этой сцене среди монахов и воинов? – спросил я Сервуса, видя, что он собирается прервать свой рассказ.
Он не хотел говорить, но я принудил его, угрожая, что в противном случае выброшу за борт. И наконец, пристыженный, он во всем признался и рассказал вот что.
Сервус всегда хотел стать ахией и прошел все испытания. Но все было не так просто: монахи видели его отличные качества, но не считали, что он может стать воином. В большом монастыре Сервус показал незаурядные умственные способности: он очень быстро научился писать и говорить на пяти языках, и монахи поручили ему заведовать библиотекой (поэтому он и знал, что такое анадиплосис, помнишь, Прозерпина?). Но, как я уже сказал, Сервус мечтал стать воином-ахией. Снисходительные монахи разрешили ему отправиться в секретный монастырь и пройти весь цикл тяжелейших тренировок в надежде, что в конце концов он сам передумает и поймет, что в этой жизни ему было на роду написано служить ордену в качестве учителя или настоятеля – на этих двух должностях он мог бы проявить свой талант в полной мере.
Однако Сервус был иного мнения: он хотел быть ахией и перенес все тяготы дисциплины, все испытания, как физические, так и духовные. Но кольца из темного камня добиться не смог.
Только самые подготовленные юноши и девушки, обладавшие могучим телом и чистой душой, спускались в Большой кратер. Но никто не знал, по какой причине темные камни обвивались вокруг ноги того или иного испытуемого и пропускали другого мимо. Трагедия Сервуса состояла в том, что он год за годом участвовал в церемонии перехода через кратер, и никогда, ни разу ни один камень не захотел коснуться его щиколотки.
У бедняги так испортился характер, что в конце концов его изгнали из монастыря. Его последняя ночь в монастыре окончилась плачевно в самом прямом смысле этого слова. Сервус всю ее провел в огромном и пустынном кратере; он обнажился и умолял темные камни принять его, но все было напрасно. Он проклял монахов, камни и саму жизнь, но в ответ получил лишь молчание безлунной ночи да холод и мрак пустыни. Итогом пути стало самое ужасное разочарование: его отвергли.
Но я был выходцем из Субуры, а он – моим рабом, поэтому я отреагировал соответственно: принялся неудержимо хохотать. Потом по моей просьбе Сервус продолжил свой рассказ, хотя рассказывать было уже особенно нечего: после изгнания из монастыря он пошел куда глаза глядят и бродил по свету в полном одиночестве, пока не столкнулся с шайкой разбойников на большой дороге, с теми самыми негодяями (о ирония судьбы!), с которыми обычно сражались ахии. Они поймали его и продали работорговцу из Галикарнаса[19], который обращался с ним жестоко, заклеймил горячим железом и в свою очередь продал за солидную сумму, потому что понял, что бедняга образован. В результате Сервус стал рабом-педагогом для детей римской аристократии. Последним его хозяином, как нам известно, был пьянчужка Гибрида. Все остальное мы уже знаем: когда мои приятели чуть не убили его для потехи, Кудряш в последнюю минуту спас несчастного и отдал мне его в полное распоряжение. Такова история его жизни. Но разве так стоило жить?
– Твое существование, – заключил я жестоко, – это просто несуразный анекдот, клянусь круглыми яйцами Юпитера! Разве ты сам этого не понимаешь? Монахи были правы – ты обладал прекрасными организационными способностями, но для боев не подходил. Особенности твоего духа склоняли тебя к мудрости, а не к войне; ты принадлежишь к кругу Минервы, а не Марса. – Тут я рассмеялся и с уверенностью заключил: – Любому ясно, что вся эта история с прыгающими камнями была не чем иным, как фокусом, который устраивали монахи. И ни один камень не прилип к твоей ноге, потому что они не хотели тебя потерять и берегли для тебя важный пост главы ордена Геи. Как нелепо! Ты мог бы стать главным жрецом одной из самых могущественных религий мира, а сейчас твоя роль печальна и ничтожна: ты домашний раб какого-то юнца! Ну и парочка мы с тобой, – заключил я. – Возможно, я самый трусливый сын самого храброго человека. Но мне с тобой не тягаться, ибо ты, человек, чьи способности лежали в области разума и духа, решил добиться успеха в секте, которая уделяла все внимание телу и чувствам. Ты смешон, ничтожен и заслужил свою судьбу.
Сегодня мое поведение кажется мне непростительной жестокостью, но тогда я захохотал еще громче, а он ничего не возражал, признавая мою правоту, и только смотрел на меня глазами дохлой рыбы.
И наконец, Прозерпина, я узрел светлый африканский берег. С тех пор как оставил отчий дом, я к тому времени уже сменил четыре корабля.
Когда береговую линию стало возможно четко различить, все пассажиры собрались на носу; они указывали руками на землю и радостно кричали. На горизонте уже ясно виднелась бухта, хотя нас от нее еще отделяло довольно большое расстояние.
Я о чем-то задумался, но вдруг понял, что радостные возгласы сменились криками ужаса. Пираты. Они поджидали нас в засаде на подходе к бухте, преграждая любому кораблю проход в порт. Их корабль был небольшим, с высоким парусом и длинным, узким корпусом, а его острый нос напоминал рыбу-меч. И самое главное – он двигался гораздо быстрее нашего, в трюмах которого находился груз, а на палубе – множество пассажиров. Пиратское судно шло нам навстречу со скоростью акулы.
Я уже говорил, что Ситир обычно спала, свернувшись клубочком, одновременно отрешившись от мира и внимательно следя за всем вокруг. Именно этим она занималась, когда появились пираты, – спала на дощатой палубе, словно младенец. Все пассажиры, как один, немедленно сгрудились вокруг нее, упали на колени и со стонами стали умолять ее заступиться за них. Однако она только повернулась на другой бок и опять свернулась клубком, как кошка возле очага.
До нас уже доносился вой десятков пиратских глоток, потому что они были уже очень близко, а она продолжала дремать, не обращая внимания на зовы о помощи. Ее невозмутимость не могли нарушить ни мольбы мужчин, ни слезы женщин, ни плач детей.
Пираты были жуткой сворой морских волков. Их корабль расположился бортом к нашему, и эти полураздетые негодяи с платками или тюрбанами на головах грозили нам копьями и топорами и грозно завывали, чтобы внушить нам ужас. Должен заметить, что в тот момент меня поразило в их поведении неожиданное сочетание жестокости и сладострастия, словно для этих бандитов вооруженный абордаж был неким подобием совокупления. Я сказал себе, что, наверное, совокупление было для них не более чем захватом чужого тела.
Я решил, что все потеряно. Ты, вероятно, думаешь, дорогая Прозерпина, что, будучи самым богатым из пассажиров, я мог не опасаться за свою жизнь: пираты предпочли бы получить за меня выкуп, а не убивать. Так бы оно и случилось, если бы моим отцом был кто-то другой, но сын Марка Туллия Цицерона не мог себе позволить такое унижение: он не мог сдаться в плен, и тем более таким ничтожествам. Лучше смерть!
В любой трагедии есть место комической нотке; несмотря на охватившее меня отчаяние, мне не хватило смелости вонзить меч себе в грудь, поэтому я протянул рукоять меча Сервусу, направил острие на свое сердце и закричал театрально:
– Убей меня! Это мой последний тебе приказ!
Однако Сервус неторопливо и осторожно отвел оружие в сторону.
– Доминус, если ты хочешь заколоться, было бы неплохо сначала вынуть меч из ножен, – сказал он. А потом сразу продолжил очень спокойно, не дав мне возможности осознать смехотворность моего положения: – Кроме того, доминус, это не потребуется, не беспокойся.
Ибо как раз в тот момент, когда нам показалось, что все пропало, случилось вот что: Ситир потянулась, вытянув руки и ноги настолько, насколько ей позволяли сухожилия, точь-в-точь как котенок, который спал слишком долго. Потом в три молниеносных прыжка она взлетела на планширь, уцепившись за снасти одной рукой.
Ее прекрасное, нагое и мускулистое тело оказалось у всех на виду, словно ее фигура воспарила в воздухе. Мы, пассажиры, видели большой крест на ее спине, а пираты – тот, что украшал грудь. И неожиданно они онемели.
Их дикие крики мгновенно смолкли, словно их одолело удушье. Пираты не могли отвести глаз от огромного креста, и растерянное выражение их лиц казалось даже смешным.
Я никогда раньше не видел, чтобы штурвал крутили с такой скоростью. Их корабль развернулся в один миг и быстро уплыл в море. На нашем корабле раздались восторженные крики. Но ахия внушала всем такое уважение, что никто не осмелился не только обнять ее, но даже упасть к ее ногам.
И знаешь, Прозерпина, что сделала Ситир? Ничего особенного. Она вновь свернулась на сухих досках на корме. Ее молодое тело блестело на солнце, будто намазанное оливковым маслом, а своей бледной кожей она напоминала еще не рожденного дельфина.
Очень скоро мы сошли на берег в порту Утики.
3
Наверное, трудно было бы найти на свете другой такой вонючий и некрасивый город, как Утика. Пока мы направлялись из порта в резиденцию пропретора[20], меня занимал один-единственный вопрос: почему в Утике в два раза больше мух, чем во всем остальном мире?
Улицы, по которым мы продвигались, говорили нам о грязном захолустном городе, совершенно не представляющем интереса. Но я устал от однообразного морского пейзажа и перед визитом к пропретору хотел остановиться, чтобы смочить горло и съесть что-нибудь более аппетитное, чем скудная корабельная пища.
Мы вошли в таверну, которая показалась нам достойнее остальных, хотя это заведение тоже было темным и грязным. Говоря «мы», я имею в виду себя и Сервуса, потому что Ситир не пожелала нас сопровождать и пошла дальше неизвестно куда. К этому времени я уже усвоил, что моя власть над ахией чисто номинальна, поэтому я пошутил, как мы это делали в Субуре.
– Ты могла бы, по крайней мере, сообщить, где тебя искать, – закричал я ей вслед. – Просто так, на всякий случай: вдруг кто-нибудь решит меня убить.
Она даже не обернулась.
– Доминус, не переживай, – утешил меня Сервус. – Если она тебе понадобится, то не замедлит явиться.
Даже таверна в Утике доказывала, что это заурядный и скучный провинциальный городишко. Самым изысканным блюдом, которое мне предложили, оказались перепелки в остром соусе, приготовленные весьма неумело. Кроме того, прямо за обедом ко мне стал приставать какой-то паренек, предлагая свои эротические услуги и желая подарить мне себя в полную собственность! Поскольку меня его предложение вовсе не заинтересовало, он попытался стырить мою сумку, но Сервус, бывший начеку, громко закричал, пятеро носильщиков паланкина вошли в таверну и схватили воришку. Я не стал их останавливать, и они задали негоднику трепку. Поскольку делать мне было абсолютно нечего, я завел с ним разговор, продолжая обгладывать перепелиные окорочка и пить скверное вино:
– Как тебя зовут?
– Куал.
У него были тонкие волосы такого же черного цвета, как его глаза, и кожа оттенка красноватой глины. Он был похож на одну из карикатур с египетских пергаментов.
– На твоем месте, Куал, я бы сменил профессию: когда ты воруешь, тебя бьют, а когда пытаешься предлагать услуги содомита, тебя игнорируют, – сказал я ему.
– На самом деле я был пастухом, но потерял свое стадо, – объяснил он.
– Как может пастух потерять все стадо сразу? – поинтересовался Сервус.
– Оно убежало.
– Убежало? – переспросил я. – Если овцы от тебя убежали, то и пастух из тебя никудышный.
– Разреши мне стать твоим рабом, доминус! – внезапно вернулся он к своему первоначальному предложению. – Я хочу, чтобы ты стал моим хозяином!
– Но почему ты хочешь потерять свою свободу? – На минуту мной овладело любопытство.
– Я хочу уехать из Африки!
– Пошел вон.
И тут нашим глазам предстала сцена совершенно неожиданная и потому удивительная: Куал упал на колени и стал целовать мне ноги, плача и стеная.
– Доминус, доминус! – кричал он. – Возвращайся в Рим и возьми меня с собой на корабль! Беги из Утики! Ты не знаешь, что здесь происходит!
Пятеро носильщиков отогнали его подальше от меня ударами палок. «О времена, о нравы!» – как сказал бы мой отец: в римском обществе были люди настолько обездоленные и нищие, что даже свобода превращалась для них в непосильную ношу. Но неожиданный порыв этого смуглого паренька и искренность его отчаянных криков меня взволновали. Что могло внушить ему такой ужас? Я рассмотрел его повнимательнее, когда он шел к дверям: все его достояние в этом мире – пухлые губы да потрепанная набедренная повязка, такая узкая, что едва прикрывала гениталии. Мне почти стало его жалко.
Чуть позже я предстал перед наместником провинции, пропретором Силом Нурсием. Не стоит и говорить, Прозерпина, что имя Цицерона открывало множество дверей. Нурсий обнял меня, как родного, и, чтобы оказать мне особую честь, проводил меня в свои частные покои.
– Прежде всего, – заявил он, как только мы устроились в комнате, – я хочу, чтобы ты передал своему отцу мои самые искренние поздравления в связи со спасением Республики и с великой победой при Пистое.
В рассказах о заговоре Катилины фигура моего отца приобрела такой вес, что Нурсий верил, будто Цицерон собственной персоной возглавил войска во время битвы. Отец научил меня ценить правду, и поэтому я любезно возразил ему:
– По-моему, пропретор Нурсий, расстояния несколько искажают реальные события.
И я кратко описал, как все происходило на самом деле, нисколько не умаляя заслуг моего отца. Потом мы заговорили о цели моего приезда в Африку: я спросил его о мантикоре и слухах, распространявшихся о чудовище. В ответ на мои слова Нурсий выразил совершенно искреннее удивление.
– Какая еще мантикора? Здесь, в моей провинции? – сказал он. – Представь себе, до тебя никто не говорил мне об этой новости. Мы живем в Африке, и здесь можно встретить самых странных тварей, но откуда тут взяться мантикоре? И вдобавок почему именно эта зверушка вызывает такой интерес?
– Дело в том, – попытался оправдаться я, – что, согласно мифам и легендам, появление мантикоры предвещает крах какого-нибудь важного политического института.
– Но мифы и легенды – это не более чем мифы и легенды, которые человеческий разум принимает для своего развлечения и увеселения, а вовсе не потому, что в них заключена истина.
Мне нечего было ему возразить по той простой причине, что я был с ним полностью согласен.
– И ты уверен, что такая зверушка действительно появилась? – уточнил он из простой вежливости. – И именно в моей провинции?
– Мой отец уверен, что его информировали правильно.
– Дело в том, Марк, – сказал Нурсий снисходительно, повторяя мои собственные слова, произнесенные всего несколько минут назад, – что расстояния несколько искажают реальные события.
И на этом наша беседа в основном завершилась.
Нурсий настоял на том, чтобы я остановился на принадлежавшей ему вилле на окраине Утики. Я не стал с ним спорить и благодаря прекрасно обученным носильщикам паланкина прибыл туда очень быстро.
Как все римские виллы, это был большой крестьянский дом, окруженный оливковыми деревьями и пшеничными полями, но более роскошный и величественный. Нурсий редко им пользовался: иногда устраивал там празднества или частные церемонии, а иногда размещал важных гостей вроде меня.
В тот вечер, когда я ужинал, появилась Ситир, которой не стоило никакого труда меня разыскать, войти в трапезную и приблизиться. Нурсий, само собой разумеется, прислал пару стражников, чтобы охранять ворота виллы и обеспечить безопасность сына Цицерона, но никто из них не решился преградить путь ахии.
Ситир вошла, не поздоровавшись и не объявив о своем появлении. Она даже рта не раскрыла, а просто опустилась на колени перед столиком, ломившимся от яств, и начала есть, не спросив у меня разрешения.
– О, пожалуйста, не стесняйся, дорогая Ситир, – съязвил я. – Ешь и пей, сколько тебе будет угодно.
Сервус, заботясь о моем достоинстве и желая выручить меня из неловкого положения, успокоил меня:
– Ахии – свободные мужчины и женщины и, безусловно, являются гражданами всех городов, ибо им везде рады. Совместная трапеза с ахией никак не умаляет твоей чести.
Однако в тот вечер меня вовсе не волновали правила поведения, и Сервус это понял.
– Ну и что же ты собираешься делать, доминус?
– Конечно, вернуться в Рим, – ответил ему я. – Сам пропретор отрицает слухи о появлении мантикоры. А разве кто-нибудь способен оспорить его мнение?
– Если ты вернешься так быстро, твой отец может посчитать, что ты, выполняя его поручение, не проявил должного рвения.
Мне решительно не понравилось, что какой-то раб взял на себя смелость судить и давать мне советы, когда его об этом не просили, словно был мне ровней. Я сменил тон:
– А знаешь ли ты, каким способом мой друг Гней-Кудряш наказывает слишком болтливых рабов? Он говорит: «Член усмиряет скорее, чем плеть», и считает, что языкастых рабов следует насиловать на глазах у прочих, чтобы они усвоили урок. Ты что, этого хочешь?
– Доминус, все в Риме знают мнение твоего отца, – сказал он в свою защиту.
И здесь, Прозерпина, я должен объяснить тебе пару деталей об устройстве управления провинциями, чтобы ты поняла, на что намекал Сервус.
Когда одному из магистратов поручали управление какой-нибудь провинцией, все его усилия были направлены на достижение одной-единственной цели: награбить как можно больше добра с самого первого дня вступления в должность и до последнего. Девять из десяти наместников были просто хищниками в человеческом обличье, которые использовали данную им Сенатом власть, чтобы отобрать всё, до последней монеты, у несчастных обитателей провинции. Может быть, Рим выбирал наместников среди самых негодных представителей рода человеческого? Нет, дело не в этом. И тут мое мнение расходилось с выводом моего отца. Он считал, что проблема заключалась в добродетели, вернее, в ее отсутствии у претендентов на высокие должности; а с моей точки зрения, корень зла таился в самой системе правления.
Когда Республика начала завоевывать новые территории и посылать туда проконсулов и пропреторов для управления, эти люди очень скоро пришли к совершенно очевидному выводу: поскольку в их руках была сосредоточена вся власть на местах, они могли делать все, что им было угодно. И я имею в виду самый откровенный, преднамеренный и бесстыдный грабеж, коему когда-либо была свидетельницей мать-История.
Теоретически существовали тысячи законов, направленных на то, чтобы обуздать зарвавшихся наместников. Но, как говорил мой отец, чем больше в государстве коррупции, тем больше законов против нее оно создает. Я коротко опишу тебе, Прозерпина, суть этой системы. Сенат поручал наместникам провинций две важные задачи: охрану общественного порядка и сбор определенной годовой суммы налогов. В чем же заключался фокус? Если наместник собирал больше денег, никто не требовал с него разницу – и он просто клал ее себе в карман. Наместники, в свою очередь, поручали сбор налогов публиканам – частным лицам, которые получали комиссию за свои услуги.
Ты даже не можешь представить себе, Прозерпина, усердия этих хищных сборщиков налогов. Они пользовались поддержкой римской армии и ради получения баснословной прибыли выжимали последние деньги у богачей и бедняков, взимали мзду с форумов и городов, не жалея никого и ничего: ни святых мест, ни гражданских институтов. Они придумывали тысячи налогов и податей, и того, кто не платил их, наказывали плетями и обращали в рабство. И не только самого провинившегося, но и всех его родственников до третьего колена. Обычно наместник оставался на своем посту пять лет и каждый день требовал, чтобы публиканы приносили ему все больше и больше денег, потому что его единственная навязчивая идея состояла в том, чтобы вернуться в Рим как можно более богатым, пусть даже ценой того, что после себя он оставлял абсолютную пустыню – разоренную и опустошенную провинцию, как если бы она испытала нашествие варваров. Да что я говорю? Могу заверить тебя, Прозерпина, что любой житель провинций, если бы ему предложили выбирать между проконсулом и его публиканами, с одной стороны, и ордами скифов – с другой, предпочел бы скифов, какими бы ни были эти самые скифы. Деньги, деньги и снова деньги… К тому времени, когда наступил Конец Света, деньги уже подточили основы цивилизации.
Когда такой наместник возвращался в Рим после окончания своего срока, в Сенате его нередко привлекали к ответственности за коррупцию. И здесь позволь мне, Прозерпина, объяснить тебе одну вещь: эти судебные расследования предпринимались вовсе не ради восстановления справедливости, а лишь из стремления обогатиться. Политические соперники обвиняемого сами стремились занять пост, который он оставил вакантным, и поэтому старались очернить его как могли, чтобы предстать перед Сенатом в качестве более достойной смены своего предшественника. Однако, как объяснял мне отец, в этих случаях нередко обвинитель, привлекавший к суду бывшего наместника, одновременно нанимал тех же самых публиканов, которые работали на обвиняемого! Как бы то ни было, обычно прежний наместник благодаря состоянию, накопленному в разграбленной провинции, избегал наказания, подкупив сенаторов, которым поручено было его судить.
Сенаторы! Эти благороднейшие и суровые наследники первых отцов отечества! Вот смех-то, Прозерпина! Ха! И еще раз ха! Говоря о коррупции, в Риме всегда приводили в пример древние азиатские сатрапии[21], но я уверяю тебя, дорогая Прозерпина, что самый жестокий восточный царек не поверил бы, насколько пороки, низость, алчность и корысть укоренились в римском Сенате. «Я прибыл в самый великий город мира, – сказал один из наших врагов, посетив Рим, – и во всем этом чудесном городе нет ни одного человека, ни одной живой души, которая не была бы выставлена на продажу». Ну хорошо, допустим, он не был знаком с моим отцом, но его оценка в целом совершенно справедлива.
Именно так, дорогая Прозерпина, было устроено управление римским миром, моим миром, перед самым Концом Света. Грабеж был нормой, а лицемерие – штандартом.
Вернемся, однако, на виллу на окраине Утики, где я ужинал.
– Я прекрасно понимаю, что пропретор Нурсий – человек недостойный, немногим лучше Катилины, – признался я, обращаясь к Сервусу. – Тем не менее это не имеет никакого отношения к истории с мантикорой: если бы такое чудовище действительно появилось здесь, он бы об этом знал.
– Патриции живут в одном мире, а плебс в другом, – заметил раб. – Люди благородные часто просто не видят того, что для простолюдинов обыденно и естественно.
– Что ты имеешь в виду?
– Ты, например, не верил в ахий. А сейчас смотри: одна из них делит с тобой ужин.
Он был прав: по другую сторону триклиния сидела на земле Ситир, медленно жевала и, казалось, пропускала наши слова мимо ушей.
Хотя Сервус довольно часто позволял себе дерзкие выходки, он обладал быстрым и ясным умом, и поэтому я прислушался к его совету. В зале находилась пара рабов из дома Нурсия, которые были предоставлены мне для услуг. Я обратился к ним.
– Эй, вы, послушайте, – спросил их я. – Вы когда-нибудь слышали разговоры о мифическом существе, которое зовут мантикорой?
Я ожидал, что они ответят отрицательно и таким образом вывод Сервуса будет опровергнут. Однако, к моему изумлению, оба почти в один голос сказали:
– О, конечно, доминус!
Один из них добавил:
– Всем известно, что некий юноша совсем недавно видел мантикору.
– Это было на юге, доминус, в пустыне, – уточнил другой.
– В пустыне?
– Мы здесь называем пустыней все степи за пределами города, где никто не живет, – уточнил он. – Это было отвратительное чудовище с четырьмя лапами, черным туловищем и человеческой головой. Вместо кожи у него змеиная чешуя, а в пасти – три ряда клыков.
Меня уязвило, что Сервус оказался прав, и я на минуту растерялся, не зная, что сказать, но потом попытался возразить.
– Все это бред и глупые россказни! – воскликнул я и обратился к двум рабам Нурсия: – Послушайте, этот юноша, который видел мантикору… он, конечно, знакомый одного вашего знакомого, правда? Слухи всегда распространяются так: все говорят о свидетеле, но никто его никогда не видел. Да, слухи подобны источнику: все пьют, но никто не знает, откуда в нем берется вода.
И тут в наш разговор вмешался Сервус и задал двум рабам очень простой вопрос:
– Это так?
– Все знают юношу, который видел мантикору, – возразили рабы, словно хотели выставить меня на смех. – И вид чудовища так напугал беднягу, что он бросился наутек и больше не возвращался в те места. Сейчас он бродит где-то в порту. Это молодой пастух по имени Куал.
– Куал! – подскочил на месте я.
– Может быть, он не зря приставал к нам, – сказал Сервус. – Если ты помнишь, доминус, он искал каких-нибудь путешественников, чтобы уехать из Африки вместе с ними. Что бы он ни увидел там, в пустыне, это зрелище напугало его до полусмерти.
Я подумал, мгновенно пришел к выводу, что ничего не потеряю, допросив этого оборванца, и поэтому обратился к Ситир:
– Эй, ты, отправляйся в порт или в таверны в порту, разыщи этого самого Куала и приведи его ко мне.
Ее ответ был столь же ясен, сколь краток:
– Нет.
– Как это – нет? – разозлился я. – Почему – нет?
– Потому что он не причинил тебе никакого зла, птенчик, а ты не желаешь ему никакого добра.
– Ты не слушаешься меня и мне не подчиняешься! – заорал я. – Надеюсь, однажды я пойму, зачем ты вообще следуешь за мной!
– Может быть, когда-нибудь и поймешь, – ответила она равнодушно, не глядя на меня и продолжая жевать.
– Доминус, – вмешался тут Сервус, желая разрядить обстановку, – эти два местных раба прекрасно знают пастуха и все притоны, куда он наведывается. Возможно, было бы лучше послать их.
– Тогда идите вы и приведите сюда Куала силой или уговорите явиться по доброй воле, – сказал им я, – и вам станет известно, как щедр может быть наследник Туллиев.
После этого у меня вырвался жалобный крик:
– Я не могу доверять ни богатым и могущественным, потому что они алчны и лживы, ни бедным и слабым, потому что они доверчивые идиоты! Так на кого же мне надеяться? Мое положение более чем странно: у меня нет ни друзей, ни врагов! Все вон отсюда! – закричал я. – Оставьте меня одного!
В ту ночь я позволил своему телу испытать всю силу африканского вина, известного своей крепостью. Я оказался далеко от дома, мною овладели скука и безразличие, и поскольку поблизости не таились враги, от которых следовало защищаться, а ни один друг не удержал меня, я весь пропитался вином, словно рот Бахуса[22].
Охмелев, я проклял Республику, Сенат и моего отца с его дурацкими политическими идеями. С одной стороны, он был человеком здравомыслящим и видел, что римское владычество над миром несет этому миру страшные несчастья, а с другой – предлагал совершенно наивное решение проблемы: он хотел, чтобы Республикой правила группа избранных праведных людей. Ты все поняла, Прозерпина? Спасением, по мнению Цицерона, должно было стать образцовое и безупречное правительство! Какая откровенная глупость! И вот вопрос, который я задавал себе: как может человек быть одновременно столь мудрым и столь наивным?
И я уверяю тебя, Прозерпина, что я тысячу раз говорил об этом с отцом, но ничего поделать не мог. Цицерон – тот самый человек, который перед моим отъездом говорил мне о Катилине и его неспособности измениться, – сам никогда бы не изменился. Сколько бы он ни критиковал римские институты власти, ему никогда не могло прийти в голову начать глубинные их реформы. И знаешь почему, дорогая Прозерпина? Потому что, хотя Цицерон и критиковал Сенат, он сам благодаря своим достижениям превратился, как это ни парадоксально, в институт власти. По сути дела, мой отец обернулся неподвижной глыбой. Цицерон стал Римом.
А я сам? Мой отец мог бы изменить Рим, но не хотел этого делать. Я хотел, но не мог. И всем уже известна причина: неисправимая и безграничная трусость повелевала моим телом и моим духом. Но мне кажется, Прозерпина, что на самом деле я боялся не глубоких колодцев и острых клинков, а Рима, Сената и в конечном счете моего отца. Мне казалось невозможным возразить, даже если его приказ был очевидно неразумным, как тот, который привел меня в этот затерянный уголок Африки. Именно поэтому я оказался так далеко от дома и напился допьяна.
О моя подруга Прозерпина! Как я ненавидел себя в ту ночь в Утике! И сколько вина выпил! Я приказал, чтобы меня оставили одного, но патриций не может быть один, ему это не позволено. Когда голова моя закружилась и я упал на землю, чувствуя, как слюна течет у меня из уголка губ, в зал явились пять носильщиков паланкина под командованием Сервуса, чтобы уложить меня в постель. Мне вспоминается, что, пока множество рук поднимало меня с земли и переносило в спальню, я осыпал проклятиями и оскорблениями моего отца, сенаторов, всех и вся. Досталось даже сосцам волчицы, вскормившей основателей Рима.
И тут, Прозерпина, я услышал эти слова.
Пока они несли меня, Сервус обратился к рабам-носильщикам. Он воображал, что я опьянел настолько, что потерял слух и способность соображать. Но сквозь винные пары мне удалось услышать и понять слова, которые меня встревожили. Сервус говорил остальным:
– Разве вы сами не слышите? Даже этот заносчивый сопляк признает это, хотя он сам один из власть имущих: Рим – это зло, они – зло! Патриции – наши враги! Рим, Рим, Рим!
С вином я переборщил и на следующий день чувствовал себя так, словно тысяча скифских барабанов стучали в моей голове. Я прекрасно помнил слова Сервуса, но не стал ему ничего говорить из-за головной боли и еще потому, что неожиданно возникло дело поважнее: рабы привели Куала.
Они нашли юношу накануне вечером, но решили не нарушать моего ночного покоя. И хорошо сделали. Я пребывал в отвратительном настроении и, когда паренька привели ко мне, вел себя довольно нелюбезно, потребовав, чтобы он рассказал, где и как ему довелось встретиться с чудовищем, упомянул все, что знал о мантикоре, и не упустил ни одной важной детали. И вот, дорогая Прозерпина, как все случилось, по словам Куала.
Куал был нищим пастухом и водил небольшое стадо по сухим степям к югу от Утики. Выпасы представляли собой равнины сухой, растрескавшейся красноватой земли, на которой почти ничего не росло. Только козы могли выжить среди скудной растительности этих мест – редких кустиков травы и колючего кустарника.
В этом пустынном месте доход приносила только шахта, вырытая за пределами человеческой цивилизации. Поскольку до ближайшего городка было очень далеко, плебеи, управлявшие шахтой, покупали козлятину и молоко у Куала, который жил неподалеку в глинобитной хижине, где он также варил отвратительный сыр.
Все началось в самый обычный день. Куал сидел под акацией и скучал, наблюдая за пасущимися козами, когда ему послышался какой-то далекий шум. Он показался пастуху необычным: словно кто-то сыпал в яму мелкие камешки и одновременно втягивал в себя воздух. «Как будто несколько быков раздували ноздри, опустив морды к песку» – так описал он этот звук. Куал не смог определить, откуда он исходил, но, поскольку доносился шум явно издалека, он не придал ему значения.
Однако на следующий день это явление повторилось. На этот раз звук был яснее и громче и раздавался ближе. Козы встревожились. У Куала, как у всех пастухов, свободного времени хватало, поэтому он решил узнать, откуда исходит таинственный звук. Пока он бродил по выжженной солнцем степи, его охватило странное предчувствие. Ему показалось, что звуки исходят откуда-то снизу, и он даже опустился на колени и приложил ухо к земле. Так оно и было: непонятный шорох доносился оттуда, из-под земли, и с каждым часом козы волновались все больше и больше.
И на третий день появилось оно – чудовище. Мантикора.
Сначала возник голубой туман. Куал пас своих коз на пустоши, когда откуда-то возникло облачко голубоватого и зловонного пара, которое стелилось по земле, распространяя запах серы. Козы повели себя самым неожиданным образом: у них гораздо сильнее, чем у других животных, развит стадный инстинкт, а тут они бросились врассыпную, точно испуганные олени.
Куал попытался их удержать, размахивая посохом, но ничего поделать не смог. И тогда, вместо того чтобы устремиться вслед за животными, он пошел в противоположном направлении, туда, откуда исходило облачко голубоватого зловещего тумана (сей факт говорит о решительности и смелости этого паренька и одновременно свидетельствует о его глупости).
Подойдя поближе, юноша обнаружил, что перед ним не низко стелющееся облако, а какие-то газы, исходившие из земли, а точнее, из ямы размером чуть больше обычного колодца. Любопытный Куал подошел к отверстию, забыв об осторожности, и увидел только темную бездонную пропасть. Тогда он наклонился и сунул голову в яму. Это движение едва не стало последним в его жизни.
Из глубины появилась голова с лысым вытянутым черепом и сероватой мордой, которую украшали два глаза размером с кулак. Пасть у чудовища была огромной, и его длинные челюсти блестели тремя рядами острых зубов. Куал невольно отпрянул и упал навзничь. Монстр выполз из ямы целиком в голубоватом облачке испарений. Его черное кошачье туловище покрывала чешуя. Львиным прыжком мантикора подскочила к пастуху и набросилась на несчастного, который не успел еще подняться с земли. Но Куал не желал умирать и, собрав все свои силы, ударил зверя посохом ровно между глаз.
Страх делает людей, оказавшихся в безысходном положении, сильными: удар оказался таким мощным, что мантикора скорчилась от боли и, гневно рыча, скрылась в клубах голубого тумана. Воспользовавшись этим, несчастный юноша, не оглядываясь, быстро побежал прочь, словно Меркурий[23] на четырех ногах, и не останавливался, пока силы не оставили его. Вероятно, только благодаря удару посоха и быстрому бегу ему удалось выиграть время и спастись, но Куал был так напуган, что мечтал только о том, чтобы оказаться как можно дальше от Логовища Мантикоры. И через несколько дней он добрался до Утики с одной-единственной целью: оказаться на другом берегу моря, которое отделило бы его от того, что он увидел в пустыне, чем бы оно ни было.
Юноша закончил свой рассказ; мы все – я сам, Сервус и пять носильщиков – молчали, не отрывая от него взгляда. Даже Ситир Тра, обычно такая невнимательная, пристально смотрела на Куала, широко открыв глаза и не мигая. С одной стороны, весь его рассказ казался безумной фантазией, но с другой – этот пастух был человеком слишком недалеким, чтобы выдумать такую сложную историю. Я в задумчивости постучал пальцами по столу.
– Ну хорошо, – решил я наконец. – Или чудовище существует, или всей этой истории есть разумное объяснение. И если мы хотим получить ответ на этот вопрос, у нас есть только один выход: мы отправимся на юг, в то самое место, где находится Логовище Мантикоры.
– Ты принял скверное решение, доминус! – заныл Куал. – Чудовище, которое мне явилось, – это творение какого-то бога, ненавидящего людей. Мне каждую ночь снится его пасть с тремя рядами акульих зубов! Не отправляйся туда, доминус! Вы все там пропадете: и ты сам, и все, кто будет с тобой!
– Ты меня не понял, – прервал я его крики. – Ты возглавишь нашу процессию, потому что будешь нашим проводником. Кому же еще нас вести?
Услышав эти слова, Куал совершенно неожиданно разом заорал и подпрыгнул, а потом помчался к дверям. Чтобы удержать его, понадобилось множество рук – он отказывался подчиниться, визжал, ругался и брыкался как сумасшедший. На жалкой тряпке, прикрывавшей его срамное место, появилось мокрое пятно. Бедняга так бился, что я даже испугался, не причинит ли он себе какого-нибудь увечья. Ситир, наверное, пришла в голову та же самая мысль, потому что она подошла к пастуху и совершенно спокойно надавила своими железными пальцами на его шею. Куал тут же потерял сознание и погрузился в сладкое забытье.
– Что вы на меня уставились? – закричал я. – Захотели отведать моего кнута? Вперед!
Я никогда не буду утверждать, что путешествие в паланкине может доставлять удовольствие, но, пожалуй, это наименее обременительный вид транспорта. Я мог лежать на очень мягком матрасе, пока носильщики шагали размеренным шагом и по ровной дороге, и на крутых подъемах или спусках. Полог защищал меня от непогоды, а боковые занавеси были двойными: одни из тюля, а другие, плотные, из шерсти. Если я хотел наслаждаться солнечным светом, то закрывал только первые, а если меня одолевал сон, то задергивал вторые и спал в полумраке. Обычно я держал занавеси открытыми, хотя сельский провинциальный пейзаж не волновал меня и не вызывал восхищения. Сервус, Ситир и Куал шли пешком перед паланкином.
Какое ужасное место и какая жара! Самым необходимым оружием оказался веер. И вот досада – по возвращении в Рим я даже не смогу рассказать Кудряшу, что побывал в настоящей пустыне, с дюнами и пальмами. Нет. Рабы наместника уже предупредили меня, что местные жители называли пустыней любое место за городом, и эти пустоши были скучны, некрасивы и даже отдаленно не напоминали то, что мы, римляне, называем настоящей пустыней. Вокруг виднелись только колючки, сухая почва, какие-то кустики без цветов и русла умерших рек.
– Мне твои мысли известны, – закричал я с высот своего удобного паланкина, обращаясь к Куалу. – Ты хочешь сбежать от меня при первой же возможности. Но смотри, кто идет рядом с тобой: это ахия. Если ты сбежишь, я прикажу ей отправиться вдогонку и поймать тебя. А сам знаешь: ахии неустанны и непобедимы, как Ахиллес[24]. И к тому же они чуют страх издалека лучше любого волка. Она поймает тебя и приведет ко мне. А я тебя предупреждаю: за каждую попытку побега тебе по моему приказу отрубят один палец ноги.
На этой африканской дороге, раскаленной солнцем, обнаженное тело Ситир казалось еще прекраснее: гладкая кожа обтягивала упругие мышцы, а ягодицы казались твердыми, как мрамор.
Мы двигались вперед спокойно и размеренно, пока не оказались на перепутье. Куал рассказал нам, что левая дорога ведет прямо к Карфагену[25]. Карфаген! Любой римский школьник слышал тысячи историй об этом городе, о его великих людях и о его ужасном конце. Менее двух поколений назад мы их уничтожили, и я не смог удержаться от искушения бросить быстрый взгляд на знаменитые развалины. Я сказал себе, что благодаря этой экскурсии, по крайней мере, смогу поведать что-то интересное Кудряшу, когда вернусь в Рим.
Именно поэтому мы и добрались до руин древнего города Карфагена. Навстречу нам вышли единственные его обитатели – тощие и боязливые псы, передвигавшиеся медленно, опустив морды к земле. Я хотел пройти по развалинам один, поэтому, увидев, что Ситир следует за мной, хотел было остановить ее:
– Тебе незачем идти, – кроме лемуров карфагенян, мне ничего здесь не грозит, а я в них не верю.
Римляне, Прозерпина, считали, что лемуры – это призраки наших предков. Однако Ситир хотела войти в Карфаген не для того, чтобы меня охранять.
– Я иду туда не ради тебя, птенчик, а ради самой себя.
Она тоже хотела созерцать огромный город, лежавший в развалинах, поэтому мы углубились в его улицы вместе.
Карфаген уже почти целый век представлял собой труп города. Я следовал по его мертвым улицам, желая испытать при виде этого пейзажа одновременно страдание и восторг. Мы с Ситир поднимались по абсолютно пустынным проспектам, кружили среди остатков стен, сложенных из белесых, как прокисшее молоко, камней. Наконец мы оказались на холме, самой высокой точке Карфагена, где стоял храм их верховного божества Баала[26]. От здания осталось только несколько полуразрушенных облезлых колонн, что некогда поддерживали его своды. Мы посмотрели в сторону моря. Даже сейчас, сто лет спустя, можно было различить округлые очертания знаменитого искусственного порта. Но больше здесь ничего не сохранилось. И ужас охватил нас, когда мы обернулись и посмотрели на сушу: до самого горизонта простирались развалины, развалины и снова развалины.
Я не в состоянии, Прозерпина, описать здесь всю печаль и уныние, охватившие меня при виде останков Карфагена. Мы стояли посередине когда-то великого города, который представал сейчас перед нами в виде огромного кладбища камней, потому что подвергся полному, кардинальному разрушению. Лежали в руинах самые толстые его стены и самые высокие храмы, все кровли рухнули. Оставались только фундаменты зданий, тысячи разрушенных стен и груды обломков. И над этими руинами царила тишина: не было слышно ни одной птицы, ни одного насекомого. Среди камней обычно находят себе убежище ящерицы и прочие мелкие твари, но здесь, в Карфагене, не было даже их: ни одно существо не двигалось здесь и не подавало признаков жизни. Я вздрогнул от ужаса. И Ситир тоже: ее гладкая кожа, на которой не было ни единого волоска, покрылась мурашками.
Карфаген, стоявший в бухте, обладал великолепным портом, несравненно лучшим, чем остальные на том побережье, поэтому вскоре после разрушения города Сенат распорядился на самом берегу на основе разрушенных зданий построить римскую колонию. Любому сразу станет ясно, что этот шаг, кощунственный и зловещий, ни к чему хорошему привести не мог. Лемуры карфагенян не давали покоя пришельцам-римлянам: вокруг них вились невидимые пчелы и больно жалили; сколько бы жидкости они ни пили, жажда не оставляла их никогда; половина детей в новом поселении рождались без рук или без ног, а остальные – без век. В смятении новые обитатели вскоре оставили город, и дома римлян быстро превратились в развалины, подобные руинам Карфагена. По правде говоря, когда мы с Ситир обозревали городские развалины, нам не удалось отличить римской части от карфагенской. Я, Прозерпина, вообще-то, не верю в лемуров, но в этом случае мне не остается ничего другого, как в них уверовать.
Начался дождь. Его редкие и тяжелые капли стучали по раскаленным камням, запахло влажной пылью. Вода несла земле облегчение после жары, но нам стало тоскливее: мокрые развалины показались нам еще более унылым и неприглядным местом, если только это было возможно.
Я обратил внимание на руку какой-то статуи, воздетую к небу из груды камней, словно взывая о помощи. На ней оставалось только три пальца. И эта рука была единственным видимым признаком жизни, единственным осмысленным следом, оставленным тысячами жителей Карфагена. Их общество тоже гордилось своими поэтами и юристами, драматургами и певцами, и от всего этого, от их многовековой истории не осталось ничего. Ничего.
Опечаленный и удрученный, я не смог долго созерцать эту картину опустошения и забвения. От Катилины остались лишь груды металла, а от Карфагена – горы камней.
И вдруг чуть слышный звук, словно чириканье птахи, прервал окружавшую нас тревожную тишину: это заплакала тихонько Ситир. Я вспомнил, что ахий тренировали, чтобы укрепить их тела и научить их остро чувствовать любые движения души, и они могли воспринимать чужие эмоции с силой, недоступной остальным представителям человеческого рода. Как могла не взволновать ее картина такого разрушения?
Тоненькие ручейки слез текли по щекам Ситир. В первый (и пока единственный) раз с нашего знакомства наши души, столь различные и далекие, испытывали сходные чувства. Я положил руку ей на плечо:
– Ты оплакиваешь все поколения мужчин и женщин, которые за многие века совместной жизни пропитали своими чувствами эти руины; эти чувства еще живут здесь, и они открываются тебе.
– Нет, – возразила она мне с глубокой печалью в голосе, – я плачу как раз потому, что в этих руинах никаких чувств больше нет. Я плачу потому, что не слышу ничего и ничего не чувствую.
«Я плачу потому, что ничего не чувствую». Никогда раньше мне не приходилось слышать такого точного определения смерти.
Мы покинули Карфаген, но не успели сделать и пары шагов по дороге, уводивший нас из города мертвых, как нам пришлось снова столкнуться со склокой и низкими страстями живых.
На том месте, где мы оставили паланкин, завязалась потасовка: Сервус и пятеро носильщиков спорили и обменивались ударами палок с другой группой рабов. Их тоже было шестеро, и они неожиданно появились неизвестно откуда.
Поводом для спора был Куал. Пришельцы хотели увести его, а мои носильщики старались удержать. На самом деле они вовсе не желали спасти бедного пастуха от похитителей, а просто считали своей обязанностью защищать хозяйское добро. И поэтому обе группы тянули Куала в противоположные стороны, будто подвергали его пытке, грозя расчленить. И как же они его дергали! По правде говоря, эта сцена казалась презабавной, потому что единственным ее участником, не обритым наголо, то есть единственным свободным человеком, был как раз Куал. Но выходило, что эта деталь никого не волновала, и дюжина рабов тянули и толкали свободного человека и предавались этой борьбе с истиной страстью. Тебя могли бы удивить, Прозерпина, верность людей-рабов и та настойчивость, с которой они могут защищать свои цепи или интересы своих хозяев, что, по сути дела, одно и то же.
Мое появление (или, вернее, появление ахии, способной внушить страх целой когорте воинов) привело к перемирию сторон. Я попросил, чтобы кто-нибудь объяснил мне причину потасовки здесь, в этом безлюдном месте посреди дороги.
– Доминус, эти бесстыдники появились здесь, пока мы тебя ждали, увидели Куала и уверяют, будто он принадлежит их хозяину, – ответил Сервус.
Не успел я и слова сказать, как все снова завопили и стали дергать и тянуть беднягу Куала в разные стороны. Я закричал, но никто меня не слушал, и тогда в дело вмешалась Ситир: она подняла руки и хлопнула в ладоши один раз. Все замолчали, и я обратился к пришельцам тоном беспристрастного судьи:
– Вы знаете этого паренька? Это действительно так?
– Конечно да! Его зовут Куал, и он большой жулик, – заверили меня они.
– Жулик он или нет, сейчас значения не имеет, – сказал я. – Вопрос в том, есть ли у него хозяин.
– Он не раб, но и не свободный человек.
– Любопытное определение, – рассмеялся я, но они были слишком глупы, чтобы понять мою иронию.
– Он работал на нашего хозяина, Квинта Эргастера, но позорно сбежал, нарушив условия своего контракта.
Из их слов выходило, что этот самый Эргастер раньше был центурионом, но оставил службу и жил на вилле к югу от того места, где мы находились. Поскольку нам нужно было следовать в том же направлении, я решил, что будет разумно навестить его, чтобы уладить все споры. Сначала я поговорю с Эргастером, а потом уже решу судьбу Куала.
Сказано – сделано. Наша процессия, в которой теперь было вдвое больше участников, двинулась в путь. Куал, само собой разумеется, не питал ни малейшей симпатии к нашим новым попутчикам; он старался держаться от них подальше и шагал около моего паланкина. Я засмеялся:
– Твоя судьба весьма забавна: что бы ты ни делал, тебе все равно не везет, и чем дальше, тем твоя участь хуже.
На сей раз он ответил мне:
– Смейся, смейся сколько тебе угодно, пока можешь; когда мы доберемся до Логовища Мантикоры, тебе сразу смеяться расхочется.
Мы двигались к югу целых два дня и наконец увидели перед собой владения этого самого Эргастера. В отличие от великолепного дома, в котором нас разместил Нурсий, построенного, чтобы подчеркнуть власть и достаток его хозяина, эта вилла была простым традиционным крестьянским домом: большое строение окружали пшеничные поля, виноградники и оливковые деревья, целые оливковые рощи. Рабы Эргастера направились к дому, пообещав немедленно вернуться. Мне их поведение показалось подозрительным.
Квинт Эргастер принимать нас не спешил. Наша небольшая группа довольно долго ждала у изгороди, ограничивавшей его владения. И должен тебе признаться, Прозерпина, что, пока длилось это ожидание, меня мучили опасения: я совершенно ничего не знал о местной элите. Мне было неизвестно, проявят ли эти люди любезность или, напротив, их охватит внезапная ярость. Как бы то ни было, времени для сомнений оставалось немного.
Как полагалось по старинной традиции, встретить нас вышел сам Квинт Эргастер. И какой человек предстал перед нами, Прозерпина, – истинный римлянин!
Эргастер казался воплощением осени жизни: он был стар, очень стар. Мы сразу же узнали, что наш амфитрион достиг завидного зрелого возраста, – ему исполнилось девяносто пять лет! Он был глух на одно ухо и передвигался, опираясь одной рукой на палку, а другой на раба. Однако, кроме этих небольших неудобств и темных пятен на коже лица и рук, ничто его не беспокоило: голова у него работала прекрасно и зрение, хотя и слабое, он еще сохранял. Мы поздоровались.
– Мне сказали, что твоя фамилия Туллий.
В его густом и строгом голосе еще звучали отголоски приказов, которые он отдавал войску в прежние годы.
– Да, господин. Меня зовут Марк Туллий, я старший сын Марка Туллия Цицерона, – ответил я, пытаясь быть как можно любезнее.
Эргастер посмотрел на меня, будто собирался вынести свой приговор:
– Скажи мне, молодой Туллий, ты настоящий римлянин? Истинный римлянин из Рима?
– Кому быть римлянином, если не мне? Правда, мой отец приехал из Арпи[27], но я родился в Субуре, а всем известно, что наш район – самый древний в Риме.
Мой ответ покорил его: как только старик услышал название моего района, он разволновался и его одолела печаль.
– Субура! – Настороженный центурион превратился в простого старика, скучающего по родине. – А скажи мне, юный Туллий, что нового в древнем Риме?
– Рим уже не тот, каким был раньше, – ответил я не столько из убеждения, сколько из желания его утешить. Эргастер удивил меня своим философским умозаключением:
– Рим никогда не был таким, как раньше.
И чтобы выместить свое раздражение, старик ударил раба по спине палкой.
Затем подошел ко мне и, опершись ладонью о мою грудь, приблизил свои слабые глаза к моему лицу, чтобы разглядеть черты получше. Потом улыбнулся, и я понял, что мы подружимся.
Эргастер был старым солдатом, которому в жизни повезло. Он прожил очень долгую жизнь! Ему было всего восемь лет, когда он вместе с римским войском отправился в Карфаген, чтобы разрушить город. Когда я, которому в то время не исполнилось и восемнадцати, слушал его, мне казалось, что я путешествую во времени.
У старика Эргастера дрожала рука и нижняя челюсть, и, как я уже сказал, он наполовину ослеп, но мыслил здраво и обладал бешеным нравом, из-за которого его рабам нередко доставались брань, крики и удары кнута, порой без всякого повода. Это так бросалось в глаза, что я осмелился спросить его:
– Почему ты так суров с рабами?
– Как это «почему»? Они наши враги, – заявил он, откровенно удивившись моему вопросу.
Время, столь же непостижимое, сколь быстротечное, заставляло нас с Эргастером смотреть на одну и ту же реальность с разных точек зрения. Местные жители казались мне обычными провинциалами, которые в результате романизации уже давным-давно утратили свои характерные черты, а для Эргастера, сражавшегося с их дедами и прадедами, эти люди оставались по-прежнему «проклятыми карфагенянами».
История Эргастера, призванного в армию в возрасте восьми лет, была не такой уж исключительной, как это могло показаться на первый взгляд: легионы часто брали с собой в качестве талисмана младших сыновей из бедных и многодетных семей Рима и Лация[28]. А это означало, что старик Эргастер покинул Рим более восьмидесяти пяти лет назад (шутка ли!) и никогда больше туда не возвращался. Благодаря своей храбрости и уму он достиг в армии наивысшего положения, какое было доступно плебею, и стал примипилом, то есть старшим центурионом легиона, и возглавлял первую центурию первой когорты. К тому моменту, когда он покинул армию, у него образовались весьма приличные накопления: он не растратил всех денег, заработанных за годы службы, и присовокупил к этому капиталу богатства, награбленные во время тридцати военных кампаний, из которых почти все закончились полной победой над врагом. Кроме того, он пользовался расположением влиятельной семьи Сципионов[29], с которой всегда старался поддерживать связь. Именно они посоветовали ему приобрести большой участок земли на юге провинции Проконсульская Африка, с домом, построенном в римском стиле. Поскольку Эргастер так никогда и не вернулся в Рим, ему, естественно, безумно хотелось расспрашивать обо всех новостях тех немногих, очень немногих уроженцев Лация, которых судьба иногда забрасывала в эти дикие места.
Вечером мы ужинали на свежем воздухе. Было совсем не жарко, и нам накрыли стол под виноградными лозами, которые образовывали навес над нашими головами. Эргастер объяснял свое долголетие сухим климатом этого региона.
– В Риме влажные испарения Тибра меня бы уже давно свели в могилу.
Мне же больше всего хотелось узнать о гибели Карфагена от человека, который ее видел, и я рассказал ему о своем посещении города.
– Впечатляющее зрелище, правда? – сказал он. – Представь себе, каким был этот великолепный город, живой и готовый к борьбе, когда мы его разрушили.
Передо мной был, вероятно, последний живой свидетель этой трагической страницы Истории, и я спросил его о них, о карфагенянах – целой цивилизации, исчезнувшей в мгновение ока.
– Как ты думаешь, почему они исчезли?
– Их убило высокомерие, – ответил он, не колеблясь ни минуты. – И под высокомерием я понимаю неумение приспосабливаться.
Я попросил его развить немного эту мысль.
– Как тебе прекрасно известно, Марк, Рим и Карфаген трижды пытались разрешить свои споры путем жестоких войн. Во время первой войны нам грозило поражение, и я объясню тебе почему. Причиной конфликта были Сицилия и еще парочка островов, то есть война велась на море, а в то время Карфаген был ведущей морской державой. Предки карфагенян – финикийцы, самые лучшие мореплаватели в мире. Говорили, что в их жилах текла не кровь, а соленая вода, и у них были самые лучшие моряки и самые совершенные боевые корабли. А мы? Кем были мы? Я скажу тебе, Марк Туллий: мы были простыми грубыми крестьянами, которые и моря-то никогда толком не видели. А почему? Потому что всю жизнь гнули спину за плугом, как Цинциннат…[30] Сначала они нас громили, – продолжил Эргастер, – и топили наши корабли, словно игрушечные. Но что ценится более всего в Риме? Наш девиз: «Прежде всего – учиться (как повторяли нам наши магистраты) и, если придется, даже у врагов». Однажды корабль карфагенян сел на мель у итальянских берегов. Наши инженеры не только скопировали его, но и улучшили их образец: они создали корабли, с которых наши легионеры брали вражеские суда на абордаж, превращая таким образом морские сражения в рукопашные схватки. Помнишь, что я сказал? Рим победил, потому что смог измениться.
Он помолчал немного и продолжил:
– Вторую войну можно назвать одним именем собственным: Ганнибал, лучший из полководцев всех времен. Да, Марк, именно он заслуживает этого звания. Некоторые отдают пальму первенства Александру Македонскому, но это не так. Те, кто защищает фигуру Александра, в качестве главного довода говорят о том, что он со своим небольшим войском много раз побеждал армии гораздо более многочисленные. Но они забывают важный момент: македонское войско было в то время лучшим, а сражались они с персами, чьи армии на самом деле были не более чем толпами рабов, вооруженных плетеными щитами. А против кого сражался Ганнибал? Против римских легионов, самого дисциплинированного и сплоченного войска в мире. И кроме того, он возглавлял армию такую пеструю и экзотическую, какую только можно себе представить: фаланги карфагенян, нумидийская конница, испанская пехота, балеарские пращники, кельтские воины и дезертиры итальянской армии. Это была не армия, а настоящая ассамблея наций! Как ему удалось превратить этот сброд в управляемое войско и победить нас в нескольких баталиях? Клянусь всеми богами, эти солдаты говорили на пятнадцати языках! Этот тип был настоящим гением… Но в конце концов мы его победили. И знаешь как, Марк? Мы сами изменились, мы научились у него, у самого Ганнибала, применили его стратегию и тактику. В битве при Каннах пуническая конница окружила наши легионы и мы потерпели самое крупное поражение. Но уже через несколько лет римская конница окружила армию Ганнибала и карфагеняне были разгромлены. Мы приспособились к нашему врагу и превзошли его… И наконец, много лет спустя, началась третья война. От былого Карфагена остался к тому времени только город на морском берегу, и вдобавок мы обложили карфагенян значительным годовым налогом. Они были разорены и вместо обширных территорий владели теперь только крошечным кусочком земли. Но не это было их главной проблемой.
– Не это? – удивился я. – Тогда что же?
– То, что они ничему не научились. Потерпев два серьезных поражения, они так и не познали своего врага, Рим. Скажи мне, Марк, какой недостаток для римлянина самый ненавистный?
– Бесспорно, высокомерие, ведь наше первое правило гласит: «Унижай высокомерного и сжалься над униженным».
– Вот именно. Мы ненавидим спесивцев, гордецов и хвастунов. Так вот, спустя несколько лет мы послали в Карфаген делегацию, чтобы собрать последнюю часть налога. По здравом рассуждении им надлежало молча расплатиться и обещать поддерживать вечно дружеские отношения с римским народом и Сенатом. И знаешь, как они поступили? В точности наоборот. Эти гордецы показали делегатам золотистые поля пшеницы и верфи, где строились военные корабли. Они, тот самый народ, который был побежден дважды, теперь хвастались своими богатствами и смеялись над Римом. Просто такова была их натура: жадные финикийцы думали только о деньгах и считали, что все продается и покупается и что богатство обеспечивает спокойную жизнь. Ха! И как можно быть такими дураками?
Прежде чем продолжить, он перевел дух.
– Делегация возвратилась в Рим и, само собой разумеется, рассказала в Сенате, что пунийцы по-прежнему представляют собой опасность. Нетрудно догадаться, что случилось дальше: мы в это время уже владели миром, а они были просто африканским городом, правда большим, но всего лишь городом. И мы их разгромили. Помогли им их богатства, все их деньги, когда для них наступил конец света, конец их мира? Ты сам видел, что от них осталось – только груды белых камней.
Именно так, груды камней. Такой конец ждет, Прозерпина, тех, кто не желает измениться. «Стань другим, – сказал Цицерон Катилине. – Сойди с тропы порока – и ты будешь жить». Но Катилина выбрал порок и погиб. «Изменись! – сказал мир Карфагену. – Будь скромным, или тебя настигнет смерть». Но Карфаген предпочел богатство скромности и исчез с лица земли.
Когда Эргастер замолчал, наступила долгая пауза. Казалось, что даже звезды на небесах слушали его рассказ. Я спросил старика:
– Ты, Квинт Эргастер, был у стен Карфагена. Скажи мне, правду ли говорят, будто в последний день осады города у его обреченных стен разгуливала мантикора?
Эргастер насупил брови и устремил на меня суровый взгляд полуслепых глаз.
– Мантикора?! – воскликнул он. – Что еще за дурацкая мантикора?
– Ты сам, наверное, знаешь: мифологическое животное, которое, как говорят, предвещает крах самых могущественных царств.
– Послушай, Марк, – сказал он с раздражением в голосе, – я тебе расскажу, кому Карфаген обязан своим крахом: ста тысячам головорезов римской армии. Никогда раньше не собиралась вместе такая армия убийц! Я участвовал в тридцати военных кампаниях. В тридцати! У каждого легиона, как у каждого человека, свой характер; ни один поход не похож на другие. И никогда, никогда мне не доводилось потом видеть солдат, так жаждавших крови, как те, которых Рим отправил в Карфаген. Даже сейчас я чувствую себя немного виноватым за то, что мы тогда совершили… Но эти зазнайки-пунийцы сами виноваты! Нет, я не видел никаких мантикор и не припомню, чтобы кто-нибудь говорил мне, будто видел такого зверя.
Он вдохнул прохладный ночной воздух. Невидимые легионы цикад пели в полумраке. Подслеповатые глаза Эргастера смотрели куда-то в прошлое, все более и более далекое, вызывая в памяти образы той страшной трагедии.
– Меня приютил сам Сципион Эмилиан[31], разрушитель Карфагена. В своей палатке он всегда держал двух маленьких мартышек и меня, маленького Квинта Эргастера, и всегда называл нас «тремя маленькими обезьянками». Я, естественно, был третьим в этой компании. Мы были его единственной радостью и развлечением.
Описанная моим амфитрионом ситуация могла быть истолкована по-разному, но я, конечно, промолчал. Он продолжил рассказ:
– Эмилиан был счастлив, только когда играл с нами, – вспоминал он, – потому что тот поход был сплошным ужасом, юный Марк, бесславным ужасом. Пять лет длилась осада, унесшая полмиллиона жизней. Ты понимаешь, какое варварство скрывается за одной простой цифрой? Полмиллиона убитых людей! В конце концов мы пощадили каких-то пятьдесят тысяч несчастных, а может, и того меньше. И мы их, само собой разумеется, обратили в рабство.
Он замолчал. Я подумал, что наступил удобный момент разрешить сомнение, терзавшее меня все годы учебы. Римским ученикам полагалось выучить наизусть слова, которые Сципион произнес при виде горящего Карфагена. Нас заставляли писать сочинения и готовить речи, раздумывая над глубоким смыслом этого важнейшего исторического момента. Поэтому я воспользовался случаем спросить об этом у Эргастера:
– Пожалуйста, Квинт, разреши мои сомнения: правда ли, что Сципион Эмилиан произнес те самые слова, пока легионеры грабили Карфаген, или их придумали потом?
– Разумеется, он их сказал! – проревел он своим громовым голосом полководца. – Я понимаю твои сомнения, потому что большинство историков обычно оказываются несостоявшимися драматургами. Но на сей раз хроники не врут. Я это знаю, потому что сам был там, рядом с ним. Мы стояли на возвышении и прекрасно видели тысячи пожаров и слышали крики миллионов мужчин, женщин и детей… Да, весь этот огромный город превратился в погребальный костер. От волнения глаза Эмилиана горели, как уголья. И тогда, окруженный друзьями и офицерами, он произнес свои знаменитые слова, изменив немного всем известные строки Гомера: «Некогда день сей наступит – падет священная Троя[32], и пожары ее увидит великий странник». А потом зарыдал. Уверяю тебя, Сципион плакал, как ребенок… Среди его свиты был один историк. Его удивили слезы отчаяния на лице победителя, и он спросил: «Друг мой, сегодня мы победили, откуда тогда эти стихи и эта жидкая грусть, что струится по твоим щекам?» Ответ Эмилиана прозвучал так: «Я боюсь, что однажды кому-то доведется увидеть Рим таким же, каким я сейчас вижу падший и разрушенный Карфаген».
Эргастер ударил своей палкой по земле, и наступила полная тишина, даже цикады смолкли.
(Ну хорошо, возможно, замолчали не все цикады. Придется тебе, Прозерпина, запастись терпением и простить мне некоторые риторические фигуры в этой длинной молитве, с которой я к тебе обращаюсь.)
4
Ранним утром на следующий день мы собирались снова пуститься в путь и двигаться дальше на юг. Эргастер, гостеприимный, как Филемон[33], поднялся даже раньше нас, чтобы попрощаться с гостями согласно старинным традициям. После завтрака, пока рабы готовили паланкин и грузили наши вещи, он обнял меня и сказал такие слова:
– Я говорил тебе вчера вечером и хочу повторить снова: послушай моего настоятельного совета и оставь даже мысли о путешествии на юг. Моя вилла – последний оплот цивилизации, за моими землями ты не увидишь ни одного оливкового дерева, дальше живут только дикари. И даже хуже: там расположен крошечный серебряный рудник, откуда все время бегут рабы, которые сбиваются в шайки убийц. Они бродят по пустошам, вечно голодные, одержимые ненавистью и отчаянием, и готовы заколоть родную мать из-за корки хлеба. И этих негодяев в тех краях будет больше, чем мух на крупе мула. Марк Туллий, – завершил он свою речь, качая головой, – вероятно, ты думаешь, что твое благородное имя защищает твою жизнь. И действительно, любой разбойник знает тебе цену и не ранит даже твоего мизинца, рассчитывая получить за тебя крупный выкуп. Но это пунийское отребье ведет себя по-другому, потому что они совсем одичали, живя среди зверей. Им неизвестны общие правила, даже те, которыми руководствуются бандиты; и если неосторожный путник попадет к ним в лапы, они его грабят, раздевают донага, закалывают и закапывают в землю еще живым. Их главаря зовут Торкас, и его считают грозой этих пустошей.
Этот самый Торкас закалывал людей и закапывал их живьем! Кинжалы и ямы – мой вечный кошмар! По правде говоря, слова Эргастера не прибавляли мне решимости продолжать путешествие вглубь страны, потому что его доводы не были лишены логики. Однако я привел ему свои, не менее весомые:
– Ты думаешь, что в Утике нам не говорили о Торкасе и его шайке бандитов, которая орудует в этих пустынных краях? – Тут я вздохнул, смирившись с судьбой. – Но мой отец – Марк Туллий Цицерон. И такой человек просто не сможет допустить, чтобы его сын отступил, испугавшись шайки бандитов с большой дороги.
Будучи опытным воякой, Эргастер сразу понял мои слова. Его старые и немощные руки обняли меня снова, еще нежнее и сильнее прежнего. Возникшие между нами теплые чувства, его рассказ о Карфагене, о судьбах людей и городов, которые отказываются измениться, чуть было не заставили нас забыть о том, что́ привело меня во владения Эргастера, – о Куале.
Я приказал привести его к нам, и рабы заставили юношу лечь ничком у наших ног.
– Мне говорили, что ты знаешь этого проходимца, – сказал я моему амфитриону. – Если это верно, у тебя гораздо больше прав на него, чем у меня.
Увидев паренька, бывший примипил закричал, потрясая своей палкой:
– Куал! Так это же обманщик и мошенник Куал!
Совершенно очевидно, старик его знал, потому что я даже не успел назвать юношу по имени, а слезы и рыдания Куала, стоявшего на коленях, были решающим доказательством, если таковое требовалось. Разъяренный Эргастер объяснил:
– Как мне его не знать? Мне нужен был пастух, и я нанял его. К югу отсюда у меня есть хижина, загон для скота и стадо коз. Поскольку неподалеку расположен серебряный рудник, я могу получить с этого небольшую прибыль; в нынешние времена даже самым скудным доходом не стоит пренебрегать. Я понадеялся на этого мальчишку и поручил ему ухаживать за животными и готовить сыр и сливки. Он был нищим, а я дал ему работу и возложил на него ответственность. И чем он мне отплатил? Должной верностью хозяину и послушанием? Нет! При первой же возможности он сбежал из моих владений. После того как я расплатился с ним в первый раз, он на следующий же день смылся в Утику, бросив все: хижину, коз и загоны!
В своем рассказе Куал не упомянул, что предполагаемое появление мантикоры совпало с получением денег. Однако здесь, Прозерпина, мне хотелось бы немного уточнить версию старого Эргастера. Она была не ложной, а просто неполной, ведь он принимал во внимание только свои интересы.
В том мире, который существовал до Конца Света, доминус был обязан обеспечивать своих рабов как минимум одеждой, кровом и пищей. А работу свободных людей следовало оплачивать. Однако в некоторых районах, например на окраине бедной и угнетенной провинции Проконсульская Африка, плата за труд была такой низкой, что оказывалось выгоднее нанимать свободных работников, чем содержать собственных рабов. На самом деле только природный консерватизм не позволял Эргастеру иметь больше работников и меньше рабов. Его вилла давала бы гораздо больше дохода, если бы он нанимал больше таких временных работников, как Куал. Но в его владениях жила целая сотня рабов, обслуживавших дом и выполнявших сельскохозяйственные работы. Их было много, слишком много, по крайней мере с точки зрения чисто экономической выгоды. Но Эргастера это устраивало, потому что так повелось издавна и потому что рабы были верны хозяину и слушались его беспрекословно, а это нравилось бывшему военному, привыкшему к дисциплине.
Рассмотрим теперь этот вопрос с точки зрения юноши. Он был наемным работником, и ему не грозили ни телесные наказания, которым подвергались рабы, ни полное уничтожение его личности. Все так, но за работу он получал сущие гроши, ничтожную сумму, из которой еще приходилось вычитать расходы на одежду и еду. По сути дела, работа пастуха и заботы о сыроварне занимали у него практически весь день – даже рабы могли отдыхать больше, – поэтому меня вовсе не удивило, что очень скоро Куалу все это надоело и такая жизнь показалась ему невыносимой.
Пока Эргастер лупил стоявшего на коленях юношу палкой по ребрам, тот умолял о пощаде. Сервус подошел ко мне:
– Ну вот, всему нашлось объяснение. Этот мошенник смылся в Утику, чтобы прокутить там полученные деньги, бросил коз и даже не попрощался с хозяином. А история с мантикорой – не более чем небылица, которую он выдумал, чтобы оправдать свой побег и завоевать внимание посетителей таверн. – Он разочарованно вздохнул. – Все сходится: ты можешь с честью вернуться домой, хозяин.
Я посмотрел на Сервуса. Когда он говорил, в его тоне было что-то, ускользавшее от моего понимания.
– Ты говоришь так, словно жалеешь, что нам теперь не нужно двигаться вглубь этих чуждых цивилизации земель, населенных преступниками, – укорил его я. – Почему тебе хочется туда отправиться? Что ты, боги всемогущие, потерял там, к югу от этой виллы, где на выжженных солнцем горах живут одни ящерицы?
Сервус промолчал, а меня одолели сомнения. Куал вовсе не был типичным нищим, который так и норовит всех обмануть и обвести вокруг пальца. Он казался бесхитростным пареньком. Когда я попросил его рассказать историю мантикоры, ему даже не пришло в голову назначить цену за эти сведения. Чтобы разрешить все сомнения, у меня оставался только один выход.
Я подошел к Эргастеру, чьи девяностолетние руки продолжали истязать спину Куала, и прервал наказание:
– Достойнейший Квинт Эргастер, большего гостеприимства, чем то, какое ты оказал нам, невозможно требовать, и я никогда этого не забуду. Поэтому мне неудобно пользоваться им и просить тебя о последнем одолжении. Но вот моя просьба: я был бы тебе чрезвычайно благодарен, если бы ты одолжил мне на некоторое время своего пастуха, который может оказать мне небольшую услугу, став нашим проводником.
– Одолжить тебе его, Марк Туллий? – ответил он. – Да я тебе его дарю! Зачем мне нужен этот жулик! Лучше бы я поручил пасти свое стадо своре голодных гиен!
Услышав эти слова, я схватил Куала за руку и отвел в сторону:
– Куал, ты вел себя как человек недостойный. По закону из-за подобной провинности тебя не могут обратить в рабство, однако в этих местах я что-то не заметил ни судей, ни иных представителей власти. Совершенно ясно, что твоя судьба в руках одного из двух хозяев, и только двух: это Эргастер и я сам. И сейчас, как человек благосклонный, я хочу предложить тебе выбор, который может стать очень важным для тебя.
Я остановился, отпустил его руку и устремил пристальный взгляд в его черные глаза:
– Поставь перед собой сей риторический вопрос: ты можешь выбрать между мной и Эргастером. Ты можешь пойти со мной, и я обещаю, что буду наказывать тебя, только когда того будет требовать справедливость, или вернуться к нему, к его палке и побоям, к его вспыльчивому характеру и безумным порывам гнева.
Реакция Куала говорила о многом: он даже не стал слушать меня до конца. Поняв, что ему предоставляется выбор, он стрелой бросился к Эргастеру, спотыкаясь на ходу, и упал ему в ноги. Юноша цеплялся за щиколотки старика обеими руками, плакал, всхлипывал и кричал, умоляя снова принять его на службу.
Я с некоторого расстояния наблюдал за этой сценой вместе с Сервусом и Ситир.
– Если история с мантикорой не более чем басня, скажите мне: почему он так напуган, что предпочитает палку старого Эргастера путешествию в тот край, где нас ждет только выдуманное чудовище? Нет, этот паренек что-то там видел. И такой проводник нам нужен.
Я кивнул Сервусу и моим носильщикам, которые поспешили подчиниться. Они схватили Куала и утащили его с собой, невзирая на то что бедняга в полном отчаянии орал, моля старого хозяина о пощаде, и мочился от страха.
Ситир бросила на меня злобный взгляд, потому что, по ее мнению, мне удалось добиться своего путем обмана. Но я только равнодушно пожал плечами.
И вот так, Прозерпина, мы снова двинулись в путь на юг, углубляясь все дальше в обожженные солнцем пустоши, где с каждым днем нам встречалось все меньше живых существ. Вскоре после того, как вилла нашего амфитриона осталась позади, мы увидели последнее свидетельство римской культуры: четыре полусгнивших креста, на которых все еще висели распятые скелеты людей. Эргастер рассказал нам, что установил их на этом месте для устрашения бандитов Торкаса, которые орудовали на землях к югу.
С высоты своего паланкина я обозревал окрестности, лишенные всякого интереса. Вокруг нас виднелись только овраги и низкие холмы, покрытые рахитичными деревьями и кустами разных видов, но в одинаковой степени уродливыми: одни напоминали растрепанные лохмы ведьм, а другие походили на наш розмарин, но ветки их были утыканы острыми, словно гвозди, колючками. Редкие листья на них казались жесткими, а желтоватая земля – выгоревшей. Над нашими головами с каждым днем летало все меньше птиц, и все без исключения были падальщиками. Солнце нещадно жгло, и сухая жара мучила нас постоянно. Хотя мы двигались по открытому пространству, воздух практически не двигался, словно в запечатанной амфоре.
Каждый вечер, когда заходило солнце, повторялся одинаковый ритуал: пять носильщиков разбивали незамысловатый лагерь вокруг небольшого костра и превращали мой паланкин, служивший днем средством передвижения, в палатку. Сделать это не стоило большого труда: они ставили паланкин на землю и накидывали плотную ткань поверх окон, чтобы я мог спать отдельно от остальных. Однако даже по ночам жара не спадала, поэтому я приказывал им открыть потолок паланкина, который можно было сворачивать. Мы взяли с собой недостаточно воды, и присутствие ахии с ее сверхчеловеческими чувствами оказалось очень кстати. Ситир брала с собой пару рабов, вдыхала воздух, отводила их к высохшему руслу какой-то древней реки, останавливалась в определенном месте и приказывала: «Копайте здесь». Рабы начинали рыть землю там, где им указала Ситир, и на глубине не более трех пядей начинал бить родник чистой и прозрачной воды, словно из Кастальского ключа[34].
Что же касается Куала, то даже спустя три дня и три ночи после того, как мы покинули виллу Эргастера, он был так же безутешен и плакал днем и ночью, уверенный, что мы идем на верную смерть. На всякий случай я каждую ночь выставлял удвоенную охрану. Боялся я не мантикоры, а бандитов некоего Торкаса, хотя мы не заметили их следов и вообще никаких признаков их присутствия.
Четвертый день пути начался как все предыдущие: тот же самый удушливый воздух и тот же самый медленный шаг носильщиков. Однако ближе к полудню нашим глазам предстала неожиданная и тревожная картина – небольшая группа людей двигалась параллельно нашему маршруту. Они были довольно далеко, но, несмотря на расстояние, мы смогли разглядеть восемь человек (а нас было только на одного больше), лошадь, осла и двух мулов, тяжело нагруженных вещами и провиантом.
– Кто это? – спросил я у нашего эксперта по местным традициям, то есть у Куала.
– Не знаю. На руднике постоянно нуждаются в новой рабочей силе, но эти люди не похожи на колонну осужденных: ни у кого из них не связаны руки, а на ногах нет кандалов.
Мы постарались разглядеть их получше, несмотря на расстояние. Может быть, мы встретились с Торкасом? Эти люди казались оборванцами, но я бы не осмелился назвать их бандитами. Когда стемнело, мы разбили лагерь почти одновременно, и нас разделяло менее тысячи шагов. Они видели наш костер, а мы – их. Когда в таком пустынном и глухом месте две группы людей не обмениваются приветствиями, это говорит о многом. Но я сказал себе, что, возможно, нас заставляет соблюдать дистанцию не враждебность, а взаимное недоверие.
На следующий день сцена повторилась: два каравана двигались параллельно. На горизонте четко вырисовывались восемь человеческих фигур и очертания вьючных животных. Солнце безжалостно палило, и из паланкина мне были видны бритые головы носильщиков, шедших впереди, красные, точно вареные осьминоги. В полдень я приказал им остановиться.
Мы оказались в небольшой низине, где стояло несколько рахитичных деревьев, отбрасывавших скудную тень. Я сел под одним из них, почти совсем засохшим. Сервус старался освежить меня, обтирая мне шею и лоб мокрым платком, но я был изнурен и разгорячен, а, как известно, жара и усталость не улучшают характер человека. Я обратил внимание на Ситир, которая казалась свежей и отдохнувшей, и ее вид меня разъярил:
– Посмотри-ка на нашу амазонку! Все мужчины устали как собаки, а она, наоборот, невозмутима, как спартанец при Фермопилах[35].
Ахия не обратила на мои слова ни малейшего внимания. Она сидела в довольно странной позе, скрестив ноги и положив ступни на бедра, и медитировала.
– Тебя нельзя назвать женственной. Наверное, ты стала такой после тренировок, которым подвергали тебя монахи Геи. Чем тебя учили убивать? Копьями, мечами или топорами?
– Руками, – наконец ответила Ситир, но я не понял, говорит она серьезно или насмехается надо мной.
– Неужели? – сказал я, решив продолжить игру.
– Да. Сначала нам приносили ящериц размером с ребенка.
Я не понял ее ответа.
– И что же вы делали с такими длинными ящерицами?
– Мы их душили.
Я вскрикнул, не желая в это поверить.
– Это правда, – вмешался в разговор Сервус, который продолжал смачивать водой мою шею и подбородок.
– Но это был только первый этап, – продолжила Ситир совершенно равнодушным голосом. – А когда мы убивали по пятнадцать штук, нам приносили крокодилов.
– Крокодилов???
Сервусу снова пришлось пояснить:
– Именно так, доминус. Кандидаты, претендующие стать ахиями, обязаны научиться их душить. Убивать крокодилов.
– Но я видел крокодилов втрое длиннее человека, и шея у них толще бычьей, да еще и защищена чешуей! Какой крокодил позволит человеку задушить себя?! Да он скорее сожрет несчастного, который попытается это сделать.
В эту минуту Ситир, уставшая от моих настойчивых вопросов, прервала свою попытку помедитировать, сделала пару шагов ко мне и заявила:
– Крокодилам никогда не удавалось справиться с ахиями; может быть, только какой-нибудь ученик монастыря оказался у хищника в желудке.
– Это действительно так, – подтвердил ее слова Сервус. – Это упражнение самое сложное из всех, которые надо сделать, и многие кандидаты погибают прежде, чем им представляется возможность войти в Большой Кратер в надежде, что какой-нибудь из Темных Камней выберет их.
Душить крокодилов! Я сам не знал, возмущаться мне или восхищаться смельчаками.
– Но зачем это было нужно? – воскликнул я. – Почему вам давали такие невыполнимые задания, как удушение крокодилов?
Ситир обвила рукой мою шею.
– Потому что после этого свернуть шею человеку не составляет никакого труда.
Должен тебе признаться, Прозерпина, что я вздрогнул от испуга. Сервус понял, что наш спор принимает опасный оборот, и обратился к Ситир с просьбой:
– У нас кончилось свежее мясо. Почему бы тебе не отправиться на охоту?
Так как ахия не возражала, я рассмеялся:
– У тебя нет ни оружия, ни сетей. Если ты увидишь зайца, как ты думаешь его поймать?
Она ответила мне кратко, как это принято у ахий:
– Ноги даны мне для бега, а руки – чтобы хватать добычу.
И с этими словами Ситир удалилась. Я обернулся к Сервусу; теперь, когда ее не было рядом, у меня отлегло от сердца.
– Что за ерунда! Неужели я должен поверить, что ахии столь воинственны? За все время нашего знакомства мне ни разу не пришлось увидеть, как она берет в руки оружие!
– Ты никак не хочешь этого понять, доминус: она сама – оружие.
Он произнес эти слова с полуулыбкой превосходства, что меня обидело, но на такой жаре мне было лень наказывать провинившегося плетьми.
Итак, я остался вместе с Сервусом, Куалом и пятью рабами-носильщиками. Раскаленный диск солнца казался нам орудием пытки. Пронзительные и раздражающие слух трели цикад доводили меня до отчаяния. Я начинал ненавидеть этот знойный край.
– Мне бы надлежало сейчас быть в Риме. В столице! – возмутился я с горечью. – Мое имя – Марк Туллий Цицерон, на роду мне было написано отстаивать свою честь, завоевывать известность и пожинать славу. А я оказался в этой проклятой дыре и ищу призрак какого-то выдуманного чудовища!
С каждой минутой мое раздражение росло. Я встал на ноги и погрозил пальцем носильщикам и в первую очередь Сервусу:
– А ты, проклятый монах-неудачник, берегись! Ты полагаешь, мне неизвестно, что ты думаешь обо мне и о римских патрициях? Первый урок, который дал мне отец, был таким: в стенах Сената ты всегда должен казаться менее пьяным, чем на самом деле, а вне его – гораздо пьянее, чем в действительности. На вилле наместника Нурсия той ночью я слышал все твои речи! – (Он побледнел.) – Не знаю, что ты там задумал, но слушай меня внимательно: перед отъездом я вручил Нурсию запечатанное письмо, в котором предупредил его, что, если мне будет не суждено вернуться из этого дурацкого похода, ты за это ответишь. Тебя, Сервус, будут считать убийцей, а вас – необходимыми ему сообщниками! – закричал я, указывая на пятерых носильщиков. – Перед казнью вас подвергнут таким страшным и изощренным пыткам, что вы возблагодарите всех богов, когда вас наконец распнут на кресте.
Сервус, обычно столь красноречивый, начал заикаться. И в этот момент наш ожесточенный спор прервало неожиданное появление гостей.
Двое мужчин остановились прямо перед нами в угрожающей позе и, насупив брови, смотрели на нас. Я с первого взгляда понял, что это свободные люди из каравана, который старался нас опередить. Самым удивительным, Прозерпина, мне показалось их сходство: у этих братьев-близнецов, похожих друг на друга как две капли воды, все было одинаково – фигуры, выражение лиц и даже одежда. Разнились они только двумя деталями: один носил растрепанную козлиную бороду, а другой собирал волосы в пучок на затылке. Ростом оба не вышли, но были жилисты и сильны, как вепри. Одежду они носили удобную и прочную, из грубой ткани, но их облик выдавал вкусы, типичные для жителей восточных провинций: несмотря на суровый вид и плохо выбритые щеки, они не забыли надеть браслеты и серьги. Очень много серег.
Незваные гости предусмотрительно остановились в нескольких шагах от меня и моих рабов, посмотрели на нас испытующими взглядами, и наконец один из них обратился ко мне:
– Эй ты, богатенький парнишка! Я предполагаю, что ты у них суфет.
Слово «суфет» раньше на языке карфагенян означало «вождь» или «магистрат», а сейчас в Африке использовалось в народе для обозначения любого лица, на которое возлагалось командование.
Не дожидаясь моего ответа, он продолжил свой допрос:
– Почему вы следуете за нами? Отвечай, парнишка!
«Парнишка»! Они коверкали латынь, засоряя язык африканскими словами, и шлепали губами, отчего понять их намерения было еще труднее: может быть, они хотели меня оскорбить, а может, просто плохо владели латинским языком. Как бы то ни было, юному патрицию с первых дней внушали, что ему надлежит ощущать свое превосходство над собеседником, и особенно если перед ним разбойник, у которого серег в ушах больше, чем пальцев на ногах.
– Для начала представимся: меня зовут Марк Туллий Цицерон.
– А мы – братья Палузи, Адад и Бальтазар Палузи, – нагло ответил он. – Но это никакого значения не имеет. Мы тебе задали вопрос: почему ты следуешь за нами?
– Вот так шутка! – воскликнул я с насмешкой. – А вам не приходило в голову, что я могу задать тот же самый вопрос вам?
Однако эта парочка пришла не разговаривать, а напугать нас. Один из братьев, Адад, подошел к одному из моих носильщиков, пристально посмотрел ему в глаза, неожиданно выхватил кинжал, висевший у него на поясе, и вонзил его бедняге в низ живота по самую рукоятку. Когда кинжал пронзил кожу раба, Адад направил острие справа налево и вспорол ему живот, как охотник поступает с оленем, которого ему удалось поймать. Носильщик упал на колени с душераздирающим криком. Кишки несчастного вывалились наружу, и он пытался удержать их рукой, словно ребенка. Позволь мне заметить здесь, Прозерпина, что столь жестокий поступок кажется еще отвратительнее, если его никто не ожидает.
Этот самый Адад Палузи подошел ко мне с окровавленным кинжалом в руке. Мое лицо, вероятно, было белее августовских облаков, но он не стал нападать на меня. Вместо этого он бросил к моим ногам три дорогие монеты, очевидно в качестве компенсации, и после этого медленно пошел прочь. Когда братья уже почти затерялись среди холмов, я закричал им вслед:
– Вы сказали, что вас зовут Палузи? Так знайте же, братья Палузи, что вы невежливые грубияны! Вы меня слышите? Грубияны!
Честно говоря, Прозерпина, в тот момент мне не пришло в голову никакое другое определение среди прочего потому, что оценить подобный поступок было достаточно трудно.
Через некоторое время Ситир вернулась, и несла она не зайца, а целую антилопу. Но я обругал ее, поскольку все еще находился под впечатлением от увиденной жестокости. Показывая ей смертельно раненного раба, я укорил ее за отсутствие:
– Это так ты меня защищаешь? Куда ты подевалась, когда была мне нужна? Ходила душить крокодилов?
Ситир разрешила спор привычным для нее способом. Она не стала возражать, а просто свернулась клубочком в тени и отрешилась от мира.
– Не ругай ее, доминус, – посоветовал мне Сервус. – Скорее всего, они следили за нами, чтобы оценить наши силы, и выждали время для своего визита, когда Ситир, могучая ахия, отлучилась.
– Ничего себе могучая! – заорал я. – И какие же вы, восточные люди, глупые и доверчивые!
Вывалившиеся наружу кишки раба привлекали мух, и я приказал, чтобы его отнесли подальше от моего носа.
Я уселся на пень и довольно долго размышлял над сложившейся ситуацией. Мы, трусы, то есть люди, лишенные храбрости, обычно умнее остальных людей хотя бы потому, что стараемся восполнить недостаток смелости умом.
Немного успокоившись, я стал рассуждать, пригласив к разговору Сервуса:
– Я не думаю, что братья Палузи мне враги.
– Неужели? – удивился он.
– Они действительно нанесли мне ущерб, лишив меня одного из рабов, но, если бы вместо паланкина я бы передвигался в повозке, они бы, наверное, просто сломали одно из ее колес.
– Я не понимаю тебя, доминус.
– Если какие-то проходимцы портят твое имущество, а потом возмещают тебе ущерб, они не собираются тебя убивать. Они хотели только предупредить меня и замедлить наше передвижение.
– Но зачем они хотят его замедлить?
– Это хороший вопрос. И на него есть единственный ответ: если они хотят, чтобы я задержался, значит считают меня своим соперником. Иначе говоря, братья Палузи ищут то же самое, что и я.
– Мантикору… – вслух задумался Сервус. – Но зачем этой парочке провинциальных плебеев понадобилась мантикора?
– А мне почем знать? – сказал я. – Я с плебеями обычно никаких дел не имею. В последний раз я общался с кем-то из них лет десять тому назад, когда играл с ребятами на улочке Родос в Субуре.
Раненый раб умер, пока мы ели на ужин мясо антилопы, приготовленное с ароматическими травами, собранными прямо на нашей стоянке и удивительно душистыми. (Да, я знаю, Прозерпина, жестоко описывать так смерть человека, но таков был мир до Конца Света.) На следующий день мы снова двинулись в путь, и шли так же быстро, как и раньше. Вспомни, Прозерпина, что до визита братьев Палузи у меня было пять носильщиков, а значит, теперь их осталось четверо – по одному на каждый из шестов паланкина.
Братья Палузи со своими людьми немного нас опередили, но мы встретили их у колодца, где они остановились, чтобы запастись водой.
Мы приблизились к ним, не таясь и не принимая никаких предосторожностей. Впереди шли Сервус и Ситир, а рядом с ними Куал. Я следовал в своем паланкине прямо за ними. Братья-близнецы и их люди насторожились и ждали нас, схватившись за рукоятки кинжалов или ножей, которые, однако, не вынимали из ножен.
– Братья Палузи! Это я, Марк Туллий, и мне бы хотелось разрешить одно недоразумение.
Они не выразили желания начать переговоры, но и не отказались от них, поэтому я счел их молчание за согласие. Я спустился на землю из паланкина, воспользовавшись спиной Сервуса как ступенькой, и приблизился к братьям Палузи.
– Не могу вспомнить, это у Бальтазара пучок, а у Адада бородка или наоборот, – прошептал я Сервусу, который сопровождал меня.
– Знать, как кого зовут, не очень важно, – предупредил он меня. – Гораздо важнее определить, кто из них главный.
Сервус был прав, и я задал вопрос:
– Кто из вас двоих родился первым и, следовательно, является суфетом?
– Говори! – ответили они мне почти одновременно.
Ну и манеры! Впрочем, мне хотелось добиться мира и согласия, поэтому я объяснил им все совершенно откровенно:
– Послушайте, братья Палузи: мне не нужна никакая мантикора, я ищу только правду и, если узнаю, насколько верны все эти россказни, вернусь в Рим, не претендуя на вашу власть над этим краем и его плодами, которые меня вовсе не интересуют.
Но в ответ на свою речь я получил только ехидные улыбки.
Брат, носивший козлиную бородку, Адад, сказал презрительно:
– Мы тоже не преследуем никакую мантикору – по той простой причине, что не имеем обыкновения охотиться на несуществующих зверей.
И тут брат с пучком на затылке, Бальтазар, подошел ко мне и посмотрел мне в глаза. Его взгляд был таким же жестким, как почва, по которой ступала его нога, однако он сделал неожиданный жест – протянул мне флягу из козьей шкуры.
– Возможно, они хотят отравить тебя, – прошептал мне Сервус в правое ухо.
– Если ты выпьешь, – предупредил меня Куал с левой стороны, – это будет значить, что ты принимаешь их гостеприимство и должен будешь исполнять обязанности гостя.
Меня охватили сомнения. Что мне надо было делать? В конце концов я отпил из этой фляги, в которой, кстати, была не вода, а местный спиртной напиток, отдающий обезьяньей мочой.
Мой жест имел самые благоприятные последствия. Обе группы людей расселись вокруг жалкого колодца, окруженного камнями, и повели разговор. Братья Палузи не собирались скрывать от нас целей своего похода в эти дикие и пустынные земли.
До них тоже дошли слухи о мантикоре – вернее, рассказ о некоем черном и свирепом звере, который объявился в этих пустошах. Однако выводы, сделанные братьями из этой новости, были гораздо практичнее тех, к которым пришел мой отец: на их взгляд, это была никакая не мантикора, а черная патера. А за черных пантер платили большие деньги, и даже не просто большие, а огромные.
Чтобы мой рассказ был тебе понятнее, Прозерпина, разреши мне в этом месте кратко описать тебе досуг римлян и их развлечения накануне Конца Света.
В нашей цивилизации существовало явление под названием «цирк» – народное зрелище, во время которого убивали самых разных животных (и людей тоже) на потеху публике. Италийские цирки, и в первую очередь римский, приносили огромные доходы торговцам животными. Правители Утики и других африканских городов оплачивали экспедиции вглубь провинции, чтобы охотиться на слонов, львов, бегемотов, крокодилов и любого другого зверя, который бы рычал, ревел и бросался на врага. Чем уродливее, больше и страннее был зверь, тем выше его оценивали на противоположном берегу Средиземного моря. (Представь себе, Прозерпина, в Риме из-за этого даже появилась поговорка – когда мы говорили об удивительных и одновременно неприятных новостях, то прибавляли: «Все чудовища прибывают к нам из Африки».)
Однако эти экспедиции стоили дорого, очень дорого, и, естественно, организовать их было чрезвычайно сложно. Ты представляешь, как трудно поймать целое стадо слонов и живыми переправить их по суше и по морю, чтобы они целыми и невредимыми прибыли в Рим?
Братья Палузи были последним звеном этой длинной и запутанной цепи: опытными охотниками, которые ловили зверей в их логовах, больше всех рисковали и испытывали все невзгоды и лишения. И, как это водится, их доходы были несравненно меньшими, чем у других. Братья прекрасно знали свое дело и систему обогащения, принятую в этой коммерческой сфере: торговцы зверьем платили им гроши, а потом получали баснословные доходы, перепродавая животных в Италии. И вот сейчас им впервые представлялась возможность заработать солидную сумму денег, потому что они не собирались продавать пантеру перекупщику животных, а хотели сами распорядиться своей добычей. Многие богатые римляне мечтали похвастаться своей черной пантерой и заплатили бы кучу денег за живого зверя.
И должен тебе сказать, Прозерпина, их план был вполне разумен. После разгрома последнего соперника Рима, Карфагена, все богатства мира потекли в Вечный город. В первую очередь обогатились патриции, которые чванились своим богатством и роскошью. Наши Катоны[36], конечно, осуждали эти излишества, как чуждые традиционной римской морали, но богачи только смеялись над их проповедями. Даже Цезарь и Красс соперничали в роскоши, стараясь превзойти друг друга в изысканных деталях убранства, и чем более экзотическими, странными и дорогими они были, тем больше ими гордились. За черную пантеру римский сибарит мог согласиться заплатить целое состояние. А зачем она была ему нужна? Просто для того, чтобы зверь украшал его величественные сады, а гости восхищались вкусом и богатством хозяина дома. В Риме в области политики слава человека решала все или почти все. А теперь, Прозерпина, представь себе, что значила такая огромная сумма денег для бедных африканцев вроде Адада и Бальтазара Палузи, выходцев из крошечного, затерянного где-то поселка.
– Не знаю, отдаете ли вы себе в этом отчет, – сказал я, – но ваши цели делают нас союзниками.
– Объясни, – сказали близнецы хором, с одинаковым недоверием в голосе.
– У вас все равно остается нерешенной проблема посредника между пантерой и богатым римлянином, который захочет ее у вас купить. Вы провинциальные охотники и ничего не знаете о Риме, о юридических препонах и о том, как подкупить ликторов и эдилов[37], чтобы спустить зверя с корабля на берег, а потом продать. Вам неведомо ни какую цену можно запросить за такое животное, ни какие конкретные люди будут готовы ее заплатить. Поэтому вам нужен я.
– Ты?
– Я хорошо знаю Рим, его богачей и его власть имущих, что обычно одно и то же: если вы положите пантеру на мою правую руку, моя левая рука подарит вам целое состояние. Все очень просто.
Адад погладил бородку двумя пальцами.
– Предположим, что мы так все и сделаем, – сказал он. – Сколько ты с нас возьмешь за эту услугу?
– Я прибыл сюда не ради денег, и для человека моего звания оскорбительно предположение, что он действует ради выгоды. Нет. Я оказался здесь, потому что ищу нечто более высокое и достойное, нежели мешок монет: мне нужно объяснение.
Они все равно не понимали меня.
– Я прошу вас только об одном, – добавил я. – Когда мы прибудем в Рим, прежде чем продать зверя, отвезите клетку в дом моего отца, чтобы он его увидел. И тогда я смогу сказать: «Отец, это была не мантикора, а пантера. Вот она, перед тобой». И я смогу похваляться своим открытием. – Потом я продолжил: – Таким образом я завоюю уважение отца, восхищение друзей и славу среди сенаторов. И тогда через несколько лет, когда начнут составлять список будущих кандидатов в магистраты, все скажут: «Ах да, конечно, Марк Туллий – тот самый юный лев, который поймал живую пантеру!» Понимаете ли вы теперь, что для меня существуют вещи, гораздо более ценные, чем деньги?
Я увидел, как заблестели их глаза. Их мир сильно отличался от моего, но, как это ни удивительно, именно эта разница в происхождении приводила к тому, что наши интересы дополняли друг друга. Я протянул им раскрытую ладонь:
– По рукам?
Чувствовалось, что они готовы согласиться, но тут голос за моей спиной произнес:
– Послушай, доминус, все ваши переговоры основаны на ошибке, такой же огромной, как влагалище Венеры. Потому что животное, о котором вы ведете переговоры, – это не пантера.
– А это кто еще такой? – заорал Бальтазар.
Голос принадлежал Куалу. Если бы я заткнул ему глотку, братья Палузи почуяли бы неладное и подумали, будто от них что-то скрывают. Мне хотелось показать, что меня можно считать честным союзником, и лучший способ этого достичь состоял в том, чтобы позволить пастуху свободно рассказать о своем приключении.
Итак, юноша начал свое повествование, и, хотя все мои рабы, Сервус и Ситир все это уже знали, мы сели в кружок с братьями Палузи и их людьми и стали его слушать. Даже колодец, казалось, насторожился и внимал рассказчику.
Куал в первую очередь указал на детали, которые противоречили гипотезе братьев Палузи, а таких было немало: у пантер на коже не бывает чешуи; на морде зверя, которого он видел, просматривались почти человеческие черты; на его овальном сером черепе не было ни одного волоска; когда чудище разевало пасть, в ней виднелись три ряда зубов – целых три! Кроме того, до его появления послышался странный шум, словно целое стадо быков, огромных, как Апис[38], втягивало ноздрями воздух одновременно. И наконец, увиденное им животное выползло в клубах голубого пара из норы в земле, которую пастух называл Логовищем Мантикоры. А разве пантеры могут появляться из-под земли?
– Зверь не жил в этой норе, а просто спрятался там, – сказал Бальтазар, брат с пучком на затылке, обладавший более решительным характером.
– А ты уверен, – спросил Адад, – что он появился в голубом облаке, которое исходило из дыры?
– У меня нет сомнений, потому что так оно и было.
– Тогда, если все случилось, как ты говоришь, между зверем и твоими глазами расстилалась пелена тумана, – заметил Адад. – Как же ты можешь уверять, что у него была чешуя?
– Ну, мне так показалось, – засомневался Куал.
– Показалось? Послушай, что я тебе скажу: у черных пантер блестящая шкура, и, если эти пары́ были влажными, шерсть зверя наверняка блестела еще сильнее, почти как чешуя.
Братья всегда действовали слаженно, словно два колеса на одной оси.
– А можешь ли ты с уверенностью сказать, что морда твоего чудовища была похожа на человеческое лицо? – продолжил допрос Бальтазар, приняв эстафету Адада.
– Нет! Она была гораздо страшнее!
– Само собой разумеется, потому что это была огромная кошка! – воскликнул Адад. – Куал, мне приходилось смотреть в глаза этих зверей на небольшом расстоянии, и они внушают ужас. И знаешь, почему мы их так боимся, Куал? Потому что тысячи поколений этих животных ели людей. И от страха ты увидел не просто зверя, а нечто больше.
– Великолепное объяснение! – вмешался в разговор я. – Теперь ты сам видишь, Куал. Братья Палузи – очень опытные охотники, поэтому теперь ты можешь ничего не бояться и отвести нас к твоему знаменитому Логовищу Мантикоры, где нас поджидает черная пантера, и они ее поймают.
Куала эти доводы, казалось, совсем не убедили, но решения принимал не он. Я обернулся к братьям:
– Ну что? По рукам?
Они все еще сомневались. Два брата со своими спутниками удалились шагов на двадцать от колодца и встали в кружок, чтобы обсудить ситуацию между собой. Очень скоро два брата обратились ко мне.
– Мы согласны, – сказали они. – Но при условии, что ты обязуешься отвезти нас в Рим и улаживать все дела, как ты нам обещал, пока мы не продадим зверя.
Почему бы и нет? Возвращение в сопровождении пунийцев только прибавило бы мне славы. Я немедленно согласился. На глазах у всей экспедиции они протянули мне руки, раскрыв ладони, в знак заключения договора. Я пожал их, но пустился на уловку, которую знают все патриции: после рукопожатия я обнял сначала Адада, а потом Бальтазара и поцеловал каждого в обе щеки.
Тебе, Прозерпина, это может показаться просто выражением сердечности и дружелюбия, но этот жест означал нечто большее. В нашей древней и прогнившей насквозь Республике таким путем патриции соглашались принять под свое покровительство плебеев, которых с этого момента защищали. В обмен на заступничество те должны были им подчиняться и верно служить. И братья Палузи прекрасно это знали и потому выпучили глаза, как прохожий, который неожиданно обнаруживает, что у него украли кошелек.
Я прекрасно понимаю, что в затерянных краях к югу от Утики эта хитрость большого значения не имела. Но дело было сделано. Так я показал обеим группам, что главный в экспедиции я, а не они, и до самой ночи того дня пребывал в отличном настроении.
Как ты могла убедиться, Прозерпина, в мире до Конца Света принадлежность к знатному роду давала тебе сто очков вперед: благодаря моему положению я превратил братьев Палузи в своих клиентов[39], мои надежды на успех и шансы добиться значимого положения в обществе росли с головокружительной скоростью, и при этом охотники выполнят всю работу за меня. А именно – поймают пантеру. И какой ценой я добился своего? Нельзя считать большой потерей смерть одного раба, которого к тому же нетрудно было заменить, потому что у меня оставалось еще четверо. Все вышло как нельзя лучше! Да, я понимаю, Прозерпина, мой восторг объяснялся жестокостью моего сердца, но римские патриции размышляли именно так.
Кроме того, моя радость была преждевременной. Я забывал о том, что нахожусь в Африке, а в Африке судьба человека подвержена переменам, слово зависит от резких и неожиданных движений какого-то странного маятника. Твой мир в одно мгновение ока превращался из Africa felix в Africa atrox[40]. И вот как это произошло.
Вечером мы разбили лагерь на равнине, откуда виднелись далекие, очень далекие вершины горных хребтов Атласа. Когда я был маленьким, педагоги задавали нам такую загадку: «Я – Атлас, он так же высок, как я, и стоит совсем рядом, но мы никогда не видим друг друга. Кто он?» Правильный ответ – Антиатлас[41], то есть южный склон Атласа. И мы, играя в тупике Родос в Субуре, считали, что Антиатлас – это самое удаленное место, где только может ступать нога человека. (Если вспомнить все, что потом со мной произошло, эта фраза кажется самой большой издевкой с момента основания Рима.)
Но, как я уже сказал, Прозерпина, мое ликование длилось недолго. В тот вечер, когда я уже устроился в превращенном в палатку паланкине, Куал попросил разрешения поговорить со мной. Оказавшись внутри, он задернул полог и сказал мне:
– Доминус, как ты уже, наверное, заметил, братья Палузи говорят между собой на пуническом языке. Поскольку все твои рабы из Италии и я говорю с вами на латыни, все забыли, что я тоже знаю пунический.
– Мы сейчас в Африке. Разве удивительно, что пунийцы говорят на своем языке?
– Тогда, я предполагаю, тебя не интересует, что они говорили о тебе?
Я поднял брови, неожиданно заинтригованный.
– Бальтазар, брат с пучком, – продолжил он, – говорил Ададу, брату с тонкой бородкой: «Нам следовало его убить, пока ахия была далеко». И Адад ему ответил: «Он еще может нам пригодиться, а потом ты им займешься. Перережь ему глотку и закопай в какой-нибудь яме в пустыне».
5
Теперь наши группы объединились и вот уже три дня продвигались на юг, следуя указаниям Куала. Заняться в это время мне было особенно нечем, поэтому я смог поближе познакомиться с братьями Палузи.
Меня, римского патриция, привыкшего следовать самым новейшим требованиям моды, очень забавляли африканцы своей манерой одеваться и дурным вкусом: им, как и жителям Востока, нравились яркие цвета. С моей точки зрения, крайне нелепо оторачивать грубую и удобную одежду охотника золотой и пурпурной тесьмой. Теперь, когда я смог рассмотреть их поближе, мои подозрения подтвердились: украшения, которые они носили на руках и в ушах, были дешевой бижутерией. Также надо сказать, что братья пользовались уважением шести охотников, их сопровождавших: распоряжения Адада и Бальтазара те выполняли с готовностью людей, которые подчиняются по собственному желанию и не тиранам, а лицам уважаемым или «первым среди равных», как говорили римляне.
Однако, Прозерпина, самой главной отличительной чертой братьев Палузи была их неотличимость. Никогда в жизни я не встречал людей, которые были бы так похожи друг на друга. Если бы не бороденка Адада и не волосы, собранные в пучок, на голове Бальтазара, их никто не смог бы различить. Все в них было одинаково: черты и мимика, телосложение и жесты. Они не считали свое поразительное сходство ни удачей, ни несчастием, а просто принимали как должное, что на их примере судьбе угодно было показать братство в его превосходной степени.
Они всегда уставали в одинаковой мере или были одинаково бодры; испытывали голод или жажду в один и тот же час; каждое утро просыпались в одну и ту же минуту. И самое забавное: очень часто оба, не сговариваясь, заводили речь в один голос и совершенно одинаковыми словами. Бальтазар меньше брата стеснялся в выражениях:
– Иногда мы даже одновременно пукаем или рыгаем.
– Было бы хорошо, – рассмеялся я, – если бы римские консулы были так же единодушны, как пунийские суфеты.
(Тебе, Прозерпина, наверное, эта шутка непонятна, но я поясню: согласно закону, римских консулов всегда было двое, как братьев Палузи.)
Их связь была настолько сильна, что порой вызывала недоверие, но я тебя уверяю, что все это чистая правда. Например, когда братья спали, им часто снились одинаковые сны. И это еще не самое невероятное: с момента своего рождения они расстались только на одну ночь. Всего один раз, Прозерпина! В ту ночь Адад охотился далеко от дома, и с ним приключилось несчастье: дикий бык ударил его своим рогом под третье ребро с правой стороны. В то же самое мгновенье Бальтазар, который остался в родной деревне, почувствовал острую боль в том самом месте, куда был ранен его брат. Четверо из шести охотников, сопровождавших близнецов, были родом из той самой нищей деревни и подтвердили, что все было именно так.
Кем были братья Палузи? Одной и той же личностью, повторенной в разных телах, или одним и тем же телом, воспроизведенным дважды для двух разных личностей? Трудно сказать. Поскольку наше путешествие не отличалось разнообразием, меня заинтересовала даже юридическая сторона дела: если они были одинаковы во всем, то как решался вопрос наследования? Согласно пунийской традиции, право первородства принадлежало бородатому Ададу, потому что он появился на свет первым, хотя голова Бальтазара была крепко прижата к ножкам брата. Но близнецы не придавали этим деталям никакого значения.
– Если он – это я, а я – это он, – сказали они мне, – почему нас должен занимать вопрос о том, кому принадлежит утварь, деньги или дома? Все у нас общее.
– И вы так же рассуждаете, когда речь идет о женщинах? – пошутил я, вспомнив шутки Субуры.
Но мой вопрос не показался им ни забавным, ни обидным.
– У нас все общее, кроме листьев оплонги.
(Оплонга, Прозерпина, – это местное название одного из немногих встречавшихся в тех засушливых местах растений; только у него были достаточно мягкие листья, чтобы использовать их для определенных целей после опорожнения кишок.)
Как бы то ни было, я безоговорочно верил всем историям, которые мне рассказывали об исключительном единстве близнецов. Они с таким спокойствием и убежденностью объясняли эти явления, что никакой слушатель не стал бы сомневаться в их искренности. С другой стороны, зачем бы они стали изощряться и врать какому-то Марку Туллию, которого уже решили убить?
Однако совместная жизнь, Прозерпина, чаще заставляет видеть различия у людей похожих, чем общие черты у непохожих. Поэтому, по мере того как дни шли за днями, я постепенно начал понимать, что братья были не такими уж одинаковыми, – по крайней мере, их характеры заметно различались. Например, я заметил, что Адад был религиознее. Каждый вечер, когда мы разбивали лагерь, он строил из тонких тростинок маленький шалаш высотой чуть больше пяди и покрывал стены глиной. Это было некое подобие алтаря, в котором он устанавливал керамическую фигурку, изображавшую древнего бога пунийцев Баала, а перед ней – приношения, крошки хлеба и наперстки с вином, и по вечерам и ночью можно было смотреть, как в глубине этого крошечного храма поблескивает изящная фигурка, освещенная пламенем маленьких свечей. Тем временем Бальтазар предпочитал затачивать концы палок и устраивать ловушки для птах, которые на следующее утро служили украшением нашего завтрака. Глаза некоторых птиц считались у пунийцев самым изысканным яством.
Как я тебе уже говорил, Прозерпина, через три дня мы остановились на ничем не примечательном участке равнины, покрытом скудной растительностью.
– Вон там, да, именно там появилась мантикора, – сказал Куал, указав на какую-то точку среди желтоватой пустоши, по которой тут и там были разбросаны безымянные кустарники.
Пастух тыкал пальцем, и рука его дрожала не переставая. Когда мы велели ему двигаться дальше, он отказался, полумертвый от страха. Бальтазар Палузи подошел к нему.
– Ты такой трус, что даже в сопровождении двенадцати мужчин боишься несуществующего чудовища? – упрекнул он пастуха и подтолкнул его, невзирая на сопротивление.
Мы двинулись вперед. Все без исключения. Последние сто метров мы преодолели в полной тишине, настороженно глядя перед собой. Слышны были только наши шаги: моих рабов и охотников братьев Палузи. Ситир, как всегда, двигалась совершенно бесшумно.
Наконец мы все собрались вокруг ямы. Ничего особенного в ней не было: просто черная дыра овальной формы, а потом нора, которая изгибалась и уходила куда-то вглубь. И все.
– Вот, это и есть Логовище Мантикоры! – простонал Куал.
Пастух нас не обманывал. Я обратил внимание на то, что его рука покрылась мурашками, когда он указал на эту ямину. Как бы то ни было, никаких следов ни пантер, ни мантикор, ни даже какого-нибудь завалящего слепого крота здесь не наблюдалось. Я выразил свое разочарование.
– А чего ты хотел? – обругал меня Бальтазар. – Чтобы пантера здесь спокойно лежала и поджидала нас? Она может нас увидеть на расстоянии в десять раз больше, чем то, на котором можем заметить ее мы, и даже прежде, чем разглядеть, она нас учует.
Проведя с ними несколько дней, я ясно видел различия в характерах братьев: Адад старался разумно руководить всей группой, а Бальтазар был несдержаннее и порывистее.
Адад начал готовиться к охоте на зверя, следуя нашему плану: мы решили использовать труп раба, убитого самим Палузи, в качестве приманки. Именно ради этого мы тащили его с собой все эти дни. (Я знаю, мой черный юмор тебе не по вкусу, Прозерпина, но позволь мне все-таки рассказать тебе, что мы запихали в рот бедняги и под его тунику бесчисленное множество пучков ароматических трав, чтобы он не слишком вонял. И, говоря о нем, называли его Козленком, потому что одним из самых изысканных блюд римской кухни считался фаршированный дикий козленок.)
Итак, мы положили нашего Козленка у самого Логовища Мантикоры. Как ты можешь себе представить, Прозерпина, четверо носильщиков, оставшихся в живых, наблюдали за этими приготовлениями с тяжелым сердцем.
– Не беспокойтесь, – пошутил я. – Если наш план сработает с первого раза, нам не придется пустить на мясо и вас тоже.
Братья Палузи и их охотники чуть не лопнули со смеху. Они были бедными, но свободными людьми и называли рабов «плешивыми», потому что тех обычно брили наголо, чтобы сразу отличать в толпе. Носильщикам и Сервусу моя шутка не показалась уж очень забавной.
Мы расположились на почтительном расстоянии от Логовища Мантикоры и Козленка. В сотне шагов от ямы росли какие-то кусты, и мы разбили за ними свой маленький лагерь, где разместились все: десять мужчин и Ситир, а также пять моих рабов, включая Сервуса.
Носильщики приготовили мой паланкин для ночлега, а у братьев Палузи и их охотников были с собой небольшие палатки, сделанные из козлиных кож, в которых они спали по двое.
Потом охотники срубили ветки акаций, подобрали несколько сухих стволов и соорудили из этих материалов заграждение перед нашим лагерем. Эта низкая изгородь из веток и бревен по форме напоминала подкову и защищала нас практически со всех сторон. Единственная зона, которая оставалась открытой, располагалась на отрезке, наиболее удаленном от Логовища Мантикоры. Когда основная структура заграждения была построена, они укрепили ее с помощью больших колючих кустов, которые послужили кольчугой, покрывавшей ветки и бревна. Надо отдать должное их находчивости: увидев шипы длиной в палец, ни один хищник не решился бы приблизиться. Охотники обвязали морды лошади, осла и двух мулов тряпками, а на копыта надели маленькие мешочки, которые приглушали их стук, – все это, чтобы никоим образом не выдать своего присутствия. На всякий случай мы завели животных внутрь Подковы – так мы стали называть наш лагерь.
Несмотря на то что братья Палузи решили меня убить, эти негодяи начинали мне нравиться – они были предусмотрительны, действовали решительно и быстро: в мгновенье ока сумели построить надежный и хорошо защищенный лагерь.
После этого нам оставалось только ждать.
Ожидание, которое достается охотникам, прекрасно развивает терпение и способность подчиняться судьбе. Ловчий постепенно понимает, насколько незначительна его воля: он может взять на изготовку оружие, напрячь тело и дух, но все остальное не в его власти и зависит от поведения других живых существ. Прошло утро, миновал полдень, потом солнце стало клониться к закату, но ничего не происходило. Мое юношеское нетерпение проклинало всех богов: я потерял целый день, прячась за изгородью из веток и колючек и наблюдая за ямой, и не произошло решительно ничего: только пара воронов пиршествовали в свое удовольствие, выклевывая глаза несчастного Козленка.
Я устроился между братьями Палузи.
– Вы думаете, что пантера по-прежнему где-то недалеко от ямы, в которой ее видел Куал?
– Каждая пантера живет на своей собственной территории, – пояснил Адад, поглаживая бородку, но при этом не отводя глаз от Логовища Мантикоры. – Обычно они спускаются сюда с гор Атласа и, когда находят для себя удобное место, остаются.
– На самом деле черная пантера – это просто темный леопард, – добавил Бальтазар. – Это как у людей: одни смуглые, а у других светлая кожа. Но дело в том, что черные леопарды – это исключение, поэтому они так ценятся.
– Но за целый день мы не увидели никаких следов хищника, – настаивал я. – Разве это нормально?
– Да, – сказал Адад. – Леопарды и львы охотятся по ночам.
Я запыхтел, рассердившись, как фавн, у которого стащили флейту:
– А вы не могли сообщить мне это утром, а не сейчас? Тогда я бы, вероятно, провел время за чтением в паланкине. По крайней мере, мне бы не пришлось валяться здесь на земле, и от солнца я бы спрятался!
Провожая меня до паланкина, Сервус сказал:
– Доминус, ты мог бы, наверное, разрешить мне дойти до серебряного рудника. Куал говорил, что до него можно добраться меньше чем за день.
– А что ты там забыл, на этом чертовом руднике? Зачем тебе туда? – спросил я на ходу.
– Рабам нужны кое-какие вещи, а кроме того, я, вероятно, смогу раздобыть продукты, чтобы приготовить для тебя блюда получше.
– Меня эта идея вовсе не привлекает.
– Но, доминус…
– Я сказал – нет!
Я пребывал в отвратительном настроении и пригрозил ему двадцатью ударами хлыста, если он будет и дальше настаивать, а потом удалился в свой паланкин и задернул занавеси.
Мне не хотелось, чтобы Сервус отлучался так надолго, потому что внутри Подковы я мог, по крайней мере, следить за его движениями. Вспомни, Прозерпина, его слова, которые я услышал, когда валялся пьяный на вилле наместника Нурсия. Я позвал к себе Ситир и, уединившись с ней в моем паланкине, поведал ей все, что накопилось у меня на сердце:
– Ты пригрозила, что прикончишь меня, когда я непочтительно отозвался о Гее, Сервус желает смерти мне и всем патрициям вообще, а братья Палузи собираются заколоть меня и закопать где-нибудь в пустыне! Есть ли в Африке человек, который бы не хотел меня убить? – завопил я. – А мой единственный защитник – безоружная женщина, которая ходит в чем мать родила и носит только каменное кольцо на щиколотке! – Я посмотрел ей в глаза. – Мне даже неясно, зачем тебе хранить верность Туллию, но я хочу знать наверняка, есть ли у меня хоть какая-то защита от удара в спину. Скажи мне: ты тоже желаешь моей смерти?
– Если бы это было так, птенчик, – ответила она своим невозмутимым тоном ахии, одновременно суровым и нежным, – ты бы уже давным-давно перестал дышать.
На следующий день в рассветный час меня разбудили голоса, раздававшиеся снаружи, по другую сторону от занавесей паланкина. Сервус говорил не очень громко, но был совсем близко, и поэтому я расслышал весь его разговор с Ситир.
В голосе Сервуса звучало раздражение:
– Вот уже тысячу лет ахии путешествуют по миру, вслушиваясь в самые благородные чувства, рождающиеся в людских сердцах, и защищают слабых, чтобы справедливость восторжествовала. Кому, как не тебе, это знать? – Здесь он замолчал, однако Ситир ему не ответила. – Но то, чем вы занимаетесь, – это не справедливость, а насилие в качестве милостыни. А милостыня ничего не решает, и вот тому доказательство: прошла уже тысяча лет с тех пор, как Темные Камни выбрали первого ахию, а бедняки продолжают быть нищими и угнетенными, в то время как богачи разбогатели еще больше и еще сильнее угнетают простой люд. Никогда еще мир не был так несправедлив.
Я и раньше слышал, как Сервус обращался к Ситир, которая никак не реагировала на его слова, хотя и не прерывала его. Насколько я понял, Сервус считал, что ахии неправильно используют свои выдающиеся боевые способности (то, что они были выдающимися, еще предстояло доказать: за все время нашего африканского путешествия мне пока не представилась возможность увидеть Ситир в действии). Как бы то ни было, теоретические разногласия между монахами Геи и Сервусом, которые стоили ему исключения из ордена, сводились к следующему.
Ахии бродили по свету, вооруженные своими уникальными способностями, как физическими, так и духовными. Когда их тончайше настроенные чувства воспринимали волнение и благородный гнев, они бросались на защиту людей, испытывавших эти эмоции. Например, если разбойники нападали на дом крестьянина и его ужас доходил до ахии, тот являлся и убивал преступников. Но при этом священники Геи думали, что их верования не должны влиять на дела мирские или, по крайней мере, что служителям богини не полагается выступать на политическом поприще. В чем же проблема? А вот в чем: если ту же самую семью крестьян, чью жизнь и имущество ранее защитил ахия, позднее выгонял с их участка какой-нибудь публикан за неуплату неоправданно высоких налогов, ахия и пальцем не шевелил. И если тот же самый крестьянин в отчаянии убивал сборщика налогов ударом топора, согласно нормам Геи, ахия мог лишь наблюдать, как беднягу распинают на кресте. Вот что имел в виду Сервус, обращаясь к Ситир с обвинениями:
– Разве чувство отчаяния в сердце человека, на которого нападают разбойники, отлично от того, что испытывает он, когда его обирает публикан?
Однако Ситир Тра хранила молчание. Разреши мне, Прозерпина, рассказать тебе об одном обстоятельстве, чтобы ты могла понять ее поведение: ни один ахия не последовал за войском Катилины и не согласился встать в его ряды, хотя тот, как стало известно впоследствии, обещал монахам Геи на веки вечные пост великого понтифика в Риме и превращение их верований в официальную религию Республики!
Еще в годы своего обучения в секретном монастыре Сервус заметил это противоречие. Ты же помнишь, Прозерпина, что он был человеком образованным, заведовал библиотекой монастыря и имел доступ ко всем источникам мысли нашего времени. Поскольку монастырь находился к западу от Дамаска, туда стекались все знания как Запада, так и Востока. Чтение развило в нем способность критически относиться ко всему, и его взгляды неизбежно вступили в противоречие с официальной линией религии Геи. По мнению Сервуса, ахии должны были бороться с несправедливостью во всех ее проявлениях, не делая никаких исключений, а потому и со злоупотреблениями, творимыми в рамках законов. Но нам известно, как ведут себя священники любой религии: никто из них не хочет ссориться с местными властями, и монахи Геи не были исключением. Если бы ахии начали убивать публиканов, в скором и даже в очень скором времени Республика объявила бы религию Геи враждебной народу и римскому Сенату. Поэтому монахи изгнали Сервуса за еретические взгляды и отступничество.
Я откинул занавес и вышел из паланкина. Сервус удивился моему появлению и понял, что я слушал его речи.
– Твои доводы в защиту бедных и обездоленных, Сервус, великолепны, – заметил я, – но ты забываешь об одном: о человеческой низости.
Видя, что он не понимает меня, я продолжил:
– В то же самое время, когда ты прилагал все усилия, чтобы стать ахией, ты постепенно изменял свое отношение к религии Геи. А теперь скажи мне: если бы в день испытания один из Темных Камней обхватил бы твою щиколотку и ты, соответственно, был бы посвящен в ахии, ты сейчас рассуждал бы так же? Не думаешь ли ты, что, если бы мечта твоей жизни исполнилась, ты бы никогда не стал защищать так яростно свои еретические мысли?
Мои слова оскорбили Сервуса, и он, покраснев от гнева, глядел на меня с ненавистью. Но ярость какого-то раба совсем ничего не значит для молодого патриция.
– Поскольку тебе не удалось стать ахией, ты ненавидишь монахов Геи, а поскольку ты раб, ты ненавидишь хозяев. Причина твоей ненависти заключается вовсе не в жажде справедливости, а только в твоей неудовлетворенности. Но, как человек образованный, ты прячешь свою досаду за благородными и высокими принципами.
Я посмотрел на Ситир. Что думала она об этих разговорах, догадаться было невозможно. Ахия сидела на камне, скрестив ноги и полузакрыв глаза, и раздумывала о чем-то, отрешившись от мира, а может быть, вслушивалась в чьи-то незримые чувства, парящие в воздухе пустыни, точно облака в небе.
Наш разговор прервало неожиданное оживление в лагере: охотники, находившиеся внутри Подковы, встревожились и начали быстро, но бесшумно передвигаться. Дозорный, стоявший у заграждения из веток и бревен прямо напротив Логовища Мантикоры, что-то заметил и предупреждал остальных: он махал руками и причмокивал губами. Братья Палузи направились туда, и я пошел за ними. Мы легли на землю, спрятавшись за оградой из колючих веток, чтобы наблюдать за ямой, которая была в сотне шагов от нас. И от того, что мы увидели, Прозерпина, у нас кровь застыла в жилах.
Там, вдалеке, шевелилось какое-то создание, пожиравшее нашу человеческую наживку. У чудища было четыре лапы. Оно было черным. А голова – серая. Оно грызло череп мертвеца, и даже издали мы слышали страшный треск ломающихся костей.
Следует признать, что описание Куала было достаточно точным. Вдоль хребта зверя виднелись маленькие черные чешуйки, а лысая голова имела овальную форму. С того места, где мы находились, ничего больше я разглядеть не мог. Только одно было совершенно ясно.
– Это не пантера, – сказал я братьям Палузи шепотом, чтобы это чудовище не услышало моего голоса.
Несмотря на расстояние, смутный ужас неминуемо овладел нами, потому что это существо, Прозерпина, не было ни мантикорой, ни пантерой. Кем бы ни было это создание, нашему миру оно не принадлежало. Словно в ответ на мои слова, чудовище с еще большей яростью вцепилось в череп Козленка. Хруст костей разносился по всей Подкове, а труп раба, сотрясаемый безжалостными челюстями, дергался, будто неожиданно ожил.
У меня пропала охота наблюдать за этой сценой дальше. Опечаленный Адад тоже опустил взгляд и задумался.
– Вы раньше видели что-нибудь подобное? – спросил я.
– Нет, – ответил он, не поднимая глаз. – Но кем бы ни было это существо, я предполагаю, что за него заплатят еще больше. Богатые римляне падки на всякие диковины.
– И что мы будем делать? – спросил Бальтазар.
Стало ясно, что командовал всем Адад, и он предложил свой план.
– Мы используем сети, – сказал он. – Я пошлю самого высокого и сильного из наших охотников, Узбааля, обойти Логовище Мантикоры и спрятаться с другой стороны. Потом он выскочит из своего убежища, размахивая руками и громко крича. Животное испугается или, по крайней мере, отпрянет от неожиданности и побежит в противоположном направлении, то есть в нашу сторону. Мы набросим на него пару больших сетей, и оно будет у нас в руках.
План выглядел очень простым. Пуниец Узбааль действительно был настоящий Колосс Родосский[42]. Чтобы подчеркнуть его внушительный рост, на голову ему надели кожаный шлем с перьями, который добавлял фигуре еще три пяди.
Гигант стал крадучись пробираться на назначенное место, прячась за холмиками и кустами, чтобы зверь его не заметил. Мы боялись, что хищник закончит свою трапезу раньше, чем Узбааль займет нужную позицию, но этого не случилось. Тем временем охотники развернули огромные сети с довольно мелкими ячейками. Достаточно было посмотреть, как эти люди с ними управлялись, чтобы понять, с какими опытными охотниками мы имеем дело: они разделились на две пары и, взяв сети и принимая все меры предосторожности, отправились на свои позиции: двое спрятались справа, а двое – слева от лагеря. По плану, когда зверь направится в нашу сторону, сети на него должны были упасть одновременно с двух сторон.
Мы недолго ждали условленного сигнала: вскоре из-за кустов по другую сторону от Логовища Мантикоры появился наконечник копья и стал двигаться вверх и вниз. Этот сигнал означал, что Узбааль уже готов действовать.
– Это он. Будьте начеку, – приказал Адад и, взяв свое копье, тоже поднял его, показывая, что мы поняли сигнал.
И тогда Узбааль с воем выбежал из своего убежища: на голове шлем, руки широко раскинуты, в одной копье, а в другой маленький круглый щит.
– Каким бы сильным и грозным ни был зверь, – объяснил нам Адад, – он всегда предпочтет бегство борьбе, потому что боится возможных ран, которые могут ему навредить. И поэтому животные вступают в борьбу, только когда у них не остается другого выхода. Этим они отличаются от людей, готовых защищать свою честь и достоинство.
– Ты говоришь это потому, что никогда не бывал в римском Сенате, – пошутил я.
Он засмеялся, но его доводы были верны – неожиданное появление Узбааля и его крики, безусловно, должны были напугать хищника. Следуя своему инстинкту, зверь бросится бежать в нашу сторону, и, как только он приблизится, охотники поймают его в сети. Так вот, дорогая Прозерпина, как оказалось, мы допустили самую элементарную ошибку, которую, однако, никто не мог предвидеть: это существо не было зверем.
Мы действительно видели некое четвероногое создание. Но в это время оно пожирало труп, лежавший на земле, и к тому же мы смотрели на него издалека. Заметив Узбааля и его шлем с перьями, хищник поднялся на ноги. Он встал на две ноги! Рост его приблизительно равнялся человеческому; может быть, конечности этого существа по отношению к туловищу были несколько длиннее, чем у людей, но других отличий я не заметил. То, что показалось нам чешуей, Прозерпина, оказалось черной кольчугой, надетой на пепельно-серое тело. Его лысый овальный череп гордо блестел под лучами африканского солнца. Мы с трудом сдержались, чтобы не закричать.
Но не нам, а Узбаалю пришлось столкнуться с чудовищем, которое не обратилось в бегство, а, поднявшись на ноги, набросилось на нашего гиганта!
Прежде чем бедняга успел сообразить, что происходит, чудовище, которое двигалось с проворством паука, вцепилось зубами в лицо несчастного и с яростью акулы рвануло его кожу. Мы поняли, что Узбааль погибнет, потому что никто не смог бы ни выдержать боль от подобного укуса, ни оправиться после такой раны.
И тут Адад совершил смелый поступок, делавший ему честь: он закричал, перепрыгнул через небольшое заграждение из бревен и колючих веток и бросился на выручку к Узбаалю. Бальтазар немедленно последовал его примеру, и остальные охотники побежали за ними.











