Читать онлайн Игра на выживание. Часть I. Серая книга
- Автор: Дарья Ловать
- Жанр: Современная русская литература, Книги о приключениях, Мистика
Размер шрифта: 15
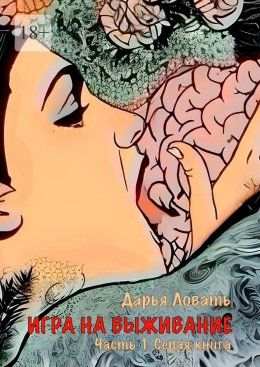
Чтение книги временно недоступно
Продолжить чтение
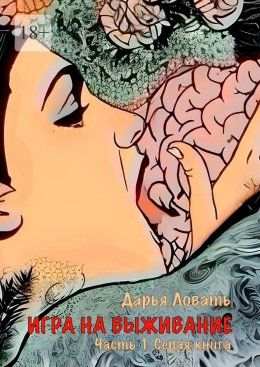
Чтение книги временно недоступно