Читать онлайн Ну а теперь – убийство!
- Автор: Джон Карр
- Жанр: Зарубежные детективы, Классические детективы
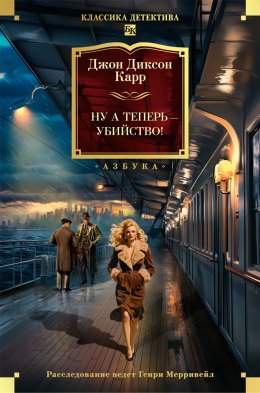
John Dickson Carr
AND SO TO MURDER
Copyright © The Estate of Clarice M. Carr, 1940
Published by arrangement with David Higham Associates Limited and The Van Lear Agency LLC
All rights reserved
© В. С. Грушевский, перевод, 2025
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025
Издательство Азбука®"
Глава первая
Неблагоразумный поступок дочери священника
Помимо собственной воли она пребывала в возбуждении. Перед тем как оказаться здесь, она была полна решимости не позволять своим чувствам прорваться наружу: вести себя с достоинством, легко и непринужденно, не выказывая впечатления, которое на нее произведут съемочные павильоны «Альбион филмз». Однако теперь, очутившись непосредственно в кабинете мистера Томаса Хэкетта, которому предстояло продюсировать «Желание», Моника обнаружила, что сердце у нее готово выскочить из груди, а слова застревают в горле.
Это ее раздосадовало.
Не то чтобы вид этого продюсера вселял в нее тревогу – как раз наоборот. После всего, что Моника слышала и читала, она ожидала, что киностудия предстанет перед ней неким бедламом, полным толстяков с сигарами в зубах, выкрикивающих в телефонную трубку сумасбродные приказы. Вообще-то, она была далека и от той мысли, что мистер Хэкетт окажется какой-нибудь эксцентричной личностью, по которой плачет сумасшедший дом. И все же человек, сидевший за письменным столом напротив нее, вызывал у Моники некоторое удивление и даже растерянность.
Вся обстановка – прилегающая территория, постройки, конторы – поразила ее царившей здесь тишиной. Студия «Пайнхэм», расположенная в каких-то сорока пяти минутах на поезде от Лондона, раскинулась на необъятной площади, покрытой зелеными насаждениями и скрывающейся за высоким забором из проволочной сетки, обращенным к дороге. Основные строения, продолговатые и низкие, как галереи, из ослепительно-белого бетона с солнцезащитными навесами оранжевого цвета вытянулись на фоне серых силуэтов киносъемочных павильонов внушительных размеров. Один их вид вызывал у Моники восхищение. Однако они казались совершенно пустынными, будто дремали под яркими лучами августовского солнца. Они выглядели даже немного зловеще.
Понятно, что к главному зданию Монику не пропустили. Когда водитель машины, которую она взяла на станции, подрулил к воротам студии, сторож выразился на этот счет предельно ясно.
– Мистер Хэкетт! – громко, но слегка заикаясь, оповестила Моника с заднего сиденья.
– Кто это?
– Мистер Хэкетт!
– Мистер Том Хэкетт? – ехидно уточнил привратник, хотя, вообще-то, на студии «Пайнхэм» других Хэкеттов не было.
– Верно. Меня зовут Моника Стэнтон. У меня с ним назначена встреча.
Привратник сжалился над ней.
– Старое здание, – проинструктировал он шофера, который, судя по всему, прекрасно его понял.
Стояла невыносимая жара. Зеленые газоны, покрытая гравием подъездная дорога, припаркованные на ней машины – все переливалось и бликовало в лучах солнца. Они проехали по гравийной дороге мимо основных построек и спустились по холму под сводами густых крон деревьев, в конце концов оказавшись возле на удивление небольшого строения из красного кирпича, которое напоминало изящный особняк с куполом. Фасад здания был увит плющом, а в миниатюрной долине под его окнами журчала, поблескивая на солнце, мелкая речушка, в которой плавали утки. Просто идиллия, едва ли не пастораль, от которой клонило в сон. И вот на верхний этаж этого особняка, в залитый солнцем кабинет, окна которого выходили на ручеек, и провели Монику для встречи с мистером Томасом Хэкеттом.
Мистер Хэкетт был спокоен, краток и исполнен уверенности – как главный герой «Желания».
– Рады вас приветствовать, мисс Стэнтон, – сказал он. – Очень рады. Присаживайтесь.
Он кивком указал ей на стул. Коротким виртуозным движением Хэкетт извлек пачку сигар из своего стола и подтолкнул ее к Монике. Потом, уловив неуместность подобного жеста, он вернул пачку в стол и захлопнул выдвижной ящик, не меняя деловитого выражения лица.
– Но сигаретку-то выкурите? Отлично! Сам я к табаку не притрагиваюсь, – объяснил он тоном благонравного аскета. – Мисс Оулси! Сигареты, пожалуйста.
Плюхнувшись на стул, он с интересом оглядел свою визави. Мистер Хэкетт – личность неординарная – работал на таинственного персонажа по фамилии Маршлейк, босса «Альбион филмз», который отстегивал деньги, но которого никто и никогда не видел, исключая те случаи, когда он проскальзывал мимо вас, скрываясь за очередным углом. Мистер Хэкетт являлся воплощением практичности: тридцати пяти лет, он обладал зорким взглядом, был приземист, плотно сложен и смугл. Его широкое лицо украшали усы щеточкой и сияющая белозубая улыбка, которая, однако, не могла утаить его требовательность и нетерпимость к разгильдяйству.
– Безусловно, – заговорила Моника, стараясь, чтобы ее слова звучали искренне, – я ужасно рада оказаться здесь, получить такую возможность…
Снисходительная улыбка мистера Хэкетта засвидетельствовала справедливость этого высказывания.
– …И все же я никого не хочу вводить в заблуждение. Мой агент, полагаю, сообщил вам, что опыта написания киносценариев у меня нет?
На лице мистера Хэкетта отразилось удивление.
– Нет опыта? – прищурившись, вопросил он.
– Никакого.
– Вы уверены в этом? – продолжал мистер Хэкетт с долей лукавства, словно намекая, что уж его-то на мякине не проведешь.
– Конечно уверена.
– Ох, вот это мне было невдомек, – проговорил он себе под нос ровным, но таким мрачным тоном, что у Моники сердце в пятки ушло.
Мистер Хэкетт задумался. Потом он вскочил со стула и стал мерить кабинет короткими, отрывистыми шагами. Казалось, он погружен в размышления.
– Это плохо. Очень плохо. Не совсем хорошо – просто мысли вслух, знаете ли, – пояснил он, бросив на Монику резкий взгляд, а потом снова ушел в себя. – С другой стороны, от вас не требуется постановочный сценарий. Ховард Фиск, который будет снимать «Желание», никогда не пользуется постановочными сценариями. Уж поверьте мне. Никогда!
Моника чуть было не выпалила, что Ховард Фиск делает все правильно. Но поскольку она понятия не имела, что такое постановочный сценарий, то скромно промолчала.
– А диалоги писать вы умеете? – спросил мистер Хэкетт, резко остановившись.
– О да! Однажды я даже пьесу написала.
– Это не то, – отрезал мистер Хэкетт.
– Не то?
– Совсем не то, – подтвердил мистер Хэкетт, многозначительно качая головой. – Но главное – прислушайтесь к моим словам – то, что вы умеете писать диалоги. Качественные, яркие, живые диалоги?
– Я не знаю. Я постараюсь.
– Тогда мы вас берем, – тоном благодетеля заявил мистер Хэкетт. – Диалоги не слишком длинные, имейте в виду, – предупредил он. – Скорее образные. Краткость – сестра таланта. И вообще, – всплеснул он руками в подтверждение своих слов, – диалогов почти не должно быть. Но вы научитесь. (Мысли вслух опять же) Мисс Стэнтон, я принимаю решения и на попятную не иду. Мы вас берем.
Поскольку Монику уже и раньше «брали» – после ожесточенных сражений ее литературного агента, – это решение могло показаться поспешным. Но таковым оно не являлось. В мире кино все в руках Аллаха.
Со своей стороны, Моника пребывала в такой эйфории, что чуть ли не заикалась. Это счастье было сродни исступленности, которая заставляла кровь в венах бежать быстрее, а сама она чувствовала себя так, будто была слегка подшофе. Ей так и хотелось подняться со стула и, глядя в зеркало, сказать: «Я, Моника Стэнтон, из прихода Святого Иуды, Ист-Ройстед, графство Хартфордшир, сижу, как это ни странно, в „Альбион филмз“ у продюсера „Темного солнца“ и „Развода моей леди“. Я, Моника Стэнтон, которая так часто сидела в кинозале, глядя на то, как финальные титры возводят в сонм звезд имена других людей, теперь увижу в этих самых титрах и мое собственное имя, и то, как на экране оживут мои собственные герои. Я, Моника Стэнтон, стану частью этого огромного сверкающего мира…»
И вот он, этот мир.
А вот мистер Хэкетт, по причинам, о которых будет рассказано ниже, был человеком, переживающим самое сильное волнение на всей студии «Пайнхэм». Но, несмотря на это, он пребывал в изумлении от встречи с самой Моникой Стэнтон во плоти: ведь он даже сподобился прочесть «Желание» и в душе удивлялся, как бóльшая часть сего труда прошла цензуру.
Не то чтобы он ожидал, что Моника окажется сластолюбивой и пресыщенной Евой Д’Обрэй, героиней «Желания». Как раз наоборот. По опыту мистер Хэкетт знал, что леди, которые пишут наполненные страстью истории о любви, – это обычно либо деловые женщины с жестким характером, либо ехидные старые девы, внушающие трепет всем мужчинам в округе. Он ожидал увидеть перед собой какую-нибудь горгону, но совсем не ожидал, что перед ним окажется полная устремлений, эрудированная, хотя и скромная на вид, девушка с умным, пускай и невинным взглядом. Не будучи писаной красавицей, Моника являлась все же одной из тех милых, дородных, свеженьких девиц, от которых так и веет целомудрием.
В глубине души мистер Хэкетт был даже несколько шокирован. Ему казалось, что такая, как Моника, и знать не знает о подобных вещах. И как это ее мать позволила ей написать подобный опус?
Вообще-то, матери у Моники уже не было. Но у нее была тетка. И тетка задавалась тем же вопросом.
Ныне уже всем известна история бестселлера Моники Стэнтон, двадцати двух лет, единственной дочери преподобного каноника Стэнтона, сельского священника. Всем известно и то, что Монике редко когда дозволялось покидать границы Ист-Ройстеда, графство Хартфордшир. Но что известно не всем, так это то, какой переполох произведение Моники вызвало в ее собственном доме.
Первый получивший рукопись издатель отозвался о ней в следующем ключе:
– Шампанское ведрами. Бриллианты горстями. Никто ни на чем не ездит, если это не «роллс-ройс». А любовные похождения – Моисей в страданиях! Этот капитан Ройс – главный герой – сущий дьявол. Я, однако, полагаю, что автору не следовало бы отправлять его на охоту на тигров в Африку. Но…
– Что «но»? – поинтересовался его компаньон.
– Во-первых, эта девица недурно пишет. И скоро она это поймет. Во-вторых, зачем нам, чтобы она это понимала? Эта книга – бомба. Сон наяву для любого. Библиотеки за нее глотку перегрызут, не будь я тем, кто открывает таланты!
И он оказался прав.
Моника писала книгу со страстью, перенося на бумагу все, что когда-либо будоражило ее фантазию. Не то чтобы она не любила Ист-Ройстед или миллион маленьких обязанностей дочери духовного лица. Однако временами ей становилось от них настолько тоскливо, что слезы буквально катились у нее из глаз. Иногда, размышляя о своем существовании, она беспомощно потрясала кулачками в воздухе и ревела:
– Брр!
Не делало жизнь Моники слаще и присутствие ее тетки, Флосси Стэнтон, одной из тех жизнерадостных «чувствительных» дам, что наводят на крамольные мысли похлеще любого тирана. Поэтому в свете настольной лампы Моника давала волю своему воображению. В своей героине Еве Д’Обрэй она воплотила grande amoureuse[1], чье мастерство по достоинству оценила бы даже такая троица, как Клеопатра, Елена Прекрасная и Лукреция Борджиа.
Моника – что важно упомянуть – старалась все сохранить в тайне: книга в конечном счете вышла под псевдонимом. В доме никто бы даже не догадался, что она корпит над литературным трудом, если бы тетка, имевшая привычку рыться в вещах Моники примерно раз в две недели, не обнаружила в выдвижном ящике ее туалетного столика объемистую рукопись.
Но и тогда семья не потеряла покоя, поскольку никто не взял на себя труда разобраться, что же она там такое сочиняет. Моника, испытывая одновременно жгучий стыд и неподдельную гордость, объявила, что она пишет книгу. Заявление это эффекта не произвело. С не поддающейся расшифровке улыбкой тетка промолвила:
– Вот оно что, дорогуша? – И тут же поменяла тему разговора, несколько вымученным тоном поинтересовавшись, выкроила ли Моника в своем плотном писательском графике немного времени, чтобы заказать ежедневную порцию овощей у зеленщика.
Первым ударом грома явилось письмо о принятии романа к публикации и самый настоящий платежный чек от издательства. В комнате для завтраков в приходе Святого Иуды повисла гробовая тишина. Рука славного викария Стэнтона, державшая кофейник, застыла в воздухе и так бы и не опустилась, если бы прислуга, не в силах более наблюдать сию сцену, не забрала кофейник у хозяина дома. Мисс Флосси Стэнтон испытала самые разнообразные эмоции, но платежный чек убедил ее.
Вслед за этим мисс Стэнтон водрузила на голову шляпку и пошла хвастаться по соседям.
В этом-то и заключался грех мисс Флосси: без всякой задней мысли она болтала языком напропалую, буквально загружая людей информацией. Ей даже не пришло в голову полюбопытствовать, о чем, собственно, книга. То, что она окрестила «Моникиной книжицей» и «такой занимательной вещицей», изначально носило название «Ева Д’Обрэй», которое у мисс Стэнтон непонятно почему ассоциировалось с миссис Гаскелл[2] и казалось ей довольно милым. Даже когда полгода спустя книга вышла из печати, она так и не удосужилась ее прочесть.
А вот общество Ист-Ройстеда, собиравшееся за чаем, книгу прочло. Оно пребывало в ожидании. И как-то в июле, в черную пятницу, приглашенная на чай супругой полковника Грэнби мисс Стэнтон высказалась на тему того, что, по слухам, сюжет книги просто замечателен и ее, мол, гложет любопытство, о чем же именно там идет речь. И вот тогда-то «чайное» общество – дрожа от потаенной радости – в едином порыве ее любопытство удовлетворило.
И тут началось настоящее светопреставление.
Вернувшись в приход, мисс Стэнтон ворвалась в кабинет своего брата, подобно торнадо, на последнем издыхании и обрушилась на диван. Каноник Стэнтон безропотно отложил ручку.
– Джеймс, – заговорила мисс Стэнтон голосом агента политической полиции, допрашивающего гангстера в свете мощных ламп, – ты читал эту книгу?
Родственники творца обладают до боли прозаическим умом.
Таким образом Моника Стэнтон обрела репутацию распутной женщины.
Это не означает, что ее репутация стала сродни репутации Евы Д’Обрэй в ее произведении. В конце концов, обитатели Ист-Ройстеда знали ее всю жизнь и прекрасно понимали, что поле ее деятельности – начать хотя бы с него – ограниченнее, чем у Евы Д’Обрэй. Уличить Монику в том, что она продала свою честь за бриллиантовое ожерелье стоимостью двадцать тысяч фунтов, нельзя было просто потому, что в Ист-Ройстеде ни у кого не было бриллиантового ожерелья стоимостью двадцать тысяч фунтов. Нельзя было уличить ее и в том, что она совершала средиземноморские круизы с итальянским графом, поскольку всем было известно, что Стэнтоны проводили отпуск в Борнмуте[3].
Ист-Ройстед считал, что должен оставаться справедливым в суждениях.
Но на этом все и заканчивалось: даже те, кто допускал, что большей частью произведение Моники – это плод воображения, все же демонстрировали трогательную веру в искренность литераторов и приводили аргументы насчет того, что никто бы не смог написать целую книгу, не имея хотя бы элементарного понятия о ее основной теме.
Более того, Моника была известна как «тихоня», что делало все еще более запутанным.
В первые несколько недель в доме викария царил хаос. Отчаянный плач мисс Стэнтон состоял из трех песен: а) как им пережить позор; б) как ее племянница могла написать нечто подобное и в) как ее племянница прознала о таких вещах, чтобы о них написать.
Последняя песнь представлялась наиболее важной. Мисс Стэнтон размышляла об этом до посинения.
Не то чтобы она выясняла с Моникой отношения: она требовала подробностей, но потом, заливаясь краской, поднимала руку и отказывалась их слушать. Когда Моника в полнейшем отчаянии умоляла тетку объяснить, что именно та имеет в виду, мисс Стэнтон отвечала, четко и угрожающе скандируя слова: «Ты знаешь», – и вылетала из комнаты, чтобы выяснять отношения с братом, а не с племянницей.
Мисс Стэнтон желала знать, кто тот мужчина. Она собирала слухи о живших в округе молодых людях. В итоге она чуть не свела с ума каноника – и именно в последнем Моника, сама того не ожидая, нашла союзника.
Мисс Стэнтон в смятении смотрела на брата.
– Джеймс, я не могу тебя понять. Христа ради, неужели ты действительно смиришься с этими непотребствами?
– С какими непотребствами? – сказал каноник.
– Ну, с этой ужасной книгой, естественно.
– Книгу, дорогая, вряд ли можно определить как непотребства.
– Джеймс, ты способен вывести из себя кого угодно! Тебе прекрасно известно, о чем я. Эта отвратительная книга…
– Она слегка наивна, должен признать. И не совсем благоразумна. Однако, честно говоря, она довольно увлекательна…
– Джеймс, ты меня возмущаешь!
– Дорогая Флосси, – сказал каноник несколько жестко, – не заставляй меня опускаться до грубости и просить тебя оставить меня в покое! По-моему, ты путаешь художественную литературу с автобиографией. Недавно мы с тобой познакомились с мистером Уильямом Картрайтом, который пишет детективы. Насколько я помню, он произвел на тебя вполне положительное впечатление. Ты ведь не станешь на полном серьезе утверждать, что мистер Картрайт в качестве хобби режет людям глотки?
Мисс Стэнтон ухватилась за соломинку – было похоже, что каноник коснулся темы, которая и являлась источником ее печалей.
– Если бы… – взвыла она, – если бы Моника написала достойный детективный роман!
Последнее замечание заслуживает включения в список исторических реплик, ведущих к семейным передрягам.
Любой, у кого есть мало-мальский опыт семейной жизни, засвидетельствует, что, когда хозяйка дома обретет ремарку или реплику, которая покажется ей удачной, она никогда от нее не отлипнет. Она примерзнет к ней намертво. Членам семьи придется выслушивать ее с десяток раз в день. Постепенно эта фраза проникнет в их нутро: она станет их хронической болезнью, и они будут собирать волю в кулак каждый раз при виде того, как хозяйка дома открывает рот.
Начнем с того, что Моника Стэнтон не имела никаких предубеждений в отношении такого развлекательного жанра, как детективный роман. Ей было от него ни жарко ни холодно. Сама она прочла парочку подобных произведений, и они показались ей несколько притянутыми за уши и глуповатыми, хоть и, безусловно, приемлемыми для поклонников данной литературы.
Однако к тому моменту, когда ее тетка наконец выбилась из сил, Моника пребывала в таком взвинченном состоянии, что прокляла тот день, когда родился сэр Артур Конан Дойль. Она испытывала неописуемую, нерациональную ярость. Что касается мистера Уильяма Картрайта – чье имя мисс Флосси Стэнтон с изуверской непосредственностью умудрялась вклинивать в беседу на любую тему – от пудинга из тапиоки до Адольфа Гитлера, – у Моники появилось желание отравить мистера Картрайта кураре и станцевать на его могиле.
Пребывая в смятении от всей этой суматохи вокруг «Желания», Моника все же сохраняла внешнюю непреклонность, хотя в душе она трепетала от страха. Сомнения одолевали ее задолго до того, как разразилась буря. Первое угрызение совести она испытала, когда изначальная волна литературного вдохновения схлынула и Моника осознала, чтó она написала. Второе угрызение совести пришлось на тот момент, когда она ознакомилась с корректурой и ее покорежило. В дальнейшем угрызения совести преследовали ее постоянно.
Однако она была не столько обеспокоена, сколько озадачена и разгневана.
– Это несправедливо, – говорила она своему отражению в зеркале. – Это нечестно. Это неразумно.
Ей всегда хотелось писать, и теперь она доказала, что умеет писать. И что же случилось? Что произошло? Она сотворила восхитительную вещь, за которую ожидала получить хоть словечко похвалы, а вместо этого с ней обходились как с осужденной преступницей. Она вновь испытала ту нерациональную детскую растерянность, когда ты делаешь что-то из лучших побуждений, а в ответ получаешь лишь гнев со стороны взрослых.
– А я говорила ее отцу, – произносила мисс Стэнтон тоном оскорбленной добродетели, – если бы Моника написала достойный детектив!
В конце-то концов, из-за чего весь этот переполох? Вот что Моника искренне желала понять. Перечитывая «Желание», напечатанное на холодных на ощупь и даже наводящих страх страницах, она сознавала, что отдельные отрывки могут показаться чересчур откровенными. И что с того? Что в них такого шокирующего? Все это в порядке вещей – естественно и присуще людям, разве нет?
– А я говорила ее отцу, – доверительно вещала мисс Стэнтон, склоняя голову к уху собеседника, – если бы только Моника написала достойный детектив!
О боже!
И хуже того, книга стала бестселлером. По наводке соседей взять интервью у Моники пришел корреспондент из газеты. Ее сфотографировали в приходском саду и напечатали ее настоящее имя. Репортер также задал ей несколько вопросов по поводу «права женщины любить». Смущенная Моника дала ответы, которые в печатном виде выглядели хуже, чем прозвучали на самом деле. Канонику Стэнтону пришлось написать об этом своему епископу; мисс Стэнтон обзавелась духовными доводами на три недели вперед; и очередные журналисты кинулись за лакомым куском.
– Вы не поверите, – делился корреспондент «Планеты», которому и самому было не чуждо литературное баловство, – лицо как у ангела, написанного Бёрн-Джонсом[4], а сердце явно как у Мессалины[5].
– С дамочкой я не знаком, – пылко вторил журналист из «Ньюс рекорд», – но, похоже, горячая штучка. Вы не пробовали назначить ей свидание?
– Конечно… – заметила мисс Флосси Стэнтон, и впервые нотка благодушия вкралась в ее голос, – конечно, книжка приносит деньги. И немало, полагаю. Но, как я и говорила брату: что это? Что же это такое? Как бы то ни было, думаю, мистер Картрайт заработал приличные барыши. А я ведь говорила брату: если бы только Моника написала достойный детектив…
Для Моники это стало последней каплей.
К середине августа, еще до того, как появился хоть какой-то намек на события, которые к концу месяца сотрясут Европу, Моника собрала чемодан и укатила в Лондон.
Теперь, сидя в кабинете мистера Хэкетта, Моника сгорала от нетерпения приступить к работе. И сотворит она нечто достойное, поклялась она самой себе. Она сделает сценарий «Желания» киношедевром. Ведь не зря же с ней так любезно, вежливо и даже почтительно общается тот самый человек, которого называют молодым Наполеоном британской киноиндустрии. Из чистой благодарности она с полным пониманием восприняла сдержанную практичность мистера Хэкетта, его рассудительность и сметку.
– Значит, договорились, – сказал мистер Хэкетт, склоняясь всем корпусом над столешницей, чтобы пожать Монике руку. – И теперь, когда вы в команде, мисс Стэнтон, что вы об этом думаете?
– Я думаю, что это прекрасно, – искренне ответила Моника. – Но…
– Но?
– Ну, я имею в виду, как мне работать? Мне остаться в городе, написать сценарий и отправить его вам? Или я буду работать прямо здесь?
– О, вы будете работать здесь, – сказал мистер Хэкетт, и Монику накрыла волна эйфории. Ее только этот момент и тревожил – один лишь вид студии «Пайнхэм» заразил ее кровь кинобактерией. – Если вы будете в городе, толку не выйдет, – сухо продолжал продюсер. – Вы должны находиться под моим наблюдением. К тому же у меня есть человек, который обучит вас азам мастерства в мгновение ока. Вы будете работать в кабинете по соседству с ним. – Он сделал себе какую-то отметку. – Но речь идет о работе, имейте в виду! Серьезной и кропотливой работе. И при этом срочной, мисс Стэнтон. Я на этом настаиваю. Я хочу приступить к производству картины, – его рука повисла над столом, а затем опустилась на него с решительным, не оставляющим сомнений в деловитости мистера Хэкетта хлопком, – как можно скорее. Через четыре недели в идеале. Или даже через три. Что скажете?
Моника к стратегиям в мире кино еще не привыкла. Она поняла слова мистера Хэкетта буквально и заколебалась:
– Три недели! Но…
Мистер Хэкетт призадумался, а потом не совсем охотно смилостивился над ней:
– Ну, может, чуть подольше. Но ненамного, имейте в виду! Так мы работаем, мисс Стэнтон. Я хочу запустить производство следом за «Шпионами в открытом море», нашим нынешним фильмом об антигитлеровском шпионаже.
– Я понимаю, мистер Хэкетт, но…
– «Шпионы в открытом море» к тому времени как раз будут готовы. Я надеюсь. – Его лицо тронуло мрачное выражение. Однако мгновение спустя он взбодрился. – Скажем, четыре-пять недель, – процедил он настойчиво, – и этого времени хватит с лихвой. Вот так. Значит, договорились. – Он сделал себе очередную пометку. – Что скажете?
Моника улыбнулась:
– Я постараюсь, мистер Хэкетт. Так или иначе! Вне зависимости от того, смогу ли я обучиться всему, чему должна обучиться… И все же подготовить для вас достойный сценарий «Желания», и всего за четыре недели…
Мистер Хэкетт обратил на нее непонимающий взгляд.
– «Желания»? – повторил он.
– Да, конечно.
– Но, моя милая юная леди, – произнес мистер Хэкетт мягко и по-отечески, – вы будете работать не над сценарием «Желания».
Моника растерянно уставилась на него.
– Ох нет, нет и нет! – продолжил мистер Хэкетт, словно удивляясь тому, как в голову Моники могла взбрести подобная мысль. В его голосе звучала чуть ли не укоризна. Он улыбнулся, блеснув зубами, и покачал головой. Вся мощь и лучезарность его личности, которая заставляла жить своей жизнью даже его усы щеточкой, казалось, сосредоточилась на том, чтобы избавить сознание Моники от иллюзий.
– Но я думала… Я так поняла…
– Нет, нет, нет, нет, нет, – решительно произнес мистер Хэкетт. – Над «Желанием» будет работать мистер Уильям Картрайт, он и научит вас тому, что вам следует знать об этом бизнесе. Вам, мисс Стэнтон, надлежит подготовить для нас сценарий по новому детективу мистера Картрайта «Ну а теперь – убийство!».
Глава вторая
Беспардонное красноречие человека с бородой
Если теория мистера Данна верна, в подсознании человека могут происходить самые удивительные вещи. Моника, которая была настолько поражена, что у нее на мгновение перехватило дыхание, все же почувствовала, что может утверждать, будто оказалась тут не впервые. Вся обстановка – кабинет с выбеленными стенами, ситцевые шторы на окнах и сияющее за ними солнце, движения губ и отдающийся эхом голос мистера Хэкетта – все это было ей хорошо знакомо, будто когда-то она уже бывала участницей такой же сцены и должна была бы знать, что ее ждет.
Настоящая причина заключалась в том, что в глубине души она опасалась, что это не продлится долго. Внутренний голос убеждал Монику, что злодейка-судьба только и ждет, чтобы вмешаться и вновь разбить ее мечты, сыграв очередную жестокую шутку.
А когда так случится, эта жестокая шутка, несомненно, будет связана с именем Картрайта. Это неизбежно. Картрайт просто преследует ее и гасит свет в ее вселенной. Какие бы блестящие перспективы ни возникали на пути Моники, откуда ни возьмись всплывала отвратительная физиономия этого Картрайта.
И все же она пыталась бороться с этим ощущением.
– Вы шутите, – как заклинание произнесла она, не позволяя потухнуть последнему угольку надежды. – Мистер Хэкетт, вы наверняка шутите!
– Я вовсе не шучу, – учтиво ответил тот.
– Мне предстоит работать над детективом, а не над собственной книгой?
– Именно так.
– А мистер Картрайт, – превозмогая отвращение, она все же выдавила из себя это имя, – будет работать над сценарием по моей книге – моей?
– Вы угадали, – просиял продюсер.
– Но почему?
– Простите?
Моника испытывала к Хэкетту такое благоговение, что в обычных обстоятельствах даже не посмела бы и пикнуть. Она бы страдала безмолвно, коря за все саму себя. Но это было уже слишком – слова неудержимо рвались из ее груди:
«Это самая большая нелепость, которую я когда-либо слышала!»
Хоть этих слов она и не сказала вслух, пронизавший их дух все же наверняка отозвался в тоне ее голоса.
– Я спросила – почему? – не отступала Моника. – Почему мы должны работать над книгами друг друга, вместо того чтобы работать над своими собственными?
– Вам таких вещей не понять, мисс Стэнтон.
– Я знаю, мистер Хэкетт, но…
– Мисс Стэнтон, вы продюсер с десятилетним стажем или все-таки я?
– Конечно вы, но…
– Ну вот и прекрасно, – перебил ее мистер Хэкетт более веселым тоном. – Вы не должны пытаться вот так прийти и изменить нас, мисс Стэнтон. Ха-ха-ха. У нас имеются свои приемы, понимаете. Уж поверьте мне на слово: кое-что об этом бизнесе нам известно – мы варимся в нем уже десяток лет. Ясно? А вы нау́читесь. Несомненно. Ведь обучать вас будет сам Билл Картрайт! Вы все схватите на лету.
Весь гигантский смысл этого предложения постепенно просачивался в сознание Моники. Она вскочила на ноги:
– Вы хотите сказать, что я должна буду остаться здесь и обучаться – обучаться – тому, как пишут сценарии, у этого противного… этого отвратного…
Ее собеседник с интересом взглянул на нее:
– Ах, так вы знакомы с Биллом Картрайтом?
– Нет, не знакома. Но мои родственники – да. И они говорят, – вскричала Моника, – что он самый отвратительный, презренный и нелепый тип, которого когда-либо носила земля!
– Ну что вы! Нет, нет и нет.
– Нет?
– Вы совершенно не правы, мисс Стэнтон, – заверил ее продюсер. – Я знаю Билла много лет. Красавцем его, видит Бог, не назвать. Но он не так уж и плох. – Мистер Хэкетт поразмыслил пару мгновений. – Я бы даже сказал, что выглядит он вполне презентабельно.
Моника словно дар речи потеряла.
У мистера Хэкетта возникло неясное чувство, что молодая леди чем-то раздосадована.
Дело в том, что в своем воображении Моника уже давно нарисовала портрет мистера Уильяма Картрайта и отказывалась видоизменять его хоть на йоту. Мистера Картрайта повсюду хвалили – по крайней мере, в книжных обзорах – за «безупречную цельность и тщательную проработку» его сюжетов. Это делало его еще более невыносимым. Моника чувствовала, что презирала бы его меньше, будь он хоть чуточку небрежнее. Она представляла его себе этаким занудой, сморщенным и чопорным, с очками на носу. И ненавидеть этот образ доставляло ей определенное удовольствие.
– Я не смогу, – резко сказала она. – Простите меня, ради бога. Я вам безмерно благодарна, но я не смогу.
– Ну конечно, – ответствовал продюсер с холодным безразличием. – Если вам угодно отказаться от контракта…
– Дело не в этом! – отчаянно перебила Моника. – Пожалуйста, поймите меня, мистер Хэкетт. Я не диктую вам своих условий. Я не сомневаюсь в вашей компетентности. – Она искренне верила в свои слова, всему виной был Картрайт. – Я бы сделала все, чего бы вы ни попросили, если бы только вы объяснили мне: почему? Почему я должна работать с детективным романом, о котором мне ничего не известно, вместо моей собственной книги, в которой я знаю каждую строчку? Не могли бы вы просто назвать мне причину?
На лице мистера Хэкетта отразилось радостное облегчение.
– Ах, причину? – Он сделал на последнем слове особое ударение. – И это все? Что же вы сразу так и не сказали? Причину?
– Да!
– Ну, моя милая юная леди, – объяснил ее визави сострадательным тоном, – нет ничего проще. Причина…
На его столе зазвонил телефон.
Мистер Хэкетт, всколыхнувшись, подобно динамо-машине, снял с аппарата трубку. Все остальное тут же улетучилось из его головы.
– Да… да, Курт? Да?.. Ну спросите у Ховарда!.. Нет-нет, ни на минуту. Новый автор только что приехала. – Его зубы блеснули в заговорщической улыбке, направленной поверх телефона в сторону Моники. – Да, очень приятная молодая леди… Да… Хорошо-хорошо, буду. – Подхватив карандаш, он сделал какую-то пометку. – Павильон три, через пять минут… Да… Хорошо… Пока. – Он положил трубку. – Итак, мисс Стэнтон! На чем мы остановились?
– Не хочу вас задерживать…
– Ничего страшного, – сказал мистер Хэкетт, взмахнув рукой, будто показывая, что это не так, но ему придется смириться. – Пять минут, целых пять минут! Никакой спешки! Так что вы собирались мне сообщить?
– Не я, мистер Хэкетт. Это вы хотели назвать причину, по которой мне надлежит работать с детективным романом вместо моей собственной книги.
– Ах да! Да. Моя дорогая мисс Стэнтон, нет ничего проще. Причина…
Дверь в кабинет мистера Хэкетта резко распахнулась, и перед ними предстал какой-то человек.
Он не вошел – он именно прошествовал. Снаружи потянуло сквозняком, насыщенным таким тихим, ледяным, сдержанным негодованием, что казалось, будто отворилась дверца холодильника. Ощущение стужи наполнило собой пространство кабинета, словно бросая вызов солнечному свету за окном. Стужей веяло от каждого его движения. Дверь он открыл толчком, однако все же придержал ее, чтобы она не стукнулась о стену: он ухватил створку трепетными пальцами и мягко притворил ее. Затем он пересек помещение кошачьей поступью, словно шел через минное поле. Это был высокий, моложавый мужчина с книгой под мышкой. Только когда он, оказавшись возле стола мистера Хэкетта, взглянул тому в глаза, мина все же сработала, не справившись с надрывом.
– Черт побери! – сказал он и швырнул книгу на столешницу так яростно, что с фарфоровой чернильницы в форме китайского мандарина слетела шляпа, выполнявшая функцию крышки.
Книга оказалась экземпляром того самого бестселлера «Желание».
Мистер Хэкетт вытянул руку, поднял шляпу мандарина и нахлобучил ее обратно ему на голову.
– Привет, Билл, – сказал он.
– Послушай, – продолжил вновь прибывший. – Это уж слишком. Я не смогу, Том. Богом клянусь, я не стану этим заниматься.
– Присаживайся, Билл.
Посетитель начал обходить стол мистера Хэкетта; наблюдавшему за этой сценой со стороны могло бы показаться, что тот намерен задушить последнего (и в какой-то момент, видимо, так оно и было бы. Голос мужчины, и без того вкрадчивый, стал еще вкрадчивее, хотя и звучал несколько сипло. Подобные нотки кроются в голосах людей, которые, осторожно опускаясь на колени, обращаются к мячу для игры в гольф.
– Послушай меня, – проговорил посетитель. – Я, в общем-то, не возражаю против того, чтобы писать сценарии по плохим книгам. Могу заметить, между прочим, что только по таким книгам всегда и просят подготавливать сценарии. И ладно! – Он взметнул вверх руку. – Но существуют границы, которые ни один служитель английского языка – будь он хоть в полубессознательном состоянии – никогда не перейдет. Я до такой границы дошел. Эта книженция не просто вздор, это самая что ни на есть полнейшая, несусветная и жуткая околесица, которую безграмотные маньяки, маскирующиеся под издателей, когда-либо подбрасывали ничего не подозревающим читателям. Одним словом, Том, это просто дрянь. Я достаточно ясно выразился?
Он вытянул руку и постучал дрожащими пальцами по «Желанию».
– Ай-ай-ай, – пожурил его мистер Хэкетт. – Позволь представить тебе мисс Стэнтон. Мистер Картрайт – мисс Стэнтон.
– Очень приятно. – Бросив взгляд через плечо на Монику, Картрайт снова обратился к мистеру Хэкетту: – Значит, так, Том. Эта книга…
– Очень приятно, – сказала Моника сладкоголосо – она была счастлива.
Прозвучит странно, но при первом взгляде на Уильяма Картрайта она увидела нечто, что чуть ли не разом окупило ее душевные терзания. Сквозь толщу презрения она почувствовала трепет порочной радости, словно уловила нотку некоего дьявольского камертона. На щеках у Моники выступил румянец. Она воспрянула духом, ощутив, как укрепляется в своей решимости, будучи убежденной, что врага ей поднесли на блюдечке с голубой каемочкой.
И правда, портрет, что она нарисовала в своем воображении, действительности не соответствовал. Уильям Картрайт не был ни сморщенным, ни чопорным, хотя и обладал отталкивающей привычкой вставать в позу и поучать. Кое-кто мог бы опрометчиво заметить, что он недурен собой: широкие плечи, притягательный взгляд, тонкие черты лица, коротко остриженные каштановые волосы. Опрометчивые люди (те, что были не способны за привлекательной внешностью разглядеть его ущербную душу) могли бы даже сказать, что у Картрайта кроткое лицо. Справедливости ради, ничего этого Моника не отрицала. Зато она увидела в нем нечто настолько ужасное, что все остальное было даже к лучшему. Это нечто выводило его за рамки человеческого существа и должно было навеки сделать его заложником ее осмеяния. От радости сего открытия Моника чуть ли не подпрыгивала на стуле.
Дело в том, что у Уильяма Картрайта была борода.
Опять же справедливости ради, нужно заметить, что борода его была не такой, как у У. Г. Грэйса[6]. Не была она и одной из тех всклокоченных бород, к которым все питают отвращение. Как раз наоборот – всякий представитель сильного пола сказал бы, что это довольно приличный образчик растительности на лице: аккуратная, подстриженная ножницами, как и усы, она делала своего обладателя похожим на капитана второго ранга.
Но многие женщины придерживаются иной точки зрения. Монике, которая на время потеряла способность различать цвета, борода виделась рыжей.
– Я уж промолчу, – продолжал ужасный мистер Картрайт, вызывающе выставляя подбородок со своей скверной бородой, – о грубых грамматических и еще более грубых синтаксических ошибках. Я промолчу о стиле изложения, от которого ко дну пошел бы линкор. Я промолчу о главном герое – самодовольном осле-капитане как-его-там. Я промолчу даже об извращенном уме свихнувшейся на порнографии женщины, которая это написала…
– Ох! – выдохнула Моника, невольно подскочив на стуле.
– Билл, – попытался урезонить его мистер Хэкетт, – не следует так выражаться в присутствии мисс Стэнтон. Где твои манеры?
– Я промолчу о… Что с тобой? К чему эти жесты? Ты решил сплясать хула-хулу?[7]
(«Это та девушка, что написала книгу!»)
– А? Кто?
(«Вот. Позади тебя».)
Повисла неловкая тишина. С секунду мистер Картрайт не поворачивался, предоставив Монике возможность со спины любоваться старомодным пиджаком свободного покроя и серыми фланелевыми брюками, которые выглядели так, будто их не утюжили с Рождества. Мистер Картрайт медленно ссутулился, так что плечи пиджака оказались почти на уровне его ушей.
– О боже! – с ужасом прошептал он.
Потом он осмелился взглянуть на Монику через плечо одним глазом и наконец повернулся к ней всем корпусом.
– Послушайте… – проблеял он. – Простите!
– Простить? О нет, – ответила Моника, побледнев от негодования, но стараясь, чтобы ее голос звучал легко, воздушно и жеманно. – Пожалуйста, не извиняйтесь. Все в полном порядке. Я совсем не обижаюсь.
– Не обижаетесь?
– Ну что вы, совсем нет, – сказала Моника с нервическим смешком. – Мне так нравится слышать о себе беспристрастные мнения посторонних.
– Поверьте, мне искренне жаль! Надеюсь, вы не восприняли ничего из сказанного мной превратно?
– Ах, боже мой, ну конечно нет! – от души рассмеялась Моника. – «Одним словом, Том, это просто дрянь». Вряд ли в этой фразе можно что-либо воспринять превратно, верно? Судя по всему, превратна моя грамматика.
– Повторяю, мне очень жаль! Откуда мне было знать, что это вы здесь сидите? Я не мог этого знать! Если б я знал…
Моника ехидно улыбнулась:
– …То вы бы так не сказали?
– Ей-богу, нет!
– Боже, боже, боже! – воскликнула Моника. – Знаете, мистер Картрайт, мне так всегда и представлялось, что вы любитель лицемерить. Рада слышать, что вы это признаёте.
Картрайт сделал шаг назад. Его рыжая борода приобрела смятенный вид. Не особо вдумчивый наблюдатель, который не мог разглядеть его гнусного нутра, как его видела Моника, счел бы, что он искренне раскаивается.
Он вытянулся в полный рост и предпринял новую попытку.
– Мадам… – проговорил он голосом, в который начали возвращаться прежние обаятельно-вкрадчивые нотки, – мадам, если вдруг это ускользнуло от вашего внимания, я пытался извиниться. Я повел себя бестактно. Я повел себя грубо. Я готов умереть, лишь бы вы меня простили.
– Для вас, мистер Картрайт, это, несомненно, самый мучительный способ самоубийства?
– Ну будет, будет, не ссорьтесь, – строго вмешался мистер Хэкетт. Он поднялся из-за стола, стряхивая несуществующие пылинки с лацканов пиджака. – К сожалению, мне придется вас покинуть. Мне нужно бежать. Но я рад, что вы познакомились. Хотелось бы, чтобы вы сработались.
Картрайт словно окостенел и, медленно повернувшись, взглянул на продюсера.
– Тебе хотелось бы. – повторил он.
– Да. Кстати, мисс Стэнтон сделает сценарий по твоему детективу. Я ведь тебе уже говорил?
– Нет, – сказал Картрайт каким-то замедленным и странным тоном. – Нет, не говорил.
– Ну, теперь ты в курсе. И еще! Я хочу, чтобы ты, – улыбнулся он, – стал кем-то вроде проводника, советчика и исповедника для мисс Стэнтон. У нее совсем нет опыта в написании сценариев.
– У нее совсем нет опыта, – пробормотал Картрайт, – в написании сценариев?
– Верно. Поэтому я и хочу, чтобы ты ее научил. Помоги ей – объясни, что к чему. Я хочу, чтобы вы оба находились здесь, в Старом здании, у меня на виду. Я предоставлю ей бывший кабинет Лэса Уотсона – тот, что рядом с твоим. Мы сделаем там уборку и поставим новую пишущую машинку, так что кабинет будет в идеальном состоянии. А ты сможешь показать ей, как все делается, обучить азам мастерства – ну, ты понимаешь! – пока сам будешь работать над сценарием «Желания».
Картрайт мелкими перебежками двигался из одного угла помещения в другой.
– Раз, два, три, четыре, – считал он, прикрыв глаза, – пять, шесть, семь, восемь… Нет!
Одним прыжком он преградил мистеру Хэкетту путь, когда продюсер направился к двери. Оказавшись перед ней раньше, Картрайт потянул створку на себя, повернул ключ в замке и прислонился к двери спиной.
– Я пришел, – проговорил он, – чтобы высказать тебе все начистоту. И ты не покинешь кабинет, пока я этого не сделаю.
Мистер Хэкетт пристально глядел на него.
– Да что с тобой, черт возьми? Ты спятил? Открой дверь!
– Нет. Сначала ты услышишь всю горькую правду. Том, не мое дело, как ты тратишь свои деньги. Но, как старый друг, я хочу вразумить тебя, прежде чем ты совсем сбрендишь и пойдешь по миру. Тебе известно, чем ты занимался в последние три недели?
– Да.
– Сомневаюсь. Смотри! Три недели назад ты приступил к производству «Шпионов в открытом море». Ты утвердил Фрэнсис Флёр и Дика Коньерса на главные роли. У тебя был первоклассный сценарий и Ховард Фиск в качестве постановщика. Через неделю после того, как начались съемки, ты решил, что сценарий никуда не годится и его нужно переписать.
– Ты собираешься открывать дверь?
– Нет. Что ты сделал потом? Поручил кому-то здесь переписать сценарий? Нет. Ты направил запрос не куда-нибудь, а в Голливуд… Я повторяю: в Голливуд… И за гонорар, от величины которого моя шотландская душа сжимается в комок, ты выписал сюда самую высокооплачиваемую сценаристку в киноиндустрии. Эта специалистка еще не приехала. Пройдет не один день, пока эта специалистка наконец окажется здесь. А что делаешь тем временем ты? Я скажу тебе: ты как ни в чем не бывало продолжаешь снимать «Шпионов» по первоначальному сценарию, зная, что каждый отснятый метр отправится в корзину для мусора, когда эта специалистка наконец сюда прибудет.
Картрайт глубоко втянул воздух. Его красноватая, как кожа у больного проказой, борода ощетинилась.
Он вытянул свои дрожавшие мелкой дрожью руки.
– Том, не знай я тебя так хорошо, я бы подумал, что ты пытаешься разрушить свой собственный бизнес. Но главная беда в том, что ты помешан на сценариях. Посмотри на нынешнюю ситуацию. Посмотри на мисс как-ее-там и на меня. Просто положи себе на лоб холодный компресс и посмотри!
Смуглое лицо мистера Хэкетта стало еще смуглее.
– Я все еще прикладываю усилия, чтобы не потерять с тобой терпения, Билл. Ты прекратишь ёрничать и выпустишь меня отсюда?
– Нет.
– Ты ведь понимаешь, что тебе больше никогда не будет светить здесь никакой работы?
– …Здесь никакой работы, – выдохнул Картрайт. Он глядел на продюсера сверху вниз значительно и мрачно. – И он угрожает мне этим! Да любому, кто теперь лишь заикнется со мной о кино, не поздоровится. С меня хватит! Снова работать здесь? Да я скорее выпью пинту[8] неразбавленной касторки. Я скорее подчинюсь и перечитаю «Желание». Но ведь наверняка найдется кто-то, кто не усомнится в справедливости моих суждений? Я взываю к вам, мисс как-вас-там. Разве вы не согласны со мной?
Строго говоря, мисс как-вас-там была с ним согласна. Однако сейчас был не тот момент, чтобы неотступно следовать логике.
– Вы взываете ко мне, мистер Картрайт?
– Да. Приниженно.
– Вы хотите услышать мое искреннее мнение?
– Будьте так добры.
– Ну, в таком случае, – сказала Моника, наморщив лоб, – все зависит от точки зрения. Я хочу спросить, являетесь ли вы продюсером с десятилетним стажем, или вы таковым не являетесь? Конечно, если вас распирает от собственной значимости и вы думаете, что, кроме вас, никто ничего не понимает, если каждый раз, когда кто-то обращается к вам с предложением, вы начинаете кукситься и устремляетесь в сад, чтобы полакомиться там червями… тогда к чему ваше резонерство?
Картрайт долго не отводил от нее тяжелого взгляда. А потом он изобразил перед дверью маленькое танцевальное па.
Откинув назад голову, мистер Хэкетт рассмеялся.
– Ну все, забудем об этом, – окончательно успокоившись и похлопав Картрайта по плечу, сказал он. – Я понимаю, что ты не со зла, старик.
– Я уверена, что не со зла, мистер Хэкетт.
– Конечно, Билл разрывает свой контракт примерно раз в неделю, но потом всегда возвращается.
– Не сомневаюсь.
– Однако мне действительно надо бежать. Что-то там случилось на площадке. Какая-то неразбериха, и кого-то чуть не убило. Никуда не годится. Билл, оставляю мисс Стэнтон на твое попечение. Вероятно, у нее есть желание посмотреть, что тут у нас имеется. Покажи ей все, а потом приведи в павильон три.
– Но мистер Хэкетт! – вскрикнула Моника, внезапно встревожившись. – Подождите! Пожалуйста! Одну минуту!
– Очень рад знакомству, мисс Стэнтон, – заверил ее продюсер, пожимая ей руку, после чего легонько толкнул Монику обратно на стул. – Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, задавайте их Биллу. Уверен, у вас есть что обсудить. До встречи, Билл. Пока, пока, пока.
И дверь захлопнулась за ним.
После того как он вышел, они оба с минуту молчали. Потом Уильям Картрайт кашлянул и произнес:
– Мадам, не говорите этого.
– Не говорить чего?
– Не говорите, – пояснил Картрайт, – что бы вы ни собирались сказать. Что-то подсказывает мне, что, какой бы темы ни коснулся наш разговор, она наверняка станет предметом спора. Но одну вещь мне все-таки хотелось бы понять: вы действительно желаете, чтобы я провел вам небольшую экскурсию?
– Если вас это не слишком затруднит, мистер Картрайт.
– Хорошо! Тогда вы позволите задать вам еще один вопрос?
– Да, какой?
– Ну, – более доверительно начал Картрайт, – вы и правда видите черных жуков, что заползают мне за воротник? Вы заметили некие скрытые симптомы проказы, которую выявит тщательное медицинское обследование? Я спрашиваю не из праздного любопытства. Я спрашиваю, потому что начинаю нервничать. С того самого момента, как я вошел сюда, вы испепеляли меня таким взглядом – даже не знаю, как его описать, – взглядом, исполненным какой-то болезненной ненависти, и это, должен вам признаться, мадам, меня расстраивает.
– Как интересно!
– Но разве это не так?
– Великодушно простите, – сказала Моника, поправляя юбку на своих чересчур красивых бедрах, с презрением, достойным самой Евы Д’Обрэй. – Мне бы не хотелось более обсуждать эту тему.
– А мне бы хотелось, черт подери! – прокричал Картрайт без всяких реверансов. – Ну будьте же разумны! Я ведь извинился, разве нет? Что мне еще сделать? Не рассчитывайте, однако, что я откажусь от своего мнения!
Моника ощутила дрожь.
– Да что вы? – процедила она. – Как это любезно! Это ужасно, ужасно щедро с вашей стороны!
– Да. И я вполне понимаю ваши чувства. Я могу сделать скидку на ваше оскорбленное честолюбие…
Ошеломленная, Моника откинулась на спинку стула и уставилась на Картрайта. Но она его не видела. Она видела лишь нечеткий силуэт сквозь повисший в воздухе, светящийся туман ненависти, что сгустилась у нее в мозгу, подобно дыму из бутылки, из которой освободили джинна. В полном ступоре, Моника не замечала, что ее юбка приподнялась, обнажив колени. Не замечала она и мрачного выражения циничной удовлетворенности с примесью раздраженного удивления на лице Картрайта.
– Скидку, – повторил он, подняв вверх руку, как первосвященник, – на ваше оскорбленное честолюбие. Но – разве вы не понимаете? – такого понятия, как совесть художника, никто не отменял.
– Действительно?
– Да. Мне неприятно это говорить, но ваш роман – дрянь. Это продукт незрелого ума, сосредоточенного исключительно на одной теме. Таких людей, как ваши Ева Д’Обрэй и капитан как-его-там, не бывает и быть не может.
Моника даже подскочила.
– А ваши нелепые убийства, – сверкнула она глазами на Картрайта, – бывают, не так ли?
– Моя дорогая юная леди, давайте не будем об этом спорить. Подобные вещи основываются на научных принципах, и они – нечто совершенно иное.
– Это тошнотворные, неумные штучки, далекие от реальности на тысячи световых лет. И написаны они так дурно, что меня от них воротит.
– Моя дорогая юная леди, – проговорил Картрайт мягко и несколько устало, – не кажется ли вам, что мы ведем себя как дети?
Моника взяла себя в руки, снова надев маску Евы Д’Обрэй.
– Боюсь, что да. Прошу вас, прежде чем я произнесу что-то, о чем пожалею, не будете ли вы так любезны показать мне то, что собирались? Если вы, конечно, говорили всерьез.
– А вы мне скажете, – упрямо произнес Картрайт, – почему вы меня так ненавидите?
– Ну в самом деле, мистер Картрайт!
– Прошу вас.
– Да в конце-то концов!
– Но ведь вы же ненавидите меня до глубины души, разве нет? – вопросил он, выпятив свою рыжую бороду.
– Боже, боже… – едва слышно сказала Моника. – А не льстите ли вы себе? Я об этом даже не особо задумывалась. Если вы спросите, испытываю ли я легкую неприязнь к вам, вашим манерам и вашей бор… я имею в виду, к вам в целом, то мне, боюсь, придется ответить – да.
– А вот у меня к вам неприязни нет.
– Простите?
– Я сказал, что у меня к вам неприязни нет, – прорычал Картрайт.
– Как интересно! – только и ответила Моника.
Жаль, что она его так презирала. Не прошло и часа, как силы зла взяли в кольцо студию «Пайнхэм» и Монике пришлось благодарить Уильяма Картрайта за то, что он спас ее от первого покушения на ее жизнь.
Глава третья
Невероятное смятение на киностудии
Еще прежде, чем миновал тот час, сама Моника начала жалеть, что так его презирала. Не будь она поразборчивее, ему бы, возможно, и удалось ввести ее в заблуждение, состроив из себя образец любезности и такта. К тому же он курил изогнутую трубку а-ля Шерлок Холмс – какая гадость!
– Но почему мы должны работать здесь? – поинтересовалась она. – Почему мы не в том большом здании с навесами?
– Потому что, – объяснил Картрайт, – «Альбион филмз» – не единственная здешняя компания. Имеется еще три других: «Рэйдиэнт пикчерз», «С. А. Г.» – американские компании – и «Вандэрфилмз», которая соорудила самую первую студию. Они арендуют съемочные павильоны и конторы так же, как и мы. Изначально эта территория являлась частным имением, где Старое здание служило господским домом, прежде чем Дега из «Вандэрфилмз» приобрел его. – На его лице промелькнуло едва уловимое выражение злорадства. – «Рэйдиэнт пикчерз» делает колоссальную картину на основе жизни герцога Веллингтона[9]. Я беседовал с Эронсоном, и если его версия битвы при Ватерлоо не станет шедевром на все времена, то я не виноват.
– Вот как? Полагаю, вы находите это остроумным?
Картрайт ухватился за прядь волос на своей голове и дернул за нее.
– Ладно, ладно. Простите! Давайте сменим тему, и поскорее!
Но Моника закусила удила:
– А не кажется ли вам это слегка инфантильным? Полагаю, вы бы поступали ровно так же и с мистером Хэкеттом, если бы он не платил вам деньги. В конечном счете с какой стати вам смотреть на мистера Хэкетта свысока?
– Ни с какой.
– И это очевидно, не так ли? Он-то как раз не напускает на себя важности. Направляясь сюда, я ожидала, что буду вынуждена преодолеть препоны в лице дюжины секретарей и, возможно, просидеть целый день в приемной, так с ним и не встретившись. Но нет. Он оказался на месте – такой открытый, и любезный, и человечный…
– Ну а почему бы ему таким не быть? Он ведь не какой-нибудь бронзовый божок.
– Не слишком ли вы язвительны?
– Послушайте, – сказал Картрайт. – Я бы хотел прояснить одну вещь. Работать здесь очень даже неплохо. В английском кино крайне мало всяких фокусов и мистики по сравнению с Голливудом. Люди не запираются в своих потаенных обителях, забаррикадированных целой армией секретарей. И все друг друга знают. От продюсеров до режиссеров, от режиссеров до актеров и от актеров до самых низов – они все тут. Они ходят друг к другу в гости, совместно проводят время и путаются под ногами. В основном – очень приличные люди. Некоторые из них даже умны. Только вот…
– Что?
– Увидите, – ответил Картрайт с толикой мрачного наслаждения.
Вряд ли Моника его услышала. Они вышли из бывшего господского дома под жаркие лучи солнца и теперь поднимались по широкому гладкому склону, покрытому зеленой травой, у изгиба озера.
Отдельные участки этого озера неоднократно исполняли роль то Темзы, то Сены, то Евфрата, то Гранд-канала в Венеции, то Босфора, а то и Атлантического и/или Тихого океана. В настоящий момент в нем явно находилась подводная лодка, поскольку Моника заметила унылую на вид палубу и рубку. Курсировавшая поблизости утка изучала их любознательным взглядом. Подальше, там, где озеро сужалось, над ним висел пешеходный мостик, который выходил на тропинку, ведущую куда-то в лес. Там же стояла большая доска с предупреждающей надписью: «ПРОХОД ЗА МОСТ ПОСТОРОННИМ ВОСПРЕЩЕН». Выше на холме, справа – на стороне, открытой для посетителей, – невзрачным задним фасадом высился над деревьями съемочный павильон. Посредине этого лесопарка красовался величавый георгианский особняк с белыми колоннами, возведенный так искусно, что с первого взгляда было даже не понять, что это всего-навсего остов. От его созерцания у Моники быстрее забилось сердце, и она почувствовала теплую волну упоения, будто оказалась в сказке.
Осмелев от этих ощущений, она решилась задать вопрос.
– Мистер Хэкетт упоминал… – начала она, но запнулась.
– Да?
– Он говорил что-то об актрисе по имени Фрэнсис Флёр. Вы с ней знакомы?
– Ф. Ф.? Да. А что?
– Ничего. Я просто спросила. Какая она? Приятная в общении?
Картрайт поразмышлял пару мгновений.
– Ф. Ф.? Ну, полагаю, что да. Вполне себе милая. – Он сделал паузу и, прищурившись, посмотрел на Монику. Его борода поблескивала на солнце, а взгляд был таким пронизывающим, будто он хотел пригвоздить им Монику к стене. Он собрался было что-то сказать, но потом передумал. Как бы невзначай он добавил:
– Вы видели ее на экране, полагаю?
– Пару раз.
– Она вам нравится?
– Она очень миловидная, – чопорно ответила Моника.
Хотя Моника предпочла бы умереть, нежели признать, что эфемерное присутствие Фрэнсис Флёр на экране вдохновило ее на создание образа Евы Д’Обрэй. Временами Фрэнсис Флёр становилась Евой Д’Обрэй, а Моника в своем воображении становилась ими обеими.
– Какая она? Она замужем?
– Она выходила замуж несколько раз, по-моему. Первую попытку она предприняла с неким лордом, когда снялась в музыкальной комедии.
– С лордом Роксбери-Бреном, – машинально произнесла Моника.
– Что-то в этом роде. Ее второй попыткой – более недавней и на данный момент последней – стал Курт Гагерн, или фон Гагерн.
Моника пристально взглянула на Картрайта:
– Но о нем я никогда не слышала!
– Услышите, – заверил ее тот. – Гагерн здесь восходящая звезда. Он был режиссером в «УФА»[10], прежде чем нацисты изгнали его из Германии. Классический ариец, аристократ до мозга костей, насколько мне известно. Но на родине у него карьера не задалась. Теперь он помощник режиссера у Ховарда Фиска на съемках «Шпионов в открытом море». Каким-то образом ему удалось так загипнотизировать адмиралтейство, что оно предоставило ему самые настоящие военно-морские атрибуты для натурных съемок в Портсмуте[11] и даже в Скапа-Флоу[12].
В голосе Картрайта звучали курьезные нотки, коих Моника не уловила. Во-первых, она была весьма раздосадована тем, что ее любимица вышла замуж без ее ведома. Во-вторых, они с Картрайтом уже успели, обойдя главное здание, приблизиться к его входу.
Внутри, где царила прохлада, Моника ощутила ожидаемую атмосферу спешки, ультиматумов и хлопающих дверей. Здание представляло собой некое подобие улья с длинными коридорами, вдоль которых, подобно каютам на корабле, бок о бок располагались тесные кабинеты. Казалось, что основным видом деятельности здесь было открывание и закрывание дверей. Люди проскальзывали в кабинеты, трещали пишущие машинки, стоял тяжелый запах краски. Из буфета вынырнул молодой посыльный, откусывающий кусочек от шоколадного батончика. Картрайт ступал по вытянутому просторному пассажу, напоминавшему застекленный мост Вздохов[13], который вел через насыщенные красками сады к съемочным павильонам в противоположной стороне.
Уходящий вдаль коридор с бетонными стенами, в которых эхом отдавался каждый звук, был бесконечным и напоминал Монике аэропорт. Из него открывались звуконепроницаемые двери в павильоны. Над дверью с номером три горела красная лампочка, предупреждавшая о том, что входить во время записи звука запрещено.
Кивком Картрайт велел Монике подождать, а сам прислушался с выражением бесовского лукавства в глазах к беседе двоих мужчин, что стояли посреди коридора.
Один из них был пухлым коротышкой с сигарой, а второй – высоким молодым человеком в очках и с весьма изысканной манерой выражаться.
– Смотрите, – говорил толстяк. – Эта сцена в бальном зале…
– Да, мистер Эронсон?
– Эта пирушка, – пояснил последний, – которую герцогиня Ричмонд закатывает накануне битвы при Ватерлоо…
– Да, мистер Эронсон.
– В общем, я только что посмотрел отснятый материал. Это никуда не годится. Не хватает пылкости.
– Но мистер Эронсон…
– Значит, смотрите, – перебил его толстяк. – То, что нужно, – это песня в исполнении Эрики Муди. Люк Фитцдэйл только что выдал одну темпераментную вещицу. Вот так мы и сделаем, ясно? Герцог Веллингтон говорит: «Леди и джентльмены, сегодня у нас для вас большой сюрприз», – ясно? Тогда герцогиня Ричмонд садится за пианино и поет.
– Но я, честно говоря, не думаю, что она бы так поступила, мистер Эронсон.
– Не думаете?
– Нет, мистер Эронсон.
– Но именно так она и поступит в этой картине. И кстати, еще в одном эпизоде песня будет к месту. Она споет снова перед битвой, чтобы приободрить войска. Я все продумал. Герцогиня Ричмонд…
Красная лампочка над дверью погасла.
– Входите, – сказал Картрайт.
Постучав трубкой о стену, он вытряхнул из нее пепел и подтолкнул Монику вперед себя в темноту.
Изнутри павильон очень напоминал амбар – гигантский амбар, раскинувшийся на площади примерно в половину акра[14]. Как в амбаре, там было мало света и полно всякого хлама. Высотой он был около ста футов[15]. Его наполняли бесчисленные звуки: шаги, лязг тянущихся по полу железных проводов, скрежет пилы, приглушенные голоса. Хотя передвигающихся в пространстве павильона людей было много, двигались они словно тени. Источники мертвенно-бледного света – все очень далекие, ни один из которых, казалось, не был направлен туда, куда мог упасть ваш взгляд, – испускали блеклое голубоватое излучение, сливавшееся с отблесками солнца, проникавшими из-под крыши.
Чего тут только не бывало: сооружались дома, разбивались сады, творились кошмары – возводились и разрушались, творились и рассеивались.
Моника, локоть которой крепко сжимал Картрайт, ступала осторожно, чтобы случайно ни на что не натолкнуться в этом погруженном в полусумрак мире. Выкрашенные черной краской деревянные брусья, которые выглядели неубедительно в качестве стройматериала для уже разобранной тюрьмы, были уложены штабелями у одной из стен. Моника с Картрайтом прошли мимо гостиничной кухни и пролета Вестминстерского моста. Они пересекли улицу в пригороде, где главным строением являлся дом врача-убийцы из произведения Уильяма Картрайта: абсолютно утилитарная конструкция от первого выкрашенного серым кирпича снаружи до последней деревяшки внутри. Улица была окутана сизым светом и выглядела запущенной и жуткой. Монике казалось, что они успели преодолеть уже несколько миль[16], пробираясь через эти дебри, когда впереди наконец послышался приглушенный шум голосов и на противоположной стороне вырос столп яркого света.
– Тишина, пожалуйста! – выкрикнул кто-то. – Тишина!
– Вот она, – сказал Картрайт.
Они глядели, будто из глубины темной сени, в спальню каюты класса люкс на борту океанского лайнера. А в центре каюты, в золотистом вечернем платье с большим вырезом, над которым вздымались во всей красе плечи, стояла Фрэнсис Флёр.
Щемящая яркость софитов делала каждый оттенок цвета более живым, а каждую деталь более рельефной. Стены с бело-розовой обшивкой, белоснежная драпировка мебели, красного дерева окантовка иллюминаторов – все сияло и поблескивало. Туалетные принадлежности на трюмо, казалось, были изготовлены из чистого золота. Белизна двери ослепляла, даже лампа и графин с водой на ночном столике сверкали. Грим Фрэнсис Флёр – кремового оттенка кожа с оранжево-золотыми бликами – контрастировал с ее миндалевидными глазами и густыми черными волосами. Лицо у нее было широкое, с довольно высокими скулами, безразлично-безмятежное, а брови выглядели так, будто их нарисовали на промасленном шелке.
– Осторожнее – провод! – процедил Картрайт, подхватив Монику, которая споткнулась и чуть не упала; как только они вошли в павильон, она поднялась на цыпочки и больше и не опускалась. – Переступайте сюда. Тсс!
– ТИШИНА, ПО-ЖА-ЛУЙ-СТА!
Все шорохи стихли. На грани света вырисовывались силуэты, мелькали, словно призраки, лица, проглядывали напоминавшие марсианский пейзаж очертания съемочного оборудования.
– Мотор!
Дважды тихонько звякнул колокольчик. Молодой человек в свитере, с небольшой квадратной доской в руках, сделал шаг вперед и, держа ее перед камерой, проговорил:
– «Шпионы в открытом море». Сцена номер тридцать шесть. Дубль два.
Закрепленная на пружине нижняя планка хлопушки отрывисто клацнула. Молодой человек отступил назад. И Фрэнсис Флёр ожила.
Пышная красавица-брюнетка, казалось, пребывает в нерешительности. Это отражалось на ее лице. Она повела своими гладкими плечами, оттененными золотистым лифом, и перевела взгляд на дверь. Затем нажала на кнопку звонка.
С быстротой, неведомой ни на одном океанском лайнере со времен Ноева ковчега, на ее вызов откликнулась горничная.
Горничная, разумеется, оказалась личностью сомнительной. Она была женщиной средних лет, с суровым взглядом и зловещей ухмылкой. Любой агент секретной службы, завидя этот «циферблат», тут же спрятал бы все бумаги под замок и уселся бы их караулить с пистолетом в руке.
– Вызывали, мадам?
– Да. Вы доставили мое сообщение мистеру Ди Лэйси?
– Да, мадам. Мистер Ди Лэйси будет здесь с минуты на минуту.
– Снято! – тихо прозвучал какой-то другой голос.
И все остановилось.
В первое мгновение Монике подумалось: что-то пошло не так. Однако ни Фрэнсис Флёр, ни коварная горничная, ни кто-либо другой явно ничего необычного в происходящем не замечали. Они просто ждали. Коварная горничная, надо признать, явно пребывала в состоянии нервозности на грани слез. Во всем остальном эта сцена напоминала замедленную съемку.
После довольно продолжительной паузы, во время которой в полутьме, видимо, согласовывались какие-то детали, на площадке показался высокий человек с седой и изрядно поредевшей шевелюрой. Он был весьма задумчив. На нем был скромный твидовый костюм, пуловер нежной расцветки и огромные ботинки, предназначенные для хождения по сельским дорогам. Свет бликовал в стеклах его легкого пенсне и на его высоком лбу. Монике доводилось видеть его фото, поэтому она сразу узнала в нем режиссера Ховарда Фиска.
Что мистер Фиск сказал двум актрисам, осталось загадкой. Если и был в нем какой-то изъян, то заключался он в том, что расслышать режиссера было практически невозможно. На расстоянии больше шести футов обладателю даже самого острого слуха было проблематично уловить хотя бы одно слово из того, что он говорил. Для Моники, которая ожидала, что Фиск будет кричать в рупор так, что с павильона снесет крышу, это явилось шоком.
Он, однако, жестикулировал. Он погладил коварную горничную по спине, и казалось, что обращается он к ней ласково. С Фрэнсис Флёр он обменялся задушевными фразами, произнесенными полушепотом. Пару раз их беседа прерывалась, и во время долгих пауз Фиск задумчиво оглядывал съемочную площадку, словно погружаясь в медитацию. Наконец он кивнул, улыбнулся актрисам, взмахнул рукой и вышел из кадра.
Моника с облегчением выдохнула.
– «Шпионы в открытом море». Сцена номер тридцать шесть. Дубль три.
Коварная горничная появилась вновь.
– Вызывали, мадам?
– Да. Вы доставили мое сообщение мистеру Ди Лэйси?
– Да, мадам. Мистер Ди Лэйси будет здесь с минуты на минуту.
– Снято!
Мистер Фиск вышел на площадку. На этот раз он задержался на ней гораздо дольше.
– «Шпионы в открытом море». Сцена тридцать шесть. Дубль четыре.
Коварная горничная появилась вновь.
– Вызывали, мадам?
Моника не сдержалась.
– Почему же они не продолжают? – зашептала она. – Зачем они снова и снова переснимают этот крошечный эпизод?
– Тсс! – прошипел Картрайт.
– Но сколько дублей они еще будут снимать?
На этот вопрос ответила сама коварная горничная. Нервозность коварной горничной все усиливалась. Когда ее в шестой раз спросили, доставила ли она сообщение мистеру Ди Лэйси, она потеряла самообладание, выпалила: «Нет!» – и дала волю слезам.
Удалось уловить, что мистер Фиск объявил короткий перерыв.
– Ну? – полюбопытствовал Картрайт. – Как вам понравилось?
– Это самое чарующее зрелище, что я когда-либо наблюдала.
– Вот! А вы, случайно, не заметили здесь ничего странного?
– Странного?
Моника уставилась на него. Съемочная группа начала расходиться. Передвижная звукозаписывающая установка загромыхала, отчего лучи софитов задрожали: некоторые из них уже успели погасить. Уильям Картрайт в нерешительности переводил взгляд из стороны в сторону и будто втягивал носом насыщенный запахом пороха воздух. В зубах он вновь сжимал свою изогнутую трубку – пустую. Вид у него был довольно серьезный.
– Странного, – повторил он, отчего трубка завихляла. – Во-первых, хотя мне и случалось видеть, как люди впадают в истерику, имея веские на то причины, я даже не предполагал, что такое может произойти со старухой Макферсон. – Он кивнул в сторону коварной горничной, которая все еще стояла на площадке, утешаемая Ховардом Фиском. – Что-то витает в воздухе. Половина здешнего персонала на взводе. И мне бы хотелось знать, в связи с чем.
– А это не игра вашего воображения?
Мисс Фрэнсис Флёр царственной походкой покинула площадку. Теперь она сидела на складном стуле недалеко от них, прямо за всякого рода софитами. Она пребывала в одиночестве, если не считать прислуги (на сей раз настоящей горничной) в чепце и фартуке, которая поправляла ей грим. Фрэнсис Флёр не проявляла ни единого признака нервозности: ее спокойствие казалось абсолютным и нерушимым. Пока Ховард Фиск произносил свои монологи, она лишь кивала, улыбалась и играла очередной дубль. По всей видимости, ее вообще ничто не тревожило.
– Во-вторых, – продолжал Картрайт, – это неестественно. Здесь не так много людей.
– Вы называете это «не так много»?
– Именно. Не говоря уже о массовке с непременной толпой гостей, друзей, компаньонов и приспешников. Взгляните. Здесь почти безлюдно. Кроме вас, Ф. Ф., Макферсон и прислуги Ф. Ф., других женщин нет. Я даже не вижу помощницы режиссера – что совсем уж невероятно. Что-то явно не в порядке.
– Все же…
– А может, ничего такого и нет. Интересно, однако, куда подевался Том Хэкетт? Как бы то ни было, вот она – ваша Ф. Ф., собственной персоной. Хотите с ней познакомиться?
– Очень. Я как раз размышляла: стóит ли?
– Почему бы и нет?
Моника поддалась порыву откровенности:
– Я иногда задавалась вопросом: не окажется ли она ужасной занудой? Однако она такой не выглядит.
– Она такой и не является… Фрэнсис!
Прервав созерцание пустоты, пышная брюнетка повернула голову и улыбнулась. Она словно вернулась к жизни ровно так же, как делала это перед камерой.
– Фрэнсис, позволите представить вам вашу большую поклонницу. Мисс Стэнтон – мисс Флёр.
– Очень приятно, – тепло улыбнулась мисс Флёр, обнажая прекрасные зубы.
Улыбка преобразила ее. Однако Фрэнсис, если можно так выразиться, не включала ее, как лампочку. Обаяние актрисы, ее улыбка были абсолютно неподдельными: ей нравилось нравиться, и, когда ей демонстрировали восхищение, она получала от этого удовольствие, а в ответ вы физически ощущали излучаемое ею свечение.
– Мисс Стэнтон, – пояснил Картрайт, – займется кое-какой работой под началом Тома Хэкетта. Кстати, именно эта молодая леди – автор «Желания».
Фрэнсис Флёр оторвала взгляд от своих покрытых алым лаком ногтей и подняла глаза. До сих пор она казалась приветливой, но безразличной. Теперь же выражение ее лица слегка изменилось. Она внимательно посмотрела на Монику:
– А не…
– Да, – твердо сказал Картрайт.
– Действительно? Как я рада с вами познакомиться! Знаете, это ведь моя следующая роль.
Моника глядела на нее как завороженная.
– Роль Евы, – пояснила мисс Флёр. – Не из райского сада, а из вашей книги. Присаживайтесь, будьте любезны, поближе. Нам нужно поговорить. Элинор, принесите стул для мисс Стэнтон.
Элинор не заставила просить себя дважды. Монику усадили так, чтобы мисс Флёр могла ее рассмотреть на свету. Вообще-то, «Желание» она не читала, однако попросила своего мужа зачитать ей вслух самые лучшие отрывки, и в ней проснулся интерес. Она с любопытством окинула Монику оценивающим взглядом. Ход ее мыслей был неочевиден.
– Вы здесь впервые? – спросила она. – Надеюсь, вам все тут нравится. Я получила такое удовольствие от вашей книги… – Она посмотрела на Монику с еще бóльшим любопытством.
– Ужасно приятно от вас это слышать.
– Ну что вы, – усмехнулась Фрэнсис Флёр. – Мой супруг – барон фон Гагерн – тоже в восторге от нее. Он выбирает все роли для меня. Вы должны с ним познакомиться. Курт! Курт! – Она обернулась. – Куда же запропастился Курт? Это на него совсем не похоже – вот так исчезать. Вы его не видели?
– Нет, – ответил Картрайт. – Не видел я и Тома Хэкетта, хотя он должен быть где-то здесь.
Они обменялись мимолетными взглядами. Взор Фрэнсис Флёр был очень выразителен.
– В таком случае, – продолжила она, – мисс Стэнтон в первую очередь необходимо познакомиться с Ховардом. Ховард! Не подойдешь ли на минутку?
Режиссер в последний раз сжал плечо коварной горничной, которая вытирала глаза. Казалось, Фиску в значительной степени удалось ее ободрить. Затем он тяжелым шагом двинулся в их сторону в своих безразмерных ботинках. Вблизи он напоминал почтенного доктора или ученого. Подходя к ним, он потирал руки, а на его губах играла удовлетворенная улыбка. С расстояния трех футов его мягкий голос уже можно было расслышать.
– Ну что ж, мы продвигаемся, – доверительно произнес он. – Да, мы действительно продвигаемся. – Фиск призадумался. – Один из этих дублей наверняка сгодится. Да и Энни Макферсон чувствует себя гораздо лучше.
– Ховард, разреши представить тебе новую сценаристку.
Мистер Фиск вышел из состояния задумчивости.
– Ах да, специалистка из Голливуда. Хэкетт об этом упоминал. Приятно познакомиться, – сказал он, обхватывая руку Моники своей широкой лапой и сияя улыбкой. – Надеюсь, наш английский стиль жизни не покажется вам чересчур заторможенным.
– Нет, – медленно и четко произнес Картрайт. – Это другой человек. Мисс Стэнтон написала «Желание». У нее пока нет опыта работы в кино.
Мистер Фиск погладил Монику по руке.
– Вот как? Тогда мы вам еще больше рады. Вы смотрели, как мы снимаем дубли? Как они вам показались?
– Ей показалось, что на эти дубли ушло чертовски много времени, – ответил Картрайт с нарочитой бестактностью.
Чувствуя жар и будучи не в силах произнести ни слова, Моника жаждала вцепиться ему в бороду и как следует дернуть за нее. Ее смятение было тем ужаснее, что и Фрэнсис Флёр, и Ховард Фиск улыбались ей. Ее разум кипел от несправедливости происходящего. Она вдруг почуяла недюжинную проницательность за стеклами пенсне мистера Фиска.
– Не следует путать терпение с некомпетентностью, – заметил Монике режиссер. – К сожалению, первое требование здесь – это терпение. И второе тоже. – Он помолчал, раздумывая. – И третье. Кроме того, во время репетиции произошла неприятная штука.
– Да? – вмешался Картрайт. – Поэтому Том Хэкетт сказал нам, что случилась какая-то неразбериха и кого-то чуть не убило?
Мистер Фиск изумился. Он все еще поглаживал Монику по руке, отчего та начала испытывать неловкость.
– Ну вот еще! Ничего подобного. Просто чье-то глупое разгильдяйство. На этот раз я реквизиторам спуску не дам.
– Но что же произошло?
На лице режиссера промелькнула тень смущения. По-прежнему не отпуская руки Моники, он повернулся и кивнул в сторону съемочной площадки:
– Видите тот графин? На прикроватном столике. Вон там – прямо около двери.
– Да.
Хотя сейчас освещение было менее ярким, однако насыщенные цвета каюты по-прежнему делали ее похожей на видовую открытку. Они вновь обратили внимание на сверкающий чистотой графин на столике возле кровати.
– Ничего трагического не произошло, к счастью. Хотя Энни Макферсон и испытала шок, поскольку находилась ближе всех. Мы репетировали на площадке, и я разъяснял задачу Фрэнсис и Энни. Ума не приложу, как такое могло случиться…
– Продолжайте!
– В общем, я ходил по площадке, что-то там объяснял… Мы разговаривали с Гагерном, я отступил назад, и тут он говорит: «Осторожно!» Я натолкнулся на этот столик возле кровати, и он опрокинулся. Послышалось какое-то шипение – довольно неприятное. Графин упал на кровать, к сожалению. Целый кусок одеяла, и простыни, и даже матрас стали сморщиваться, пучиться и как бы выгнивать, словно осиные ходы в яблоке. Графин был наполнен не водой. В нем было купоросное масло – серная кислота.
Глава четвертая
Роковая роль переговорной трубки
– Серная кислота? – повторил Картрайт.
Он извлек изо рта пустую трубку. На его лице было выражение, расшифровать которое Моника не могла.
– Позвольте уточнить, – сказал он. – Вы полагаете, что это оплошность реквизиторов?
– Конечно.
– Так… Один реквизитор говорит другому: «Слушай-ка, Берт. По поводу графина. Водопроводного крана нет, так что наполни его серной кислотой – цвет тот же самый». Боже правый!
– Вы не знаете фактов.
– И каковы же они?
– Тсс! – почти просвистел режиссер в попытке повысить голос. Отпустив руку Моники, он обратился к ней в доверительном тоне: – Прямо беда с этими писателями, мисс Стэнтон. В частности, с Картрайтом. Всё… – он жестами изобразил взлетающий воздушный шар, – раздувается. Картрайт заподозрит хитроумный замысел отравления, даже когда кто-то съест незрелое яблоко и пожалуется на колики в животе. Однако мы должны быть благосклонны: такая уж у него профессия. – Фиск смерил нарушителя спокойствия снисходительным взглядом. – На что вы намекаете, молодой человек? Что это был злой умысел?
– А вы как думаете?
В глазах Фиска искрилось лукавство.
– Знаю-знаю. Вас очень влекут тайны. Тут что-то нечисто: кто-то – по ходу съемки – должен был наполнить стакан серной кислотой и выпить ее, перепутав с водой. Кому-то следовало сделать так, чтобы кислота пролилась на него или чтобы ему брызнули ей в лицо. Таков ход ваших мыслей?
Фрэнсис Флёр поежилась. За все это время она не шевельнулась, а взгляд ее был направлен внутрь себя. Подняв руку, она провела ею по своим густым и блестящим черным волосам, которые были уложены на прямой пробор и спускались тяжелыми локонами вдоль щек. Затем кончиками пальцев она коснулась лица.
Этот жест наводил на размышления. Она вновь поежилась.
Ховард Фиск усмехнулся.
– Обратитесь к фактам, молодой человек, – твердо сказал он. – Графин в этой сцене вообще не фигурировал.
– То есть?
– Именно то, что я говорю: никто не должен был пить воду. Никто не должен был наполнять стакан водой. И в целом никто не должен был касаться графина и вообще подходить к столику. Понимаете?
– Хм…
– Графин был всего лишь предметом реквизита. В обычных обстоятельствах его бы убрали при смене декораций, опустошили бы и поставили на полку. Чистейшая случайность, что я по своей неуклюжести, в чем каюсь, опрокинул столик. Отлично! Я знаю, что у вас богатое воображение, друг мой. За это я вами и восхищаюсь. Но – увы и ах! Предположим, что кто-то поставил туда графин с его содержимым из злого умысла. Предположим, что кто-то сознательно задумал совершить черное дело. Какой же был смысл в том, чтобы ставить пинту серной кислоты туда, где она никому не могла бы нанести ущерба?
Наступила тишина.
Ховард Фиск стал еще больше похож на почтенного доктора, излагающего свою теорию. От уголков его глаз под стеклами пенсне разбегались неглубокие морщинки. Он положил свою ладонь на плечо Моники, и от его твидового пиджака пахнуло одеколоном.
– И как же вы в результате поступили?
– Как мы поступили? Мы распорядились заменить матрас и продолжили, – простодушно сказал режиссер.
– Нет. Я имею в виду не это. Неужели никто не проявил ни малейшего любопытства по поводу того, как кислота туда попала? Вы не пытались это выяснить?
– Ах это. Да, по-моему, Гагерн пытался. – Он вытянул шею, как журавль. – Гагерн из-за этого расстроился. Не знаю, что ему удалось выяснить. А Хэкетт, примчавшись сюда, сразу сделал свои выводы: это не человек, а просто ураган какой-то. Он полагает, что речь идет о диверсии.
– О диверсии?
– Да. «Шпионы в открытом море», – пояснил режиссер Монике, – носят довольно радикальный и, надеюсь, действенный антифашистский характер. Хэкетт вроде как считает, что некий приверженец нацистской идеологии мог попытаться вставить нам палки в колеса. Какое там! Разве так устраивают диверсии? Но что касается меня, я не хочу, чтобы они беспокоились. Да и тревожить дам нам ни к чему, верно? – Он подмигнул Фрэнсис Флёр. – Не спеша. Аккуратно. Потихоньку! Вот как надо действовать. Уверяю вас, что нет никакой проб…
Раздался резкий голос:
– Ховард! Билл! Подойдите сюда, пожалуйста!
Голос принадлежал мистеру Хэкетту. Он стоял возле съемочной площадки. На его смуглом лбу блестели капельки пота, а курчавые черные волосы были взъерошены.
– Итак! – вступил в разговор Картрайт. – Вы, конечно, можете утверждать, что графин, в котором под видом воды плещется самая смертоносная кислота, известная химии, – это всего лишь курьезная оплошность реквизиторов. Но я все же позволю себе в этом усомниться. Держу пари, что дела и правда плохи и Том Хэкетт обнаружил труп. Идемте. Позволите нам ненадолго отлучиться? Фрэнсис, оставляю мисс Стэнтон на ваше попечение.
Моника проводила их взглядом. Из задумчивости ее вывел голос Фрэнсис Флёр:
– Вам не нравится Билл Картрайт, дорогая?
– Что… простите?
– У вас было такое выражение лица… Определенно убийственное, – сказала мисс Флёр с неподдельным интересом. – Он вам не нравится?
– Я его ненавижу.
– Но почему?
– Давайте не будем об этом. Я… Мисс Флёр, вы действительно будете играть Еву Д’Обрэй?
– Полагаю, да. Если ее вообще кто-то будет играть.
– Вообще кто-то?
– Ну, мой муж говорит, что, если случится война, это очень плохо отразится на кинобизнесе. Он говорит, что Гитлер вступил в альянс с русскими, что тоже очень плохо. И не обращайте внимания на Ховарда. Между нами говоря, здесь происходит нечто странное.
– Вы имеете в виду кислоту?
– И ее тоже. И кое-что еще.
– Но вы разве совсем не встревожились, когда кислота пролилась?
– Дорогая, – проговорила мисс Флёр, – на театральных подмостках мною даже как-то стреляли из пушки. Это одна из тех вещей, что от вас ждут мужчины. И они крайне раздражаются, если вы этому противитесь. Так что лучше делать то, о чем вас просят. А в одном из представлений Блинкенсопа меня заставили нырнуть в чем мать родила в стеклянный резервуар глубиной тридцать футов. К тому моменту, как шоу сняли с репертуара, меня преследовала жуткая мигрень. Но купоросное масло – брр! Нет!
– Значит, вам не нравится роль? Я имею в виду Еву Д’Обрэй.
– Роль замечательная. Элинор, не подадите мне зеркало?
– Знаете, я написала ее для вас.
Фрэнсис Флёр застыла с зеркалом в руках и откинула голову назад, изучая отражение своих накрашенных темно-красной помадой губ.
– Знаете, я думала, она вам подойдет.
Мисс Флёр вернула зеркало прислуге. В ее глазах цвета темного янтаря под бархатистыми веками и тонкими ниточками бровей появилось выражение любопытства.
– Что-то в ней есть от меня, – признала она, поразмышляв. – Подумать только, как вы угадали! И подумать только, как вы узнали… сколько вам лет? Девятнадцать?
– Двадцать два!
Ее собеседница понизила голос:
– Тогда я вам кое-что скажу. Я…
Услышать продолжение Монике было не суждено. Фрэнсис Флёр, наклонив корпус вперед, бросила случайный взгляд за спину Моники в противоположную сторону съемочной площадки. Выражение ее лица едва ли изменилось, да и голос тоже. Она так плавно перешла к следующему предложению, будто говорила все на ту же тему:
– Не сочтите за грубость, но я должна идти. Мне нужно немедленно разобраться с одним делом. Вы же понимаете? Было очень приятно с вами поболтать. Обязательно продолжим нашу беседу в другой раз – и очень скоро. Мне просто необходимо выяснить у вас некоторые детали, если вы понимаете, о чем я. Сейчас, однако… ну, вы же знаете. Конечно, Элинор! Идемте со мной.
Фрэнсис Флёр вспорхнула со стула, великолепная в своем золотистом платье, всколыхнув воздух тонким ароматом парфюма. Улыбнувшись несказанно сладкой улыбкой, словно обращенной к зрителям, она жестом велела прислуге следовать за ней и упорхнула, оставив Монику с таким чувством, будто она умудрилась сболтнуть что-то лишнее.
Получается, она выглядит всего на девятнадцать лет?
Уф!
Придвинув поближе соседний стул носком туфли, Моника Стэнтон зацепилась каблуками за его перекладину, поставила локти на колени, оперлась подбородком на кулаки и погрузилась в раздумья.
Больше всего ей хотелось произвести впечатление на Фрэнсис Флёр, представ перед ней умудренной жизненным опытом дамой – проницательной и пресыщенной, – которая могла бы украсить собой мраморные скамеечки в Древнем Риме. Это стало ее целью – в такой мере, что она едва улавливала смысл произносимых вокруг нее слов. А в результате ее приняли за девятнадцатилетнюю, хотя ей было уже двадцать два, а в душе она вообще надеялась, что выглядит на двадцать восемь.
Все звуки в этом полутемном гулком амбаре пролетали мимо ее ушей. Рядом с ней прошел бутафор с большим зеркалом в руках. Перед Моникой возникло ее собственное отражение: водруженные на перекладину стула каблуки, подбородок на сжатых кулаках и возмущенно изогнутый рот. Ее взору предстали светлые волосы со стрижкой удлиненное каре, широко посаженные глаза серовато-голубого оттенка, короткий нос и полная нижняя губа, строгий серый костюм и белая блузка – полная противоположность беззастенчивым чарам богини грома. В результате этого наблюдения Моника состроила зеркалу гримасу, смахивавшую на выражение презрения в пантомиме, такую жуткую, что бутафор, который смотрел прямо в ее невидящие глаза и работал не покладая рук уже целый день, возмутился. И он имел на то все основания.
Фрэнсис Флёр, видимо, посчитала ее полной дурой.
Но все же у Моники возникло какое-то не совсем понятное ощущение, что с Фрэнсис Флёр что-то не так.
Моника не могла определить, что ее смущает. Не то чтобы она разочаровалась – отнюдь нет. Нет! Мисс Флёр была, несомненно, красива. И очень любезна. Разве она могла кому-то не нравиться? И все же Монике, разум которой функционировал даже в ее нынешнем очарованно-потерянном состоянии, показалось, что мисс Флёр не особо умна.
Кроме того, Монике, которая являлась любительницей Древнего Рима, показалось, что мисс Флёр не вписывается в ту эпоху. Эта ее фраза «мой муж говорит…» соскользнула с языка актрисы c непринужденностью, свидетельствовавшей о том, что она употребляет ее регулярно. В этом плане слух у Моники был крайне острый, поскольку высказывания мисс Флосси Стэнтон состояли почти исключительно из таких оборотов, как «мой брат говорит» или «как я и говорила моему брату». Но справедливости ради: не то чтобы Моника ожидала, что в жизни вне экрана мисс Флёр будет декламировать блистательные эпиграммы, возлежать в окружении голубок и придворных и призывать к уничтожению христиан, что, как известно всякому кинозрителю, являлось единственным занятием любого древнего римлянина. Однако тут первую скрипку играли ощущения, а также инстинкты, подкрепленные знаниями. Вот Моника и ощутила, что мисс Фрэнсис Флёр не обладает истинным римским духом.
В то время как этот отвратительный Картрайт, с другой стороны…
– Мисс! – раздался голос позади нее. – Мисс Стэнтон!
Она его не услышала.
Перед ее внутренним взором стоял Картрайт, в римской тоге, со своей шерлок-холмсовской трубкой во рту и рукой, поднятой вверх, перед тем как изречь назидание. Моника откинулась на спинку стула и в голос рассмеялась – впервые с начала дня.
Кесарю кесарево: Картрайт в качестве древнего римлянина выглядел бы совсем недурно. Он бы до хрипоты спорил с квиритами[17] и ночи напролет объяснял бы, почему чья-нибудь эпическая поэма – дрянь. Если бы он только сбрил эту поблескивающую на солнце, собирающую пылинки, крайне комично выглядевшую бороду!
Голос сбоку от нее прозвучал более настойчиво:
– Прошу вас, мисс!
Моника спустилась с Палатина[18] и обнаружила возле себя юного посыльного с сияющим лицом и не менее сияющими пуговицами, который теребил ее за рукав. Завладев наконец ее вниманием, юнец расправил плечи и произнес нараспев:
– Мистер Хэкетт спрашивает, не будете ли вы любезны пройти со мной?
– Да, конечно. Куда?
– Мистер Хэкетт спрашивает, – свиристел посыльный с видом старшины в миниатюре, – не пройдете ли вы к нему в действующий дом на восемнадцать восемьдесят два? В заднюю комнату.
– Куда?
– Это площадка, мисс. Я покажу вам.
Он зашагал вперед с выгнутой колесом грудью и двигая руками в такт ходьбе. Моника огляделась. Поблизости не наблюдалось ни Картрайта, ни Хэкетта, ни Фиска, ни кого бы то ни было другого из знакомых ей людей. Звукорежиссерская и операторская группы собирали свое оборудование и расходились. От этого у Моники возникло ощущение смутной тревоги.
Она припустила вслед за посыльным, которого она определенно уже где-то видела раньше, хотя и не могла вспомнить, где конкретно. Он вел ее вдоль прохода между длинными рядами полотняных задников, которые источали затхлый запах, обратно к двери съемочного павильона. Было темно, если не считать подсвеченных часов на стене, стрелки которых показывали начало шестого. Под часами стояли двое.
Часы неярко освещали их головы. Один был пухлым коротышкой с сигарой, а второй – высоким молодым человеком в очках, с весьма изысканной манерой выражаться.
Проходя мимо, Моника расслышала их голоса.
– Смотрите, – говорил толстяк, – эта наша батальная сцена.
– Да, мистер Эронсон?
– Она никуда не годится. В ней недостаточно женского. Вот что я хочу, чтобы вы сделали: я хочу, чтобы герцогиня Ричмонд была на поле боя бок о бок с герцогом Веллингтоном.
– Но герцогиня Ричмонд вряд ли могла бы оказаться на поле боя, мистер Эронсон.
– Боже! Вы мне будете объяснять? Нам нужно сделать так, чтобы это выглядело правдоподобным, иначе зрители не клюнут. Вот как мы поступим. Все остальные офицеры пьяны, понимаете?
– Кто именно, мистер Эронсон?
– Офицеры герцога Веллингтона. Они кутили в компании французских дамочек, понимаете? Сделайте, кстати, несколько кадров. И они все пьяны как сапожники.
– Но, мистер Эронсон…
– Тут входит герцогиня Ричмонд и видит их всех валяющимися на полу, понимаете? Они так набрались, что даже пошевелиться не могут. И ей страшно, потому что один из них – ее брат, понимаете? Тот, который служит офицером в Бенгальском уланском полку. Улавливаете? Она опасается, что герцог Веллингтон рассердится, если обнаружит, что ее брат напился до поросячьего визга накануне битвы при Ватерлоо. Верно я говорю? Герцог учинил бы тогда жуткий скандал, так?











