Читать онлайн Лицо Казанской национальности. Книга вторая
- Автор: Раф Гази
- Жанр: Историческая литература
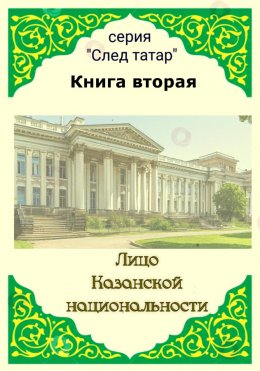
Мурад Аджи: «Кумыки – тоже татары»
Нет, пожалуй, более путаного вопроса, чем вопрос о татарах России – кто они?
Тема, вокруг которой веками спорят: спорят этнографы, историки, политики. Простые люди тоже не скупятся на высказывания…
И никто не слышит друг друга.
Для меня эта тема обрела особую актуальность недавно, после поездки в Казань, где в здании Всемирного конгресса татар была моя встреча с читателями. Обсуждали новую книгу «Тюрки и мир: сокровенная история». Я смотрел на аудиторию и дивился, удивляли глаза и лица собравшихся, их неравнодушные, нарочито резкие суждения, которые, признаюсь, доставляли мне тайную радость… «Они не татары, самые настоящие кумыки», подумал я. У нас одинакова даже манера спора…
Действительно, что отличает татарина от кумыка? Язык? Антропология? История? Мы будем молчать, и все равно поймём друг друга – надо иметь слишком тонкий слух, чтобы отличить кумыкскую речь от татарской. Она практически неотличима. Я смотрю на себя в зеркало, чем не татарин? Внешне мы, кумыки, точно такие же, как татары: среди нас преобладают голубоглазые, светловолосые, чуть скуластые лица. Это, конечно, не означает, что мы все такие. Нет. Есть тёмные, с точёными лицами, таковых больше в Южном Дагестане. Видимо, давно подметив это отличие, народ наш условно делит себя на южных кумыков и северных кумыков. Хотя история такого деления не признает. Потому что тюрки появились в Европе в конце III века, когда берегов Итиля достигла волна Великого переселения народов, которых вёл хан Акташ, наш легендарный герой.
Поразительно, что народный эпос у кумыков запечатлел те же исторические эпизоды, что и у татар. Не отличается. Мы одинаково прославляем героя, одними словами! Впрочем, чему удивляться, религия тогда у нас была одинаковой. Предки хранили веру в Тенгри, поклонялись Умай, за преданность вере их называли «ханифами». Теперь у нас ислам, в котором сохранилась древняя традиция Единобожия.
Можно бы разобрать народные праздники и традиции, но и в них нет различий… И тогда с новой силой встаёт вопрос: кто есть мы? Или что отличает татар от кумыков?
Я никогда не коснулся бы этого вопроса, если бы не та встреча в здании Всемирного конгресса татар. Мне с тех пор кажется, что Конгресс не полно выполняет своё предназначение. Он работает не на весь народ! А так нельзя, другие ныне времена на дворе.
…Если бы я не был географом, то не знал бы, что Итиль впадал в Каспийское море не там, где ныне. Устье этой реки (Волги) прежде уходило на юг, ближе к Кавказским горам, но в середине Х века случилась природная катастрофа, она-то и разделила Итиль. Река около нынешнего Волгограда нашла новое, более короткое русло и устремилась по нему. Такое в истории планеты случалось не раз.
Об этой катастрофе я узнал по снимкам из космоса, на них хорошо видно старое русло. Полоска озёр указывает на него. Помню, меня охватил восторг, вызванный тем, что я, таким образом, открыл столицу Хазарии, легендарный Семендер, его археологи искали в районе Астрахани, искали, не зная, что Итиль в хазарские времена впадал в Каспий совсем в другом месте…
Следовательно, столица Хазарии километров на триста-четыреста южнее! Так и есть.
Лишь врождённая тюркская лень не позволила мне закрепить за собой это открытие, оставалось-то взять авторучку и написать статью, а я откладывал, искал случая и дождался. Дагестанские археологи открыли Семендер, правда, с другой стороны. Они, рассчитав путь от Дербента по числу конных переходов, пришли в хазарскую столицу. Но я не обиде ни на них, ни на свою лень, она открыла мне другое, более ценное – кумыки и татары братья по крови, утверждаю я теперь. Мы люди одной реки! Одной истории! Природная катастрофа разделила нас. Мне стало понятно, почему до прихода русских на Кавказ, то есть до середины XIX века, нас называли кавказскими татарами.
Не верится? Тогда обратитесь к кавказским страницам творчества Льва Толстого, Лермонтова, Пушкина, там говорится именно о татарах. Не о кумыках. Известно, что Толстой пытался выучить татарский язык, когда начал писать повесть «Казаки». Я совсем иными глазами читал лермонтовскую «Беллу», после того как узнал, что события в повести развивались около нашего родового селения Аксай, где до сих пор стоят руины крепости Ташкечу, где служил Печорин. Фантастика, татарка Белла – моя родственница.
Когда узнаёшь подобное, история читается совершенно по-другому, она становится родной… Именно эта мысль пришла на ум после посещения Всемирного конгресса татар, и я подумал: «Почему забылись кавказские татары? И можно ли без них называть конгресс Всемирным?».
Дальше больше: я вспомнил научные книги. В 1948 году в Советском Союзе вышла книга А. А. Новосельского «Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII века». Солидная академическая монография, там масса фактов, и очень часто, едва ли не через страницу в отдельных главах встречаются словосочетания, которым автор придавал строгое этническое звучание: «белгородские татары», «донские татары», «рязанские татары», «тульские татары» и другие татары, которые обитали в Центральной России… Куда делись они?
Вспоминаю своё удивление, когда будучи в Орле, я впервые узнал, что все старинные кладбища в городе называют татарскими. Русские кладбища появились здесь только в XVIII веке. Это ли не факт, заставляющий задуматься над тайнами истории России и над сиротством, вернее, узостью кругозора казанских татар: создавая Всемирный конгресс, они не потрудились заглянуть в историю своего народа. Кроме Булгарского каганата уже давно ничего не видят. Стыдно.
Господа, откройте географическую карту допетровской поры: там южнее реки Оки отмечено огромное государство Татария. Оно тянулось до самого Кавказа. Его население говорило по-тюркски. До сих пор здесь в иных селениях не забылась татарская речь, хотя население обращено в славянство. А это – ваши братья по крови! И числом они в несколько раз больше, чем татары Татарстана, объявившие о Всемирном конгрессе татар.
Запомнились, буквально врезались мне в память слова, прочитанные в записках Антиохийского патриарха Макария, когда он ехал в Москву в 1654 году. В Калуге греческий патриарх пересел на судно и до Коломны плыл по Оке. «Справа от нас, на расстоянии месячного пути (до Кавказа) была страна татар…» И далее: «На границе страны татар, что справа от нас, богохранимый царь (Алексей) выстроил тридцать крепостей…»
Эти сведения согласуются с географией России XVII века, с положением её южных границ, но никак не согласуются с казанской этнографией, которая в упор не видит татар, их истории и своего будущего.
Сказ о Гайше-бике, которая и в огне не горит, и в плен не сдается
Мифы живучи, как тараканы. Как ни выводи их на яркий свет истины, все равно прячутся по тайным закоулкам души, внося сумятицу в нашу жизнь. Мы до сих пор живем в мире предрассудков, мифов и легенд. Однако справедливости ради следует сказать, что народные предания часто бывают и полезны, помогая историкам реконструировать прошлое. Каких только сказок не сохранила народная молва о возникновении Казани!
Наиболее популярными, по мнению доктора филологических наук, профессора Фатыха Урманчеева, были "Повесть о несгораемой царевне" и особенно рассказ о двух булгарских царевичах Алим-беке и Алтын-беке, перенесших столицу Волжской Булгарии к берегам Казанки…
Есть реальные исторические факты, и есть живая память предков, которые часто вступают в противоречие друг с другом. Народная память, пусть искаженная и мифологизированная, – тоже реальность, оказывающая на людей ничуть не меньшее воздействие, чем конкретные исторические события.
Кто скрывался за зловещей кличкой Аксак Тимура – Хромого Тимура? Тамерлан, Едигей, Тимур-Булат, Батый?.. И был ли такой хан вообще? Историки продолжают спорить. А между тем на этой легенде выросло не одно поколение. Ученые в один голос клеймят Аксак Тимура – разрушителя северной Мекки мусульман, священного Булгара. Но народные предания не столь категоричны. Да, хан был жесток, Булгар сжег дотла, не щадя стариков и детей. А за что? "А за то, – говорит легендарный Аксак, – что вы перестали поклоняться Аллаху!"
Профессор Фатых Урманчеев проводит параллель с другим грозным завоевателем – Атиллой, перед которым склонился даже гордый и самонадеянный Рим. Европейцы до сих пор проклинают "жестокого варвара", хотя римляне тогда восприняли нашествие гуннов совсем по-другому: как "бич Божий", которым Господь решил покарать алчных патрициев за их нечеловеческое обращение с рабами.
Легенд и сказаний о разрушении Булгара Аксак-ханом и чудесном спасении детей булгарского царя Габдуллы, построивших потом новую столицу Иске Казан, или Булгар аль-Джадид, – предостаточно. Правда, сведения, содержащиеся в них, весьма противоречивы. К примеру, по одним данным Иске Казан (Старая Казань) просуществовала 100, по другим – 150, по третьим – 300 лет, после чего город был перенесен к Зилантовой горе, где находится и по сей день. Непонятно также, когда все-таки был сожжен Булгар? "Татарские летописи" называют три даты: 1300, 1349 и 1397 годы. (Но кто тогда скрывался под псевдонимом Аксак Тимур? Историки считают, что Тамерлан или его отряды разрушили Булгар в 1395 году).
О рождении Хромого Тимура легенда повествует туманно.
Однажды падишаху приснился дурной сон. Придворные звездочеты растолковали его так: "Женщина по имени Марфуга родит ребенка, который, став взрослым, должен тебя убить, о, великий хан!" Трусливый властитель, проснувшись, приказывает найти и избить беременную Марфугу, но так, чтобы она осталась жива, а плод погиб. Слуги, как водится, перестарались: забили несчастную до смерти. Однако роженица вдруг оживает и производит на свет уродца, колченогого и с перебитой рукой, к тому же слепого на один глаз. Такого иначе, как Хромой Тимур, и не назовешь. Несмотря на увечья, мальчик рос чрезвычайно дерзким и бойким. Рано оставшись сиротой, он нанялся пастухом к богачу. А вскоре стал предводителем разбойничьей шайки, потом – и ханом. Как в известной пословице: если украл овцу – вор, если царство – государь.
По таким скудным полумифическим данным трудно идентифицировать историческую личность. Известный археолог Альфред Халиков был уверен, что события, описываемые в легенде о разрушении Булгара Аксак Тимуром, анахроничны, то есть на самом деле они происходили раньше, не в XIV, а, возможно, в XIII веке. Историк Равиль Фахрутдинов прямо увязывает их с нашествием отрядов Батыя. Но все эти хронологические неувязки и несовпадение второстепенных деталей для нашего исследования не важны. Живая память народа развивается по своим законам, и нам интересно понять их логику. Поэтому, не обращая внимания на разночтения и нестыковку разных преданий, постараемся проследить лишь за их общей линией.
Как свидетельствуют предания, Хромой Тимур, взяв Булгар, сравнял его с землей и устроил в городе кровавую резню. Царь Габдулла со своей семьей скрылся в Судной палате. Захватчики обложили палату бревнами и подожгли. Царевна Гайша была не только изумительно красива, но и необычайно умна. Господь не мог допустить, чтобы такая чудесная девушка погибла. Когда палата сгорела, Аксак Тимур увидел сидящую в белой одежде красавицу, целую и невредимую – огонь ее даже не коснулся…
Потрясенный хан увез Гайшу и ее младшего брата Шейн-бека в далекий и сказочный Самарканд. Когда Аксак Тимур умер, пленники перешли в услужение его сыну. Как-то во время царской трапезы Шейн-бек разбил дорогую посуду, за что ему хотели отрубить голову. Порядки в ханском дворце были просто лютыми! Однако умная и хитрая Гайша сумела вымолить для своего брата прощение, а потом вместе с ним смогла убежать и из плена.
Когда беглецы вернулись на родину, с удивлением узнали, что их братьям Алтын-беку и Алим-беку тоже удалось спастись. Приближенные Габдуллы-хана, опасаясь, что царский род прервется, укрыли семи- и девятилетнего наследников в лесу. К возвращению сестры братья успели подрасти и основать новую столицу – город Казан (сегодня существуют только его остатки – Камаевское городище, входящее в историко-культурный заповедник "Иске Казан" в Высокогорском районе).
Гайша-бике вышла замуж за полководца своего брата Алтын-бека – муллу Хазея (в данном случае слово "мулла" указывает не на духовный сан, а используется как знак уважения). Видимо, именно этот воин спас братьев Гайши и построил новый город. Однако, как потом выяснилось, построил не совсем удачно – на высоком холме. Женщинам было очень неудобно носить из реки воду в город. Подняться на 80 метров по крутому склону трудновато даже с пустыми ведрами. Поэтому люди стали одолевать правителя просьбами о переезде в другое, более удобное место. Выбор пал на Зилантову гору, где, согласно уже другой легенде, обитал Аждаха – "змей велик и страшен о дву главу", изображение которого впоследствии украсило герб Казани. (Как показывают современные археологические исследования, к этому времени здесь уже давно стояло городское поселение, но мифы и исторические факты не всегда согласуются друг с другом.)
Иске Казан (Старая Казань) простояла более сотни лет, а народная молва ее перенос на новое место почему-то опять связывает с красавицей Гайшой. Якобы именно она, вняв просьбам женщин, изнуренных мучительным подъемом тяжелых ведер с водой, уговорила хана на переезд. Вот что значит магия священного имени! Гайшой, как известно, звалась любимая жена пророка Мохаммада (мир ему и его семье!), и она считается "матерью всех мусульман". Царевна, носящая такое имя, конечно же, должна быть заступницей правоверных и проводником всех богоугодных дел.
Могила "несгораемой царевны", расположенная вблизи деревни Татарская Айша, так же как и могила ее мужа муллы Хазея, сегодня считается святой и является объектом поклонения местного мусульманского населения.
Сама же деревня Татарская Айша входит в территориальное подчинение Иске-Казанского совета местного самоуправления и, как одно из древних исторических поселений, находится под охраной государства.
Поэта Кул Гали считали «святым аулией»
Кул Гали не был коренным казанцем. Доподлинно известно, что он подолгу жил в обеих столицах Волжской Булгарии – Биляре и Болгаре, а также в Алабуге, Нур-Суваре и древнем городе Кашане, не путать с Казанью (отсюда псевдоним – Кул Гали Кашани)… Но наверняка он бывал и в Казани, уже в те годы – в конце XII- начале XIII веков – набиравшей силу, чтобы через сто лет стать новой столицей под названием "Болгар аль-Джадид" ("Новый Болгар").
Если бы Кул Гали ничего в своей жизни не совершил, кроме того, что написал свою замечательную поэму "Кыса-й Йусуф" ("Сказание о Юсуфе"), он все равно бы вошел в историю. Его имя стоит в одном ряду с такими известными стихотворцами Востока, как Омар Хайям, Хафиз, Низами, Алишер Навои, Шота Руставели… Весь мир чествовал в 1983 году (800-летний юбилей) Кул Гали именно, как великого поэта, внесшего яркую жемчужину в фонд мировой культуры.
Вдумайтесь, уже 840 лет назад в Итиле (на Волге) процветала такая высокая культура, о которой знают во всем мире. Но некоторые безграмотные обыватели не стесняются называть ее "аульной культурой"! Хотя проживают в Казани и наверняка слышали, что в 1020-летней столице Татарстана есть улица и мечеть имени Кул Гали.
Аллах им судья…
Подлинник поэмы до нас не дошел, но сохранились многочисленные списки. Произведение Кул Гали построено на коранических и библейских образах, берущих начало в ассирийско-вавилонских преданиях II (второго!) тысячелетия до н.э.
"Международный сюжет" о прекрасном Юсуфе (об Иосифе Прекрасном) хорошо известен как на Востоке, так и на Западе, – возможно, еще и этим объясняется такая необычайная популярность бессмертной поэмы Кул Гали. Главная ее идея – стремление создать справедливое общество, осуждение распрей, призыв к миру. Если учесть, что книга была написана и стала широко распространяться в период нашествия Батыя, станет ясно, насколько актуальной она тогда была.
Впрочем, ею зачитывались и последующие поколения,
Поэма, написанная на кыпчакско-огузском варианте старотюркского литературного языка (литреатурное тюрки), дала толчок развитию всей тюркской поэзии. Турок Хамза, узбек Дурбек и многие другие средневековые мастера художественного слова считали Кул Гали своим учителем.
Однако Кул Гали был знаменит, причем еще при жизни, не только тем, что умел красиво и складно складывать слова в рифмованные строки. Практически вся его жизнь пришлась на времена диктаторского правления как местных правителей, так и пришлых. На это время приходятся и ужасная нищета народа, и непомерные налоги, и кровавые междоусобные распри. Величие и мощь этого царства тогда, как позже при Иване Грозном и Петр I в России, строились на крови и костях своих подданных. Тем не менее, находятся историки – и таких, надо заметить, большинство, – оправдывающие любую жестокость при создании жесткого централизованного государства. Хотя история многовариантна, в ней почти всегда есть выбор, "жесткие государственники" непременно порождают "демократическую оппозицию". К ней мы можем причислить и Кул Гали.
Главным противником диктаторского курса выступало братство "Эль-Хум", созданное в Биляре. Ныне разрушенный Биляр – вторая столица Волжской Булгарии, с ее белокаменными дворцами, мечетями и минаретами, централизованным водопроводом и общественными банями превосходила по размерам тогдашние Париж и Рим.
Членами братства были в основном шакирды (студенты) университета "Мохаммад-Бакария", известного во всем мусульманском мире. У местной знати это заведение имело дурную репутацию из-за чрезмерного, как им казалось, сочувствия простому люду. Как поучал один сановный вельможа своего сына: "Если ты побываешь в его стенах, не сможешь стать хорошим правителем".
В братстве "Эль-Хум" верховодила воинствующая группа "Амин", символом которой был алп (дух) Карга – грач. Поэтому аминовцев называли "грачами", которые вынашивали план свержения "злого правителя" и воцарения вместо него "доброго", сочувствующего идеям братства.
Поначалу все шло по плану. Бунтовщики освободили 300 пленников, захватив зиндан (тюрьму) "Шайтан Бугаз". Мятежники вышли на улицы и стали грабить дома "билемчеев" – чиновников, собиравших налоги. Когда правитель собрался бежать из столицы, ему навстречу попался сеид Мирхуджа – отец Гали, преспокойно расхаживающий по мятежному городу.
– Разве ты не покинешь Биляр вместе со мной? – спросил его эмир.
– Цари могут бежать и возвращаться, но улемы всегда должны быть вместе с народом, – последовал ответ.
Кул Гали тогда было 10 лет, он с детства впитал свободолюбивый дух братства "Эль-Хум" и всю свою жизнь посвятил воплощению несбыточной в общем-то, как учит вся мировая история, мечты – созданию Царства Добра и Справедливости на своей земле. "Грачи" не собирались сдаваться, плетя один заговор за другим. Поступив в "Мохамад-Бакарию", Кул Гали становится активным членом братства "Эль-Хум". Вместе с другим шакирдом – отпрыском царствующей династии Мир-Гази (несмотря на косые взгляды родителей, дети правителей все же поступали в столь нелюбезный их сердцу университет) – он стал руководителем аминовцев.
Старые летописи рассказывают об арском бунте начала XIII века, который докатился до крупных городов – Кашана, Мартюбы и Алабуги, где восставшие в клочья изорвали книгу Гали о Юсуфе. Поистине, крестьянский бунт – бессмыслен и беспощаден! Кул Гали тогда сидел в тюрьме, его освободили и жестоко избили. Сторонники муллы стали уговорить, чтобы он "ради веры и державы" стал кашанским сеидом – один из ключевых духовных постов в тогдашнем государстве. Восстание в очередной раз было утоплено в крови, но просвещенного муллу простили.
– После того, как пострадал от голытьбы, надеюсь, ты больше не будешь ее защищать? – задали ему вопрос.
– "Добрый царь" вначале посадил меня на цепь неволи, а "злые язычники" ее разорвали, – ответил Кул Гали.
Похоже, с этого момента глава суфийского братства пересмотрел свои взгляды и полностью отказался от насильственных методов, но не от борьбы.
Не исключено, что сожжение книги было организовано самими властями. В сказании о Юсуфе есть стих, где доказывается необходимость перехода власти от старшего брата к младшему, как к более мудрому и справедливому. Подозрительный правитель усматривал здесь намек на тогдашнюю ситуацию в Булгаре: у него были младшие братья, один из них симпатизировал "грачам", и тоже мог претендовать на царский престол. Поэтому, когда книгу о Юсуфе восстановили, в ярости ее растоптали и приказали схватить автора, как зачинщика смуты.
Но сделать это было не так просто. Несмотря на то, что Кул Гали публично заявил об отрешении от какой бы то ни было власти, от светской и духовной, мулла реально влиял на события, происходящие в государстве. Авторитет его был очень высок! Благословения знаменитого муллы добивались и знатные вельможи, и простые люди. Дома, где он останавливался, объявлялись святыми и превращали в мечети – "Отуз", "Дервиш Гали"… Сам Гали тоже считался аулией, то есть святым и неприкосновенным.
Узнав о том, что его собираются арестовать, мулла тихо произнес слова, которые вмиг разнеслись по всей державе:
– Тот, кто переправится через Агидель (Каму), – утонет.
Охотников испытывать судьбу не нашлось: все знали, что Гали зря слов на ветер не бросает. Правда, нашелся один отчаянный смельчак – не ведающий страха сардар Гуза. О том, что с ним стало, – говорить, наверное, излишне. Да, его отряд накрыло беспощадной камской волной.
Мир-Гази – университетский товарищ Кул Гали – помог опальному поэту скрыться от гнева жестокого эмира: сначала отвез в Булгар, а оттуда отправил с торговым караваном в Хорезм.
Но там его уже поджидал другой завоеватель, еще покруче местного. Как пишут летописи, "вождь татар" Чингиз-хан вторгся в Хорезм.
В древних тюркских государствах власть часто менялась от одной царствующей династии к другой. Но их поданные, народ по языку, крови, традициям, вере был один и тот же – это был тюркский или татарский народ.
Вот как об этом писал английский профессор Паркер:
«Я уже в «China Review, vol. XX» довольно долго доказывал, что … скифы, гунны и тюрки были различными стадиями исторического развития одних и тех же племен; затем Шавань, Хирт и другие авторы более детально исследовали данную проблему».
Паркер называл все эти тюркские племена одним собирательным названием – Татары.
Булгарское государство тоже входило в систему тюркских империй, являясь одним из развитых культурно-экономических центров. Казанский историк 19 века Хусаин Амирхан, пересказывая рукопись 17 века хивинского хана Абул Гази "Родословная Татар", приводит сюжет, в котором говорится, что город Булгар основал один из потомков Татар-хана, старшего брата Мунг-хана (его неправильно стали называть вместо "Мунга" – "Монголом", отсюда и пошло нелепое словосочетание "монголо-татары").
Так что, согласно древним летописям, в жилах грозных завоевателей Батыя и жителей Булгара текла одна и та же кровь их общего предка Татар-хана. И первых, и вторых поэтому смело можно называть Татарами.
Но так часто случается в истории, что самые жестокие войны возникают между самыми близкими родственниками.
Булгарскому эмиру не откажешь в прозорливости и политической хитрости. Он сразу понял, что имеет дело с грозным соперником, и через купцов вышел на связь с его сыном Джучи, владевшим кыпчакской частью Татарии. Джучи был не доволен доставшимся ему в правление уделом и хотел владеть Персией и Хорезмом. Эмир обещал Джучи помощь в обмен за нейтралитет по отношению к Волжской Булгарии. Однако тайный сговор вскоре стал известен в ставке Чингиз-хана.
Чингизиды считали себя господами всего мира. Что им до какого-то опального поэта Гали, который, спасаясь от захватчиков, скитался вместе с кочевниками по степи! Оймеки (кочующие племена – предки казахов), узнав, что беглец – сказитель, не выдали его чингизидам. Все степняки любят песни, они думают, что сказители могут говорить с Небом, и потому – святые. В благодарность Кул Гали сложил для них несколько красивых баитов, которые, возможно, и сегодня исполняются в степных аулах.
Некоторые считают, что именно после того, как попал к кочевникам, мулла Гали стал называть себя "кулом" – "рабом". Однако летописи утверждают другое: мулла так стал называть себя в Алабужской (Елабужской) тюрьме "в знак сочувствия угнетенному народу". Есть еще одна версия: приставку "кул" к своему имени Гали сделал по примеру суфийского шейха Кул Яссави, которого считал своим учителем.
Какой бы бескрайней ни была степь, новости доходят и до нее. Однажды Кул Гали получил отрадную весть: эмир умер, а правителем Волжской Булгарии стал его друг Мир-Гази. Тогда Булгария вела войну с кочевниками и захватила в плен большой отряд оймеков. Явившись во дворец к эмиру, Кул Гали потребовал их освобождения и немедленного снижения налогов для всего податного населения. Как неудивительно, эти требования были тут же выполнены – казалось, наконец-то, стала осуществляться идея-фикс мятежного муллы о Царстве Добра и Справедливости на древней земле Итиля (Волги). Однако все надежды рухнули после того, как эмир внезапно заболел и умер, возможно, не без чьей-то помощи. И все вернулось на круги своя.
А тут к столице подошли войска Батыя. Осада Биляра длилась 45 дней. В кровавой мясорубке погибла жена Кул Гали. Иногда говорят, что та же участь постигла и самого муллу. Но в летописях приводится другая версия. "Победители" умерщвляли одного пленного за другим, пока не дошла очередь и до Кул Гали. И вот уже палач занес над ним свой острый меч, как кто-то крикнул из толпы:
– Его нельзя казнить – ведь это верховный кахин, аулия. Его гибель принесет вам несчастье.
Суеверный Батый испугался и отпустил муллу с миром. Но тот не уходил, беспрестанно читая молитву, чтобы ободрить ею своих обреченных на смерть товарищей. С лобного места Кул Гали увели силой.
Войска Батыя пошли на Запад завоевывать новые страны, стремясь дойти до "последнего моря", а несчастный мула с великого горя слег в постель. Больше он никогда не поднялся. Его хотели перевести в Нур-Сувар, но довезли лишь бездыханный труп, на груди которого покоилась древняя летопись "Хон Китабы" (то есть "Книга о гунах"). Это случилось в начале 40-х годов XIII столетия.
Конечно, это всего лишь легенды, и сегодня невозможно доказать их подлинность. Но легенды не рождаются на пустом месте. Они лишний раз подтверждают, что современные татары имеют древнюю, сложную, богатую историю и культуру, уходящую корнями вглубь веков.
Улуг Мохаммад – основатель Казанского ханства
Все империи рано или поздно разрушаются.
Как карточный домик, рассыпались необъятные владения Александра Македонского, растаяла, как дым, могучая Персидская держава, рухнул "вечный Рим". Пришло время – раскололась и Золотая Орда. Выкарабкиваясь из-под ее обломков, формировались новые самостоятельные государства. Наиболее сильными из них оказались три: Московское княжество, Крымское и Казанское ханства. Но вот причуды истории: каждое из этих молодых государств, не успев опериться и вкусить все сладости суверенитета, стало думать не о том, как лучше обустроить свою внутреннюю жизнь, а нацелилось на захват оставшегося почти бесхозным имперского наследства.
Возможно, прав историк Лев Гумилев, говоря, что сам географический ландшафт евразийских просторов наталкивал на создание единой централизованной державы. Но где утвердится ее столица, после того как захиревший Сарай окончательно сойдет с политической арены? В Москве, Бахчисарае, Казани? Чтобы ответить на этот узловой вопрос истории, понадобилось около 100 лет.
Поначалу фортуна улыбалась ордынскому хану Улуг Мохаммаду. 100-процентный чингизид, отпрыск знатного хана, внук знаменитого Тохтамыша привык мыслить вселенскими масштабами, удел провинциального казанского бека его не устраивал. Возрождение Золотой Орды с центром в Казани – вот уровень притязаний властолюбивого ордынца. Но основной соперник – московский князь Василий, которому Улуг Мохаммад в бытность свою ханом в Сарае самолично вручал ярлык на княжение, – тоже был не лыком шит. Если с сарайскими ханами еще считался, то казанских, считая себе ровней, пытался посылать куда подальше. Только после нескольких набегов на Москву и захвата в плен Василия "выход" (дань) московиты стали давать не в Сарай, а в Казань. Для того чтобы выкупить московского князя из плена, понадобилось "от злата и сребра, и от портища всякого, и от коней, и от доспехов пол-30 тысящ"…
Для сбора дани (на самом деле, как сегодня сказали бы "федерального налога") в города московитов поехали казанские чиновники. На ярмарках все громче стала раздаваться татарская речь, над православными кварталами возвысились минареты мечетей, с которых муэдзины выкрикивали звучные азаны. Впрочем, они и раньше здесь призывали правоверных к молитве. Московский посол не сильно лукавил в Стамбуле на приеме у турецкого паши, когда заявлял: "Мой государь не есть враг мусульманской веры. Слуга его царь Саин-Булат господствует в Касимове, царевич Кайбула в Юрьеве, Ибак в Суржике, князья ногайские в Романове: все они свободно и торжественно славят Магомета в своих мечетях…"
Дипломаты, как известно, любую ситуацию могут повернуть выгодной стороной, но оппозиции московского князя во главе с Дмитрием Шемякой она сильно не нравилась: "Зачем привел татар на нашу землю и города с волостями отдал им в кормление?" Только вопросами дело, понятно, не кончилось – Василия низложили и выкололи глаза, после чего он стал зваться не иначе, как Темный.
Но друзья-татары – царевичи Касим и Якуб – в беде не оставили, помогли вернуть московский престол. Из всех историков, пожалуй, Михаил Худяков наиболее щедр на комплименты в адрес Улуг Мухаммада: "Большой ум, громадная энергия, колоссальная предприимчивость" – это еще скромная характеристика. По мнению Худякова, "план основания Казанского ханства можно назвать гениальным".
И еще: "Личность Улуг Мохаммада, несмотря на скудость сохранившихся о нем известий, рисуется в качестве весьма выдающейся. Царствование его в Сарае было блестящим, и суверенитет над Россией был прочным и непрерывным. Принужденный оставить Сарай, он отправился в Крым и основал там независимое государство… Вынужденный вторично покинуть престол, Улуг Мохаммад не пал духом и вступил в пределы России. Одержав победу у Белева, он решил по примеру Крымского ханства отторгнуть от Сарая все Среднее Поволжье и основать там самостоятельное государство. Этот грандиозный замысел был выполнен им чрезвычайно успешно… Мало того, ему удалось в пределах России создать самостоятельное государство – ханство Касимовское".
Выдающейся исторической личностью Улуг Мохаммада считал и знаменитый татарский писатель Гаяз Исхакый. Одна из последних его книг, написанных в эмиграции в Турции, так и называется "Олуг Мохаммад". Вот финал этой исторической пьесы:
«Василий (поднимает чашку с кумысом). За ваше здоровье, ваше ханское величество!
Хан. За здоровье страны! (Пьет кумыс.)
На костылях входит дервиш Абульмехсин.
Абульмехсин (говорит дрожащим голосом.) Война закончилась, а мне стать шахидом так и не пришлось. И что теперь делать?
Олуг Мохаммад. Мы назначим тебя главой веры к чувашам и черемисам, чтобы занялся их просвещением. Ты не умрешь, будешь множить число мусульман! (Якубу) Отвезешь великого князя Василия в Москву и посадишь на трон. Да здравствуют мир и согласие»!
Если абстрагироваться от худяковской патетики и обратить внимание на экономику Казани того времени, надо признать, что она была на подъеме, и не только благодаря московскому "выходу". Бурно развивались ремесла, в том числе металлургия: достаточно сказать, что первые пушки отливались в Казани, и именно отсюда они попали в Москву, а не из Европы, как думали раньше. Казань превратилась в крупный центр международной торговли, на "гостином острове", как раньше в Болгаре на Ага-Базаре, ежегодно проходили знаменитые "Казанские ярмарки" (позже подобные "всероссийские торжища" будут переведены в Нижний Новгород, или Ибрагимов, как назывался сей град при основании). Но кончилось правление Улуг Мохаммада трагично. Его убили (правда, некоторые исследователи, в том числе М.Худяков, утверждают, что хан умер своей смертью, от старости).
Есть несколько версий убийства Улуг Мохаммада, назовем две. По Л.Гумилеву, Улуг Мохаммада убил его сын Махмутек, и именно сын, а не отец основал Казанское ханство в 1445 году. Его брат Касим взял на себя бремя мести за отца, став верным союзником московского князя Василия Темного, который выделил ему надел, получивший название Касимовского княжества.
Согласно другой версии – Ф.Нурутдинова – Улуг Мохаммад пал от меча своего брата Кара-Якуба. Один из сыновей Улуг Мохаммада, а именно Касим, встал на сторону дяди. И не Касим, а Махмутек поклялся отомстить за убиенного отца. Так Касим, получивший Касимовское княжество, и Махмутек, правивший в Казани, превратились в непримиримых врагов. Последователей первого стали называть "касимовские татары", последователей второго – "казанские татары".
Москва умело играла на этой вражде, поддерживая партию Касима. Чем это в конечном счете закончилось, хорошо известно: Иван Грозный в 1552 году взял Казань. Некоторые исследователи, например С.Алишев, говорят о том, что, несмотря на сильную децентрализацию, Булгарский улус в рассматриваемый нами период еще продолжал существовать. Помимо ослабевшего собственно Булгарского бекства и набиравшего силу "Казанского царства", в него входили Жукотинское (возле современного Чистополя) и Кирменчукское (возле Мамадыша) княжества, а также бекства Чаллы, Алабуга и другие.
По одной из версии, Махмутек был не самостоятельной фигурой, а лишь ставленником местных беков, и занимал скромный пост улугбека (губернатора) Казани. За ним и его потомками за верное служение Казани этот пост был закреплен якобы навечно. Так завершилась династия прежних ханов в Казани и началась династия золотоордынская…
В этой междоусобице Казань прозевала главное: инициатива медленно, но верно переходила к Москве. Любопытно, как трактует ее возвышение один из авторов евразийской идеи – князь Николай Трубецкой: по его мнению, просто произошла "замена ордынского хана московским царем с перенесением ханской ставки в Москву".
С такой оценкой вполне солидарен и Лев.Гумилев.
"Бермудский" треугольник Нурсултан: Москва-Бахчисарай-Казань
Так получилось, что эта женщина оказалась в эпицентре политической жизни Восточной Европы конца XV-начала XVI веков. Тогда шла упорная борьба за лидерство между Московским княжеством, Казанским и Крымским ханствами, в которой политические интересы тесно переплелись с личными. Судьбе было угодно разбросать близких Нурсултан именно в этом треугольнике: муж Менгли-Гирей правил в Бахчисарае, старший сын Мухаммад-Эмин – в Казани, младший Абдул-Латиф – в Звенигороде. Сердце верной жены и любящей матери разрывалось на три части…
Нурсултан была дочерью знатного ногайского бека Тимура. Казанские ханы часто находили себе жен в степных юртах. Так было до Нурсултан и после нее – о судьбе "крестьянской царицы" Сююмбике нам уже представился случай рассказать в первой книге «Кругом одни татары» серии «След татар».
Первым мужем Нурсултан был хан Халиль. О нем почти ничего не известно, правил он недолго и умер в 1467 году, не оставив наследства. Халиль и вошел-то в историю лишь благодаря шумной известности своей жены, которая пережила его почти на полвека. Некоторые исследователи даже сомневаются, а существовал ли вообще такой хан…
Тогда согласно мусульманским и тюркским законам на вдове умершего должен был жениться его брат. Так было заведено и у древних бедуинов, от которых и пришел на Волгу ислам. Обычай преследовал гуманные цели: женщина без поддержки мужчины в старину была обречена на голодную смерть. Шариат в Казанском ханстве соблюдался неукоснительно, жизнь его граждан, начиная от рядовых крестьян и кончая царствующей семьей, была строго регламентирована. Вопрос об устройстве дальнейшей судьбы Нурсултан после смерти ее мужа не возникал – у Халиля был брат Ибрагим, который вместе с ханством унаследовал и жену бывшего правителя. Ибрагим правил 12 лет и тоже умер. Вот тут-то и разгорелись страсти.
Кому достанется отцовский престол?
Дело в том, что у Ибрагима от первого брака с Фатимой был сын Али. На него поставила ногайская группировка, ориентированная на торговые связи со Средней Азией. Партии, сформировавшейся вокруг Мухаммад-Эмина – старшего, десятилетнего сына Нурсултан, – не оставалось ничего другого, как искать поддержку на Западе, в Москве. Тем паче, что Мухаммад-Эмин вскоре был определен на временное жительство в Московское княжество, где получил в управление город Коширу.
Великий князь Московии Иван III вел сложную политическую игру. Поговаривают, что именно он стал тем закулисным "сводником", который устроил брак Нурсултан с крымским ханом Менгли-Гиреем. Москве такой брак был весьма выгоден. Учитывая, что сначала старший, а потом младший сын новой жены Менгли-Гирея жил под присмотром великого князя, появлялась надежда, что с сильным и воинственным Крымом удастся поддерживать мирные отношения. Вся кипучая энергия Нурсултан впоследствии была направлена на то, чтобы вызволить Абдул-Латифа из затянувшейся на долгие годы почетной "московской командировки". Это обстоятельство стало главным козырем Ивана III и сменившего его великого князя Василия в развитии дипломатических отношений в треугольнике Москва – Казань – Бахчисарай.
В Казани борьба за ханский престол шла с переменным успехом, в конце концов победила партия Мухаммад-Эмина, что опять было на руку Москве. Если время правления Ибрагима отмечено ожесточенными войнами, то при его сыне наступил мир. С 1487 по 1496 год не зафиксировано ни одной военной стычки между Казанским ханством и Московским княжеством, которое постепенно превращалось в самостоятельное независимое государство. Казанское правительство официально признало равенство обеих сторон. Оба государя называли друг друга братьями. "Великому князю Ивану Васильевичу всея Руси, брату моему Магомет-Аминь челом бьет", – вез гонец депешу в Москву. Оттуда следовал ответ: "Магомет-Аминю, царю, брату моему, князь великий Иван челом бьет".
В отношениях между соперничавшими державами установилось хрупкое равновесие. Наступил узловой момент истории, когда определялся главный вектор ее дальнейшего движения. История не терпит сослагательного наклонения, но народам Евразии, кажется, был предоставлен шанс выбрать "европейский" путь и построить на обломках Золотой Орды ряд самостоятельных государств подобно тому, как на развалинах Римской империи возникла современная Европа, где даже крошечные территории имеют суверенный статус. Но Москва заразилась от Казани "имперским вирусом", который проник в дворцовые покои великих князей. Не сумев избавиться от комплекса "ханской плети", идеологи-монахи (служившие не Отчизне, а заграничным хозяевам), стали нашептывать на ушко своим правителям ущербную, в общем-то, идейку об особой миссии Москвы в определении судеб человечества, – как третьем Риме. В ход были пущены византийская лесть и византийская хитрость. А вслед за этими сестрами приходит Дьявол и, как всегда, обманув, вместо "Царства Божьего на Земле" начинает строить "тюрьму народов"…
Дружескую переписку с Москвой вел не только Мухаммад-Эмин, но и его мать – Нурсултан. Ее главной заботой стало вызволение из "братских" объятий великого князя младшего сына Абдул-Латифа. Хотя ему был дан в управлении город Звенигород, по сути, он оставался заложником, что сковывало действия Казани и Бахчисарая. Отчим Менгли-Гирей, как описывают хронисты, особых чувств к своим пасынкам не испытывал и ограничивался посланием время от времени грозно-ласковых депеш в Москву, к которым там привыкли и ограничивались уклончивыми отписками. Отчаявшись, Нурсултан предприняла новый ход.
Как известно, каждый правоверный мусульманин хоть раз в своей жизни должен совершить хадж в Мекку, и женщину в этом трудном и опасном путешествии должен сопровождать близкий родственник. Мы не знаем, какие истинные мотивы двигали Нурсултан, но, предпринимая хадж, она надеялась, что христианское воспитание великого князя не позволит ему препятствовать исполнить матери вместе с сыном свой религиозный долг. Она ошиблась, Абдул-Латифа не отпустили. Сердце матери разрывалось от горя. Если "крестьянская царица" Сююмбике осталась в памяти народной как любящая жена, сохранявшая верность мужу даже после его смерти, то Нурсултан, прежде всего – как любящая мать. Однако из этого "бермудского" треугольника Москва – Бахчисарай – Казань не было выхода. Впрочем, если гора не идет к Магомету, то…
Да, Нурсултан сама поехала к своим сыновьям. 21 июля 1510 года ее торжественно встречали в Москве, где она пробыла около месяца. Затем почетный караул во главе с Иваном Кобяком (из крещенных татар) сопроводил высокую гостью в Казань – город ее юности, где родились любимые сыновья и дочь. Погостив у старшего сына 9 месяцев, Нурсултан снова поехала к младшему в Москву, где задержалась почти на полгода. И только 5 декабря 1511 года по санному пути в сопровождении князя Тучкова вернулась в Крым. Поездка носила не только личный, но и дипломатический характер.
Любящее сердце матери способно растопить и камень. Хотя политика не терпит сантиментов, но в данном случае можно с уверенностью сказать, что во многом благодаря Нурсултан в отношениях трех враждующих государств наметилось заметное потепление. Между Казанью и Москвой был даже заключен "вечный мир".
Увы, вечного на этой грешной земле ничего не бывает. Подобное мирное соглашение на вечные времена уже пытались заключить несколько веков прежде описываемых здесь событий булгары с русичами. После краткого перемирия войны возобновились с новой силой.
Так произошло и на этот раз, когда на московском престоле воцарился Иван IV, которого не зря назвали Грозным.
Мухаммедьяр: «Главный враг – внутри ханского двора»
Казань издревле была обителью для ученых и поэтов. Библиотека университета "Мухаммад Аламия" гостеприимно раскрывала свои книжные сокровища перед алчущими знаний, а трибуной для странствующих поэтов-дервишей служили базарные площади.
Казанские ханы, как истинные восточные правители, любили услаждать свой слух медоречивыми голосами придворных поэтов. А Сафа-Гирей и сам, отдыхая от ханских забот, баловался стишками, выдавая иногда неожиданные рифмы. Еще при дворе первого казанского хана Улуг Мохаммада славился необыкновенным талантом стихотворец-акын Асан Кайгу. После смерти хозяина он вернулся в степь – песни Кайгу были необычайно популярны среди ногайцев и других тюркских кочевых племен.
"Удивительно, этот город полон поэтами малыми и великими", – сказал о Казани известный путешественник.
Но по-настоящему великих мастеров слова было, конечно, немного. Сын Махмуда-ходжи Мухаммедьяр – один из них, можно сказать, даже первый среди них. Многие исследователи относят творчество Мухаммедьяра к суфизму, считая его последователем величайшего классика средневековой тюркской поэзии Алишера Навои и философа-суфия Абдрахмана Джами.
Суфизм – сложное явление, характерное не только для искусства и философии, но и для других сфер жизни, в том числе бытовых отношений.
Суфизм – это жизненная позиция и определенный настрой, отличающийся внутренней оппозицией к существующему порядку вещей. Обычно он возникает в такие периоды истории и в таком обществе, где нельзя открыто и прямо заявлять о своих убеждениях, – для этого используются различные притчи, аллегории, эзопов язык…
Высказываются предположения, что Мухаммедьяр был членом тайного суфийского ордена. Это кажется спорным, поскольку поэт вопреки созерцательно-отстраненной философии суфиев принимал самое активное участие в политической жизни Казанского ханства первой половины XVI века. К тому же его творчество открыто и доступно, Мухаммедьяр говорил о простых и понятных всем вещах. Например, о "священном газавате" – необходимости защиты веры и Отечества. Хотя в главных его произведениях "Тухфа-и мардан" ("Дары мужей", 1540 г.) и "Нуры содур" ("Лучи сердец", 1542 г.) проглядывают и суфийские мотивы, которые, впрочем, при более широкой трактовке коранических заповедей нельзя считать противоречащими канонам традиционного ислама.
Любимая притча поэта о драгоценной жемчужине, найденной в желудке рыбы, повторяется им в разных вариациях несколько раз. Суть истории такова. Простой носильщик дров, не раздумывая, отдает последние две таньги бедному юноше, которого избивает жестокий хозяин за какие-то долги. В результате бедняга спасен, но дома дети ложатся спать голодными.
Однако есть в мире Высшая справедливость!
На следующий день носильщик обменивает на том же базаре целую вязанку дров на тощую рыбешку, на которую и смотреть-то никто не хочет. Богоугодный поступок обязательно должен быть вознагражден – носильщик распарывает брюхо рыбе и находит сверкающую жемчужину. Семья благородного бедняка спасена.
Рассказ имеет и скрытый подтекст, доступный лишь посвященным в тайный язык восточных образов. Это не просто жемчужина, а некий философский камень, на поиск которого иные мудрецы безрезультатно тратят всю жизнь. Чистой воды суфизм!
Но, с другой стороны, притча утверждает общечеловеческие ценности, под коими подпишется не только правоверный хазрет, но и поп, и раввин, и буддийский монах, и даже атеист, придерживающийся широких гуманистических взглядов.
Философский поиск Мухаммедьяра направлен на открытие универсального ключа, с помощью которого можно разрешить все жизненные проблемы. Это не всеобщая Любовь, как у суфиев, в чем они схожи с христианами, а идея Справедливости. Все люди – знатный эмир и простой носильщик – равны перед Богом, и между ними должны быть справедливые, равноправные отношения. Только Справедливость может установить мир и гармонию в семье, обществе, государстве. "Лучше один час совершать справедливость, Чем молиться шестьдесят лет", – писал поэт.
Несмотря на то, что Мухаммедьяр хорошо знал жизнь ханского двора и его самого хорошо знали при дворе, он не был придворным поэтом. Главные герои его произведений – простые люди, зарабатывающие себе на хлеб собственным трудом.
Поэт причислял к ним и себя, говоря: "Есть в этом городе бедняга скромный…"
Именно к этим людям было обращено и его творчество:
Хочу достичь я в славе торжества,
Чтоб возлюбил народ мои слова.
Поэт часто использовал художественные образы и метафоры классической восточной поэзии, создавая своеобразную "базу данных" для будущих мастеров слова.
Так, несколько веков спустя другой знаменитый татарский поэт Габдулла Тукай в "Разбитой надежде" использовал обкатанный Мухаммедьяром мыслеобраз "Тело – клетка для души".
Мухаммедьяр жил и творил в сложную эпоху кризиса Казанского ханства, когда резко обострились отношения между Казанью и Москвой. Поэт кожей чувствовал приближение неминуемого краха. Но главную угрозу видел не во внешнем враге, а внутреннем – ханский двор, как ржа, разъедали междоусобные распри, зависть, лесть, безудержное стремление к власти и богатству. И все это на фоне удручающей нищеты простого люда, задавленного непосильными налогами.
Справедливость была попрана, нравственные устои расшатаны.
Как человек верующий, Мухаммедьяр не мог не знать грозного айята священного Корана: "И заменит вас другим народом". А как историк (поэт написал "Историю Казани"), он видел, что это пророчество всегда сбывается. Когда в народе слабеет вера в Творца и нарушаются Божьи заповеди, его ждет наказание, а возможно, и гибель. За примерами далеко ходить было не нужно. Куда делась великая Волжская Булгария? А непобедимая Золотая Орда?.. Их, так же как в свое время могущественный Арабский халифат, сгубили распри, роскошь, интриги, забвение моральных принципов, установленных на Земле Всевышним.
Мухаммедьяр предостерегал:
Не внешний враг земле погибель шлет:
От гнета мук, от них улус падет.
Кяфир грехом себе приносит вред,
А гнет страну ведет в пучину бед.
Но когда правители слушали поэтов!..
Впрочем, Мухаммедьяр и сам мог стать правителем. Сохранилась его родословная – "Шеджере Шаеха Дирбеша".
Родился Мухаммедьяр примерно в 1497 году в семье ходжи Махмуда, который был внуком одного из первых казанских ханов. А его мать – Саулия-бикэ – приходилась сестрой влиятельному булгарскому эмиру Саин-Юсуфу. Мухаммедьяр занимал в ханской администрации ответственный пост хранителя гробницы известного государственного деятеля и поэта Мухаммад-Эмина, что могло быть доверено только авторитетному и знатному вельможе. Но до этого он успел послужить послом в Персии – Иране, куда был отправлен его политическими противниками, которые видели в нем потенциального претендента на казанский престол.
Однако опасения были напрасными – Мухаммедьяр не стремился к власти, и, когда в 1549 году она буквально упала в его руки, он отказался от ханского трона в пользу малолетнего сына Сафа-Гирея – Утямыша, регентшей при котором была легендарная Сююмбике. Именно Мухаммедьяр стал инициатором демократических реформ, позволивших ослабить налоговую удавку с крестьян, городских ремесленников, мелких торговцев и принесших славу "крестьянской царице". За что вскоре вместе с Сююмбике был посажен в тюрьму. Регентшу потом отправили в почетную ссылку в Москву, а Мухаммедьяр был освобожден захватившим престол Шахом-Али – ханы в Казани менялись как перчатки.
В том же поворотном 1549 году Мухаммедьяр отправляется с дипломатической миссией в Москву, но пропадает при загадочных обстоятельствах (по официальной версии, Мухаммедьяр пал при защите Казани). 8 августа великий князь Иван Васильевич хладнокровно отвечает Казани: "Магмедьяра толмача Казанского убили наши люди в Муроме". По другой версии, он был убит московскими казаками Северги Баскакова. Убийцы были пойманы и казнены.
Но в России с тех пор, зародилась нехорошая традиция дурного обращения с поэтами: сначала с чужими, а потом и с собственными.
Казанский летописец: "Над вымыслом слезами обольюсь"
Имя автора "Казанского летописца" науке неизвестно. О нем сохранились весьма скудные сведения – только те, что он сам сообщил в кратком вступлении к своему "Сказанию о Казанском царстве". Для удобства мы его так и будем называть – Казанским летописцем, по названию сочинения.
Надо полагать, что человек, написавший практически первый в российской беллетристике исторический рассказ, был в свое время чрезвычайно популярен. Правда, научная достоверность приводимых им исторических фактов не выдерживает никакой критики – это не более чем его вымыслы и тенденциозные фантазии. Как бы сейчас сказали – "заказуха", но заказ выполнен добросовестно и даже, можно сказать, талантливо.
Известный историк Михаил Худяков, проводивший научную экспертизу сего сочинения и выявивший многочисленные случаи диффамации и откровенной лжи, обратил внимание, например, на такой эпизод. Описывая продолжительную болезнь казанского хана Мухаммед-Эмина, Казанский летописец применяет к нему убийственный апокриф об Ироде. Сравнив погром 1505 года с избиением младенцев в Вифлееме, автор заключает: "И за сие преступление царя Казанского порази его Бог язвою неисцелимою…" Не стоит искать "в этом повествовании исторической правды, – делает вывод историк. – И, несмотря на это, сообщение "Казанского летописца" до конца XIX столетия пользовалось вниманием русских историков".
Добавим: "несмотря на это", иногда к нему обращаются и современные историки. Власть мифов и легенд настолько порою сильна, что не одна сотня лет требуется для того, чтобы освободиться от их гнетущего плена.
"Казанский летописец" – произведение знаковое, оно послужило одним из инструментов, с помощью которого самодержавная власть пыталась заложить основы великодержавной русской ментальности. Надо признать, что попытка была небезуспешной. Кто же выступил конкретным заказчиком?
Ответ очевиден, но сначала все же два слова об авторе "Казанской истории". Известно о нем, как уже говорилось, немного, только с его слов. Как он сам о себе пишет, "случи ми ся плененну быти" и прожить в Казани 20 лет. Русский пленник принял ислам и только после падения Казани в 1552 году вернулся в православие, поступив на службу к Ивану Грозному.
Есть версия, что он осуществлял тайное задание Москвы. Казанский летописец, видимо, был близок к ханскому двору, иначе откуда ему известны политическая подоплека тогдашних исторических событий и придворные сплетни? Одна из них касается любовной связи царицы-регентши Сююмбике с предводителем ханской гвардии Кучаком, ей посвящена даже целая глава "О любви блудной со царицею улана Кощака".
"Есть основания не доверять этому сообщению, – пишет Худяков, – и в нем легко можно видеть не исторический факт, а обычный вымысел автора, обладавшего неистощимой фантазией".
Казанский летописец обладал не только неистощимой фантазией, но и определенно литературным даром. Сочинение имеет продуманную композицию, в нем есть захватывающий сюжет и любовная интрига. Написано оно, по тогдашним меркам, довольно просто на старорусском языке с обилием церковной терминологии и фольклорных образов, доступных и понятных тогда практически всем. Адресовано оно было широкому кругу читателей: от простых воинов до знатных вельмож. Отсюда такая необычайная популярность на протяжении нескольких столетий.
Главная идея "Казанского летописца" – богоизбранность Ивана Грозного и оправдание взятия им Казани, изображение этого события в виде божьего промысла. Поэтому отыскать заказчика не составляет труда. Правда, заказ, возможно, был сделан не напрямую, а через православную церковь, в которой в середине XVI веке ведущую роль играл митрополит Макарий. Именно он в торжественной речи при возвращении Ивана Грозного из казанского похода сравнивал его не только с Дмитрием Донским и Александром Невским, но и с великим князем Владимиром, "просветившим русскую землю святым крещением". Не случайно хвалебной оды удостаивается не один "благоверны царь самодержецъ", а и "светеиши же митрополитъ Макареи".
Можно было объяснить появление тенденциозной "Казанской истории" по-житейски просто, не вплетая сюда большую политику. Дескать, намаялся человек в плену, натерпелся, вот в отместку и выдал, ну переврал при этом малость – так то от избытка чувств. Есть и такая версия. Однако она лопается при первом же внимательном рассмотрении. Такие книги пишутся обычно сразу, по горячим следам, пока еще не остыли обиды и оскорбления… А "Казанский летописец" появился более чем через 10 лет после освобождения автора из плена!
Именно в это время, в 1564-65 годах, обострились отношения Ивана Грозного с феодальной знатью. Казанский летописец намеренно искажает факты, умаляя вклад в казанский поход попавших в опалу воевод. И, вообще, Иван Грозный в его повествовании предстает как воплощение самой справедливости, а воеводы и бояре часто выглядят как жадные и трусливые, способные на любую низость, включая предательство. Вот откуда растут ноги у сказки "о добром царе и злых его слугах", в которую верило не одно поколение российских людей, и многие, похоже, продолжают верить и поныне.
Другая фундаментальная идея "Казанского летописца" – создание "образа врага". В качестве такого объекта выбрана Казань, которая иначе как "змеиное гнездо" и не называется. Для того чтобы основательно вбить этот образ в сознание читателя, приводится подробный мифологизированный рассказ о трехсотлетних русско-татарских отношениях, начиная с Золотой Орды и кончая падением Казани в 1552 году. Нужно было показать этот факт не как агрессивное нападение, а как законное возмездие и исполнение божьего промысла. По утверждению Казанского летописца, до Батыя "Рускiя земли" простирались до "Булгарских рубежов и до Камы реки", а "черимисы и другие варвары, не знающие Бога, платили дань Русскому царству". Иван Грозный якобы восстановил историческую справедливость – только и всего. Тем паче, как выясняется, об этом еще нагадали "Волхвы же, яко древле Елинистiи пророчествоваше о Христове пришествiе…"
Казань изначально предстает в неприглядном виде, поскольку возникла в "нечистом месте". Там, где "издавна… вгнездевся змiи великъ, страшенъ, о двою главу, едину имея змiеву, а другую главу волову…" Царь же "Саинъ Болгарскiи… возгради на месте томъ Казань градъ", который "стоить доныне, всеми Рускими людми видимъ и знаемъ есть, а не знающимъ слышимъ есть…"
Такими "ужастиками" густо усыпано все повествование "Казанского летописца", автор не скупится на черные краски, описывая Казань, где "вогнездися змiи лютъ… и распалашеся, яко огнь, въ ярости на христьяны, и разгарашеся яко огнь, пламенными усты устрашая, и похищая, и поглащая, яко овца, смиренныя люди Рускiя…"
Что мог подумать о Казани простой обыватель, никогда там не бывавший, после прочтения сих мрачных фантазий? Ну и поделом ей! А царь Иван – герой и народный заступник.
Вспоминаю, как будучи по служебным делам в первопрестольной, посмотрел одну любопытную передачу по Московскому TV, которое решило показать в телеэфире жизнь различных национальных общин столицы. Дело хорошее, и московские телезрители идею вроде бы приняли. Но знаете, какие вопросы они задавали? Приведу лишь один, наиболее характерный. Одна солидная дама вполне серьезно вопрошала: "А правда ли, что татарам разрешено убивать своих жен?"
Спасибо Казанскому летописцу, это его привет из глубины веков!
Душа, устав от тягостных будней, ищет сказки, готовая верить любым небылицам. Пушкин по этому поводу обронил замечательную фразу: "Над вымыслом слезами обольюсь!"
Но не забудем, что слезы могут быть и горькими.
Ибрагим Хальфин – первый татарский адъюнкт-профессор
К Ибрагим Хальфину, адъюнкт-профессору Казанского университета за помощью обращался американский коллега – зачем?
Американский ученый Отто Рериг изучал язык индейцев сиу, и ему показалось, что он близок к тюркским языкам. Для того чтобы подтвердить свои догадки, ему нужна была консультация специалиста, хорошо знавшего диалекты тюркского и урало-алтайского семейства языков.
Спустя 200 лет близость тюркского и индейских языков подтвердил татарский академик Абрар Каримуллин.
Но обо всем по порядку.
Вы можете представить, чтобы на должность учителя школы назначали указом главы государства? А в XVIII веке так оно и было. В 1769 году в Казанской гимназии по велению Екатерины II был открыт татарский класс, императорский указ гласил:
“…Учредить единожды навсегда при казанской гимназии для охотников класс того языка и определить учителем оного старой и новой в Казани татарских слобод депутата и тамошней адмиралтейской конторы толмача (переводчика. – Р.М.) Сагита Хальфина…”
Набирающая силу империя устанавливала новые контакты с Востоком, и ей нужны были грамотные чиновники, владеющие арабским, персидским и тюркскими языками. Где их готовить? Лучшего места, чем Казань, которая всегда служила своеобразным мостом между Западом и Востоком, не сыскать. Первая казанская мужская гимназия – первая провинциальная гимназия в России – была учреждена еще в 1759 году и давала хорошие знания в области многих наук, в том числе в изучении языков. Через гимназию прошло много знаменитостей, одним из первых ее окончил великий русский поэт Г.Р.Державин. Благодаря стараниям ее первого директора М.И.Веревкина, театрального драматурга и в будущем знаменитого академика, именно в Казанской гимназии впервые возник профессиональный театр европейского типа.
Сагит Хальфин был назначен на должность преподавателя татарского языка в столь знаменитое учебное заведение не случайно, он уже проявил свои творческие способности в качестве активного депутата в комиссии по разработке проекта Нового уложения (1767 г.). Хальфин не только преподавал татарский язык в гимназии, но и занимался научной работой.
Татарские книги тогда еще не издавались типографским способом, все книжное наследие народа сохранялось отдельными энтузиастами в виде ветхих рукописей. В 1778 году был напечатан первый светский букварь татарского языка “Азбука татарского языка с обстоятельным описанием букв и складов” в типографии Московского университета, его написал Сагит Хальфин, а затем составил сохранившееся в рукописи пособие “Татарский словарь и краткая татарская грамматика в пользу обучающегося юношества татарскому языку”.
В Казанской гимназии преподавали также его сын Исхак и внук Ибрагим. Общий педагогический стаж учительской династии Хальфиных составляет 60 лет. Исхак Хальфин известен еще и как переводчик на татарский язык полицейского устава “Положение Управы Благочиния” и “Учреждения для управления губерний Российской империи”, изданных в Азиатской типографии при Первой Казанской мужской гимназии. Последняя работа, выполненная очень быстро и грамотно, так понравилась Екатерине II, что она пожаловала автору чин губернского секретаря и денежную награду в 1000 рублей.
Но наибольших успехов добился Ибрагим Хальфин, который, как отец и дед, преподавал в гимназии татарский язык, а после открытия Казанского императорского университета работал там сначала в качестве лектора, а потом адъюнкт-профессора. Это был первый ученый из татар в университете, оставивший заметный след в его истории.
Помимо татарского И.Хальфин обучал турецкому и арабскому языкам, занимался исследованиями в области востоковедения. Учебных пособий по его дисциплинам не хватало, их попросту не было. Поэтому он стал писать и переводить учебники сам, издав “Азбуку и этимологию татарского языка” и подготовив вместе со студентом П.Юнаковым на татарском языке “Краткую российскую историю и географию”, а также арифметику. Роль Хальфина в просвещении татарского народа, приобщении его к достижениям российской и европейской культуры поистине огромна. Ученый лично приглашал своих соплеменников в гимназию и университет на различные торжественные мероприятия, театральные представления, руководствуясь принципом “лучше один раз увидеть…”.
Научная специализация Ибрагима Хальфина – история восточных народов, точнее, источниковедение – область, в которой до сих пор остается много белых пятен. Для того чтобы стать здесь настоящим профессионалом, мало знать восточные языки, необходимо еще разбираться в различных древних шрифтах и азбуках. В Казанском университете И.Хальфин дружил и плодотворно сотрудничал с выдающимся русским востоковедом Х.Френом. Общение, которое продолжалось и после переезда последнего в Петербург, было полезно обоим. Хальфин многому научился у Френа, именно с его подачи он знакомился с трудами известных европейских ориенталистов, а Френ с помощью своего ученика постигал восточные языки. Из наиболее значительных их совместных работ исследователи в первую очередь называют знаменитую “Родословную тюрков” Абуль-Гази Бахадур-хана. Благодаря ее изданию в Казани после текстологической редакции Ибрагима Хальфина этот замечательный исторический памятник тюркских народов был введен в научный оборот и стал доступен всем ученым-ориенталистам. Причем не только российским, но и зарубежным, о чем свидетельствуют многочисленные ссылки на него европейских историков. (Заметим в скобках, что первый перевод рукописи хивинского хана Абул Гази, осуществленный и изданный в 1770 году Тредьяковским и Миллером, назывался «Родословная Татар», а не «Родословная тюрок»).
Ибрагим Хальфин имеет и самостоятельные работы, самые известные из них – “Азбука и грамматика татарского языка” и “Жизнь Чингиз-хана и Аксак-Тимура, с присовокуплениями разных отрывков, до истории касающихся, кои все слова для обучающихся расположены по алфавиту”. Эти книги долгое время оставались единственными учебными пособиями по данной тематике и послужили образцами для написания новых более поздними авторами. Специалисты отмечают, что труды И.Хальфина были замечены такими видными в то время европейскими тюркологами, как Сильвестр де Саси, А. Давиде, Парч, Шпулер, Чарльз Рей, а также немецким историком Йозефом Гаммер-Пургештелем, которого высоко ценили Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
Казанский ученый Абрар Каримуллин, изучавший диалекты древних тюркских племен, совершил в Пушкинском доме в Ленинграде любопытную находку. Оказывается, имя Ибрагима Хальфина было известно не только в Европе, но и в Америке, о чем свидетельствует письмо американского ученого О.Рерига в Казанский университет, адресованное И.Хальфину. Отто Рериг прислал в Казань несколько писем, причем писал он по-татарски арабскими буквами. Это само по себе удивительно – в далекой Филадельфии нашелся человек, который выучил по книжкам татарский язык и обратился в Казанский университет за помощью к первому татарскому историку!
Что интересовало Отто Рерига?
Как пересказывает его письмо А.Каримуллин,
“Отто Рериг пишет Ибрагиму Хальфину, что у него имеются две его книги… и изъявляет свое желание познакомиться с его новыми работами по татарскому языку. Далее он сообщает, что давно занимается изучением татарского языка, о своих работах по описанию тюркских рукописей в библиотеках Парижа, о своем знакомстве с трудами известных тюркологов. Причину своего обращения к Ибрагиму Хальфину О.Рериг объясняет тем, что у него возникла необходимость глубокого изучения истории татар, диалектов языка, и поэтому он желает установить научные контакты и обмен новыми трудами по тюркологии”.
Дело в том, что американский ученый изучал язык индейцев сиу, и ему показалось, что он близок к тюркским языкам. Для того чтобы подтвердить свои догадки, ему нужна была консультация специалиста, хорошо знавшего диалекты урало-алтайского семейства языков.
Увы, Ибрагим Хальфин не смог ответить своему заокеанскому коллеге. По простой причине – в 1861 году, когда О.Рериг писал в Казань, И.Хальфина давно уже не было в живых, он умер в 1829 году. Как жаль – возможно, если бы их контакт состоялся, ученым удалось совершить удивительное научное открытие.
Гаврила Державин: Истину царям с улыбкой говорил
Вряд ли был в XVIII веке человек, который так хорошо знал Россию, как Гаврила Державин. Он изъездил ее вдоль и поперек, от северных и восточных границ до Белоруссии и Литвы, земли которых вошли в состав Российской империи после раздела Польши. Причем Державин знал жизнь различных социальных слоев не понаслышке, поскольку сам побывал в шкуре и рядового солдата, и карточного шулера, и губернатора, и знаменитого поэта. Он был также Генерал-прокурором Правительствующего Сената и первым Министром юстиции Российской империи.
Державин хорошо знал и жизнь национальных окраин, он и сам был потомком ордынского мурзы, как об сообщает профессор Альфред Хасанович Халиков в своей книжке "500 русских фамилий булгаро-татарского происхождения".
Родился Гаврила Державин в 1743 году в тридцати верстах от Казани в селении Сокуры Лаишевского уезда.
“Мурза, Багримов сын” – так предпочитал себя называть Державин в своих стихах. Как позже он сам писал в автобиографических “Записках”, происхождение от знатного татарского рода “льстило его воображению и доставляло ему поэтическую прикрасу” (о себе поэт писал в третьем лице). Действительно, еще в XV веке мурза Багрим (Ибрагим) уехал из Большой Орды в Москву на службу к Василию Темному, который его всячески обласкал и окрестил в православную веру. Так Ибрагим стал Ильей, от его детей пошли дворянские фамилии Нарбековых, Акинфовых, Теглевых. У Нарбека было три внука – Назарий, Алексей и Держава, ставший родоначальником нового рода. Наследников было много, земли дробились, и отцу Гаврилы – армейскому офицеру – досталось лишь крохотное поместье.
После смерти отца – тогда Гавриле исполнилось 11 лет – семья переехала в Казань. Это были самые трудные годы, вдова с детьми вела полуголодное существование. Впечатлительный мальчик на всю жизнь запомнил, как его матери пришлось “с малыми своими сыновьями ходить по судьям, стоять у них в передней по несколько часов, дожидаясь их выходу; но когда выходили, не хотел никто выслушать ее порядочно, но все с жестокосердием ее проходили мимо, и она должна была ни с чем возвращаться домой”.
По иронии судьбы Гаврила Державин спустя 50 лет становится первым российским министром юстиции, и вот какой наказ дает своим подчиненным:
Ваш долг: спасать от бед невинных,
Несчастным подавать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков.
Однако министром он пробыл недолго, за чересчур “рьяную службу” император Александр отправил его в отставку со словами: “Как это вы, Гаврила Романович, идете в Сенате против моих указов и критикуете их, тогда как ваша обязанность их поддерживать и настаивать на непременном их исполнении”.
Родители Гаврилы были малообразованны, но старались дать детям хорошее воспитание, что, впрочем, из-за отсутствия средств не всегда получалось. Обучением Гаврилы сначала занимались “сосланный в каторжную работу” немец Розе и другие армейские товарищи отца, от которых он мало чему научился, если не считать немецкого языка. Мальчику повезло: в 1758 году в Казани открывается первая гимназия, куда он поступает в числе первых на казенный счет со своим братом Романом. О годах учебы он оставил воспоминания:
“Более же всего старались, чтоб научить читать, писать и говорить сколько-нибудь по грамматике и быть обходительным, заставляя сказывать на кафедрах сочиненные учителем и выученные наизусть речи; также представлять на театре бывшие тогда в славе Сумарокова трагедии, танцевать и фехтовать в торжественных собраниях по случаю экзаменов”. В учебе он преуспевал, особенно в “предметах, касающихся воображения”. Известно также, что Гаврила Державин участвовал и даже возглавлял археологические раскопки Булгарского городища в селе Успенском бывшего Спасского уезда.
В 1762 году будущего поэта призвали в армию. Поскольку он показал в гимназии блестящие успехи, был зачислен в инженерный корпус. Но произошла какая-то путаница в бумагах, и Державин оказался в казармах Преображенского полка в Петербурге, где пришлось тянуть солдатскую лямку в течение долгих десяти лет. Родные и друзья оставались в Казани, с которой он никогда не прерывал связь. Несколько раз приезжал к матери, но в 1784 году уже не застал ее в живых. Державин переписывался с казанским поэтом Панаевым и профессором Казанского университета Городчаниновым. “Казань, мой отечественный град, с лучшими училищами словесности сравнится и заслужит, как Афины, бессмертную себе славу”, – писал поэт в одном из своих писем.
Неизвестно, как долго бы еще маршировал на плацу Гаврила Державин, а ночью после отбоя “марал стишки”, если бы не… Пугачев. Тридцатилетний Гаврила почувствовал, что это его шанс – по образованию и честолюбию, да и по происхождению он мог рассчитывать на нечто большее, чем бесконечная солдатская муштра и карточные забавы. Его жизнь катилась по наклонной, от скуки он выучился играть в карты, проявив себя азартным игроком: “ездил, так сказать с отчаянья, день и ночь по трактирам искать игры; познакомился с игроками или, лучше, с прикрытыми благопристойными поступками и одеждой разбойниками; у них научился заговорам, как новичков заводить в игру, подборам карт, подделкам и всяким игрецким мошенничествам”.
Карты его едва не сгубили, когда, будучи в отпуске в Москве, Державин проиграл все деньги, присланные матерью на покупку имения. Но справедливости ради нужно заметить, что карты его и не раз выручали, когда, не имея средств к существованию, он неожиданно за один вечер выигрывал целое состояние. Правда, так же легко его и спускал.
В общем, нужно было как-то менять свою жизнь. В 1773 году в Казань во главе войск, направленных на усмирение Пугачевского бунта, назначается Бибиков. Державин, которого недавно, после 10 лет службы, произвели в офицеры, напрашивается к нему на прием и просит взять с собой, обещая быть полезным, поскольку он уроженец Казани и хорошо знает местность. Бибиков берет его с собой и, кажется, скоро об этом жалеет. Хотя поначалу все складывалось как нельзя лучше: офицер Державин успешно исполняет несколько секретных поручений в Симбирске, Самаре и Саратове и, вообще, проявляет всяческое служебное рвение и военные таланты. Однако его вспыльчивость и неумение угождать начальству перечеркнули все былые заслуги, и дело едва не закончилось судом. Державин был прям и нелицеприятен, он не умел выстраивать свои отношения с теми, кто стоял выше его по служебной лестнице. Как он сам о себе писал:
Что я не из числа льстецов;
Что сердца моего товаров











