Читать онлайн Бенгальские огни памяти
- Автор: Алексей Мельников
- Жанр: Любовное фэнтези, Мистика, Юмор и сатира
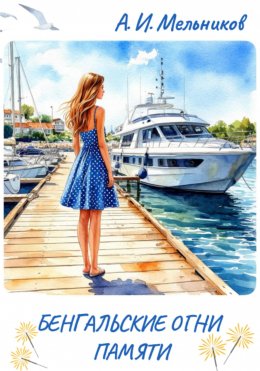
Бенгальские огни памяти
или
Незабываемые сущности,
с которыми, к счастью, я был знаком
Люби всегда,
След страсти сохрани
В судьбе своей,
Где погремушки снов
Жгут памяти
Бенгальские огни
Море живёт у меня под балконом и каждым вздохом волны подтверждает постоянство и динамику физического мира.
Я сижу в удобном, но, как оказалось, непрочном пластиковом кресле в палисаднике только что купленной моим другом гостиницы "по случаю" почти у самого Черного моря и пытаюсь понять, почему так давно уже не испытываю ощущение беззастенчивой мышечной радости, которое раньше просто преследовало меня, когда удавалось вырваться к морю.
Слово "давно", конечно, весьма субъективно и относительно. Потому что иногда вдруг начинаешь реально недоумевать: почему те события, что для кого-то вспоминаются давнее давнего, для тебя происходили будто вчера. И наоборот. И еще "относительно" потому, что всю мою не такую уж короткую, но прожитую, как мне кажется, на одном дыхании жизнь меня всегда относило к Черному морю. Всегда незабываемо и весьма чувствительно.
Влечение это возникло еще в детстве, после первой поездки с родителями в Ялту, советскую и суетливую, с особым купажным запахом вечного кипариса, тленных водорослей и влажной солнечной соли, совершенно не похожую на классический чеховский курортный город Дамы с собачкой и арбузом.
Мы с родителями и сестренкой приехали в отпуск из далекого азиатского Ташкента, тоже советского, но абсолютно не морского по сравнению с Ялтой, где у набережной периодически возникали и исчезали такие океанские небоскребы, что мне, пацану, казалось необыкновенным, как просто целые городские микрорайоны подплывали и на время становились частью города под названием Морской Порт. Ялтинский порт, конечно, не самый великий в мире (по сравнению хотя бы с Константинополем), но в пацанских глазах тогда и Ай-Петри была Эверестом. И все было внове и оттого запоминающимся навсегда.
А Черное море, которое не похоже ни на какое другое… Я пытался нырять в воды Средиземного, Балтийского, Азовского, моря-озера Иссык-Куль, даже Мертвого моря (о чем незамедлительно пожалел, ведь именно для таких, как я, на берегах этого странного природного водоема установлены огромные транспаранты с объявлением на всех языках мира: "Нырять НЕЛЬЗЯ !!!". И на русском языке буквы – самые большие). И нигде мне, любителю нырять, не было так комфортно, как в водах Черного моря.
Черное море обладает каким-то особым очарованием и подводной фауны, и прибрежной флоры. А пляжи его с мелкой галькой, крупным желтым песком пополам с почти растворившимися ракушками и такими приятными мне с детства ароматическими саше из морской соли и припущенных водорослей всегда возникают в сознании, когда необходимо уйти из дискомфорта окружающего мира и погрузиться в релакс вообра-фэнтези. Хотя бы умосозерцательно.
Много позже, накануне перестройки, именно из-за желания быть поближе к Черному морю я переехал в уездный город Краснодар. И хоть его и называют "собачкиной столицей" с легкой строки Маяковского, но он, конечно, никакая не столица, а губернский транзитный узел по дороге на курорты. С завышенными порой столичными амбициями, количеством военных пенсионеров и жаждой воинских почестей, характерных для заслуженного казачьего форпоста. Форпоста под названием "Наш маленький Париж".
И еще женщины! Ведь количество красивых женщин на любую душу мужского населения в Краснодарском крае всегда просто зашкаливало. Казалось, все красивые особи женского пола сговорились когда-то приехать сюда, к морю. И задержались на неопределенное время. Я обнаружил это в свою первую самостоятельную поездку на Черное море. Мне тогда было все равно, в какое место, лишь бы к морю. Червовая карта случая легла с видом Геленджика. Я говорю "червовая", потому что в ту поездку впервые в жизни влюбился.
Красавица неимоверная (по крайней мере, мне такой казалась), она приехала в Геленджик на две недели из Пятигорска и, насколько я помню, сделала все, чтобы привлечь мое внимание. "Сделала все" в семидесятые годы двадцатого века в Советском Союзе означало следующее: она пристально смотрела на меня, когда мы проходили мимо друг друга. И иногда улыбалась. В поведении этой природной блондинки удивительно сочетались независимость мышления и горское целомудрие (частица кавказской крови), а в огромных голубых глазах постоянно вспыхивали нана-зарницы. Я называл их южным сиянием. А она смеялась. И смотрела-смотрела, как будто звала куда-то.
Девочка-дриада, она в мгновение ока могла буквально взлететь на любое дерево. И дразнила меня потом сверху, обезьянка, смеясь над моей приземленностью. Впрочем, спускалась так же быстро, не давая возможности побывать на этих, недоступных для меня высотах. И всегда, когда ее образ являлся мне раньше, да и сейчас, когда вспоминаю её, она появляется на фоне большого дерева. Дуб, платан, может, кедр – ощущение сильной древесной энергии. Она питалась ею.
Все это происходило в детско-юношеском санатории с на редкость замысловатым названием "Солнце", отдых в котором после юношеской травмы ноги мне настоятельно посоветовал знакомый врач нашей семьи. Впрочем, замысловатость творческого полета при любой идеологии не в чести. А в советский период, на который пришлось мое детство, идеологическая доминанта как клейкая липкая масса обнимала, пронизывала и сковывала все и вся в нашей жизни. Престидижитаторы от идеологии подверстывали ее везде (чаще всего, конечно, в свою пользу) и как заправские пастухи щелкали ею у всех перед носом словно кнутом или арканом.
Теперь же все и вся обнимает, пронизывает и сковывает постоянно стреноживающая нас меркантильно-экономическая составляющая. И какие бы эмоции ни печалили от этого наш разум, именно деньги теперь решают всё.
Мне было пятнадцать, девочке – четырнадцать и мы десять дней предавались любви – везде ходили за ручку, вместе плавали в море и иногда целовались. При прощании, как водится, плакали и обещали писать друг другу письма каждый день, пока не встретимся, чтобы жить вместе. Кстати, нужно сказать, что наши чувства были-таки сильны – мы переписывались (правда, все реже и реже) почти два года и все это время я втайне от родителей копил мелкие деньги, мечтая сюрпризом съездить к своей дриаде. Но на такой сюрприз все не хватало то денег, то времени. Потом она уехала учиться на врача в большой и кипящий соблазнами столичный город Киев и буквально через год вынуждена была (залетела) выйти замуж. На чем наша переписка и завершилась. А кубышку (двадцать четыре рубля советскими купюрами на билет до мечты) меня "на слабо" сподвигнули пропить мои посвященные в секрет друзья.
Пили жестко – десять бутылок портвейна "777" на четверых, а потом еще водки. Но водку я уже не помню, потому что "добрые самаритяне" принесли меня домой, положили на коврик, позвонили в дверь и убежали пить дальше (сколько себя помню, всегда удивлялся луженым желудкам друзей).
Правда, еще через два года она дозвонилась мне в Ташкент и сообщила новость. Оказалось, она уже развелась и вернулась в Пятигорск, потому что бывший киевский муж оказался гадом, бабником и маменькиным сынком (помню, меня поразило, что в лексиконе моей ненаглядной когда-то блондинки
появились еще и малоприличные уличные эпитеты). Так что теперь она совершенно свободна (если не считать незначительного отягощения в виде ребенка) и просто жаждет меня видеть, а я ловил себя на мысли, что абсолютно не узнаю даже голос своей собеседницы и разговариваю с не знакомой мне женщиной, откуда-то знающей мое имя, но не имеющей ничего общего с моей морской любовью пятилетней давности. Говорят, когда женщина становится матерью, у нее совершенно меняется характер вплоть до изменения психотипа. Может быть, четырнадцатилетняя дриада, вдохновившая меня на множество стихотворений (да-да, я писал ей стихи), была всего лишь прекрасной "гусеницей"? Как бы там ни было, но бабочку, отрихтованную взрослой жизнью, я увидеть не захотел.
…И не заметил, как в этом довольно удобном пластиковом кресле я начал раскачиваться на задних ножках (детская привычка, иногда, задумавшись, даже не замечаю, как тело само начинает жить своей жизнью и, прежде всего, ловить баланс на ножках стула или кресла, на котором в тот момент я нахожусь), а такого поведения пластиковое кресло мне не прощает – переворачивается вместе со мной назад. Хорошо, что я был абсолютно расслаблен. Кости вскоре собрались как надо, я проверил их наличие, состояние, вошел в кроссовки и побрел к морю.
Геленджик был только первым местом моей высадки у настоящего моря (правда, долгое время самым любимым). А потом – Усть-Нарва на Балтике, незабываемый Гурзуф и, наконец, – Сочи. Молодежные лагеря системы "Спутник" в советские времена, были, пожалуй, немногими местами в стране, где почти строевая режимная подготовка отечественной молодежи к совковой жизни ощущалась не так навязчиво.
Спутники были некими амортизационными площадками, где достигалось хоть какое-то приблизительное согласие между обычными человеческими желаниями развивающегося молодого организма, пониманием, как должны быть устроены человеческие отношения в этом мире и идеологическим регламентом соцстроя. А регламенты, как вы наверняка помните, были жесткие. В общем, в этих лагерях молодежи разрешали спускать пар. В определенной степени, конечно. Как говаривал мой дружок Сашка, – чуть-чуть, на самую пипеточку.
Я медленно захожу в самое синее Черное море, так во многом повлиявшее на мою судьбу, и погружаясь в прозрачный, пахнущий арбузом аквамарин, начинаю наблюдать далекие, прекрасные и смешные видения, которые, соединяются постепенно как пазлы в непрерывную и бередящую душу видеоленту. И вот я уже выныриваю близ Сочи начала восьмидесятых. Но это ещё не сам город-курорт, а пригородное местечко близ Мацесты у подножия замечательной горы Ахун, откуда падают водопады, а на вершине – обзорная башенка, похожая на горскую сторожевую вышку. Здесь после спуска с горы, если не задерживаться в лесном этноресторанчике "Кавказский Аул", при подходе к морю вплоть до перестроечного упадка можно было пробраться в первоклассный молодежный лагерь "Спутник", детище комсомольской терпимости для молодежного интернационала, ну и немного для избранной советской молодежи.
К слову сказать, отдыхали там не только молодые комсомольцы. В Спутник было довольно сложно попасть и путевки в эти оазисы юношеских радостей жизни ценились на вес золота. Детство хотели вспомнить многие пропустившие его когда-то бедолаги, и Судьба заносила в молодежные лагеря иногда странных персонажей такого разного возраста, что просто ахнуть хотелось.
Достаточно сказать, что тогда в 1981-ом году кроме разномастной компании совсем еще юных счастливчиков из золотой молодежи я шапочно познакомился с тридцатисемилетним уже известным композитором-песенником с Дальнего Востока, который очень любил рассказывать анекдоты про Чапая, сорокашестилетним цеховиком Гиви из Баку, который искал ответ на очень важный вопрос –"Что главное в счастье?", и гордостью советской армии того времени пятидесятитрехлетним подполковником Валюней (сам он, конечно, называл себя Валентином Нестеровичем Клубникой) "с под" Минска, интендантом не хухры-мухры, а целого гвардейского полка. С Валюней мне выпало жить в двухместном номере на седьмом этаже только что сданного пятнадцатиэтажного корпуса, в котором даже шли еще доделочные работы. Сначала я очень расстроился из-за такого соседства, но затем жизнь все расставила на свои места.
Я люблю Элю!
Валюня сразу с места в карьер объявил, что мне очень повезло с ним. Ведь он – это лучшее, что может быть в этом лагере. Не для меня, конечно, а для барышни, из-за которой он приехал. А так как приехал он, чтобы найти ее, свою Звезду любви, я, его сосед, должен ему всячески помочь на этом поприще. После таких слов я, конечно, разозлился и приуныл. Представьте себе Грушу килограмм так на сто тридцать, в ста девяноста сантиметрах над землей увенчанную лысиной с длинными, будто наклеенными на затылочной части волосиками, которая вдруг объявляет вам, что отныне вы ее адъютант. Посмотрел бы я на Вас, а ведь с этой Грушей придется еще кантоваться почти две недели в одном номере.
В общем, на взгляд свободного художника, подполковник показался неубедителен и поэтому, даже не совсем разобравшись, что же от меня требуется, не дослушав его полуприказов до конца, я невежливо послал своего собеседника и ушел на пляж.
Вечером разговор продолжился. Еле-еле дождавшись меня, Валюня объявил, что не совсем правильно начал беседу и зашел с другой стороны. Он признался, что всю жизнь жил под давлением запретов нашего идеологического строя в целом и армейского устава – в частности. Даже любить не мог от души, так как подчинялся графику непреодолимых обстоятельств службы. А семья, жена, дети – это все неумолимый регламент и рутина бытия каждого мужика. А в душе каждого уважающего себя мужика, особенно военного, находится женщина его мечты, которую он холит и лелеет, и образец которой иногда видит на журнальных обложках – всех этих Экранов, Огоньков и редчайшего до самопроизвольного оргазма Плейбоя, запрещенного Уголовным кодексом на территории нашей страны, но купленного по большому блату на барахолке и стабильно провоцирующего многократный "сеанс".
Я тогда не понял, какой смысл вкладывал Валюня в термин "сеанс", но в его устах он зазвучал как-то совсем не по словарю Даля. Как-то таинственно и в то же время торжественно. Наверное, так, как должен звучать в устах всех ограниченных в своем выборе мужиков, страдающих сатириазисом.
А Валюня страдал сильно. Ведь именно из-за этого он и попал в Спутник. Среди молодых офицеров его полка уже несколько лет муссировалась быличка о месте обетованном на берегу моря близ Сочи, куда каждое лето сбегаются, съезжаются, слетаются, как на нерест, миллион доступных женщин мал мала моложе. Некоторые по путевкам, а некоторые – просто так, чтобы осчастливить мужчин, и просят-умоляют пригреть-приютить их, несчастных, обделенных мужской лаской. И за это согласны на всё, просто на всё. И без брака.
Услышав однажды эту Сказку тысячи и одной ночи, подполковник советской армии потерял покой и сон, но обрел цель жизни. Что уж говорить об этом "бедном гусаре", когда примерно с таким же восторгом рассказывал мне о сочинском Спутнике неизбалованный женским вниманием мой товарищ Сашка, отдыхавший когда-то давно в Сочи и специально ездивший из центра города купаться на пляже Спутника. Он тогда приятно офанарел от настойчивости одной милой женщины лет сорока, которая очень вежливо, но целеустремленно буквально тащила его к себе в номер. Я был уверен, что на самом деле он по молодости лет не решился, в номера не пошел и в конце концов сбежал, но нам, друзьям, история была преподнесена так, что всё случилось. И я тогда тоже впечатлился свободными нравами этой молодёжной притчи во языцех под названием Спутник.
А Валюня стал действовать со свойственным армейским в чрезвычайных обстоятельствах сноровкой и находчивостью, которые те называют интендантскими маневрами. Пихнул-толкнул кому-то стратегическую тушенку, одеяла, боеприпасы и достал-таки вожделенную путевку в Спутник. Долго подбирал пляжные пары (такие же веселые шорты) для гавайских рубашек с пальмами, две бутылки хорошего Шампанского, четыре банки икры (черной и красной), кассеты для минимагнитофона с зарубежной музыкой и несколько париков на разные случаи жизни. Подполковник был лысый, а хотел быть с прической (тогда еще моду не диктовали секс-символы типа Гоши Куценко и Дмитрия Нагиева). Для этого у него был заветный несессер с разными приспособлениями и шиньоном для приклеивания длинных волос с затылка равномерно по всей лысой голове. Валюня умел иногда делать это ювелирно, а слово "иногда" свидетельствует о том, что порой лысина все-таки предательски отсверкивала. И тогда в дело вступала легкая клетчатая английская кепи, которая, будучи прикрепленной специальной приколкой к драпировочным фальш-волосам, закрывала большую часть головы. Но, правда, если порывом ветра или неудачным взмахом женской ручки кепка сбивалась куда-нибудь назад, то тянула с собой весь шиньончик и весело повисала с ним сзади, в районе лопаток на длинных затылочных волосах, оголяя скрываемый доселе желто-розовый череп.
Валюня приехал на три дня раньше меня, заселился в пустой двухместный номер и в первый же вечер, открыв бутылку шампанского, банку икры и нараспашку дверь в номер, стал ждать обещанное: стадо чудесных нимфоманок, которые набегут, напрыгнут и станут издеваться над ним именно в тех позах, которые подскажет им он, счастливый от такого насилия подполковник.
Но первые два вечера канули зря. Подполковник пил шампанское, ел икру один и слушал магнитофон без всякого удовольствия. Бабы не нападали. Они вообще как-то нагло избегали любого общения. Странно хохотали и строили гримасы, когда в столовой или на пляже он пытался подклеиться к какой-нибудь развеселой молодежной компании, пропускали смелые комплименты мимо ушей и всячески демонстрировали незаслуженное равнодушие к этому предприимчивому человеку, который так старался, чтобы встретиться с ними. Фантазии о стаде страстных нимфоманок таяли в рассвете одинокого третьего дня и трансформировались просто хотя бы в одну и хоть немного симпатичную женщинку.
Надо было что-то решать, ведь срок так дорого доставшейся путевки таял на глазах. И тогда Валюня опять проявил интендантскую смекалку, он снова подошел к администраторше (в этом деле он был профессионалом) и передоговорился подселить к нему соседа, хотя раньше договаривался никого к нему не селить. Старая продажная грымза-администраторша четко уловила, что требуется "молодой-видный" парень для привлечения женщин. И когда приехал чуть опоздавший я, то получил место в двухместном номере с Валюней, а администраторша – банку черной икры.
И вот я возвращался в свой (с Валюней) номер после пляжа, меня сопровождала компания из доселе неведомого мне города Саранска, мы громко намечали вылазку в город Сочи и не замечали на балконе седьмого этажа изнывающего от переполнявших его чувств подполковника интендантских войск.
Честно говоря, я просто забыл о его существовании. А зря. Вербальная атака Валюни была для меня неожиданной и многообещающей. Теперь в разговоре со мной Валюня сменил тактику и стал много обещать.
Он сделал ставку на жалость, взаимопонимание и мужскую солидарность. Он проникновенно говорил о том, что мужчины во всем мире должны поддерживать друг друга. По крайней мере, в женском вопросе. Если вдруг мне понадобится номер целиком, он готов уйти. Хоть на огромное количество времени, например, на целый час. Ну и я должен помочь ему в самом главном его желании – найти ему его Звезду заветную – женщину скупой мужской мечты. А за это… Подполковник Клубника был готов на всё. Например, отдать последнюю банку икры и последнюю бутылку Шампанского. Но самое главное, он готов был спеть для меня любую арию из любой оперы, так как всю жизнь его вторым любимым хобби было оперное пение и у себя в полку он руководил хором офицеров-интендантов. О первом его любимом хобби, я думаю, напоминать не стоит.
И дальше Валюня запел. Он усадил меня на мою койку, встал в позу солиста-оперника из Необыкновенного концерта Образцова, чуть пошевелил и сложил, расслабив сосискообразные пальцы обеих рук, и зажег хорошо поставленным баритоном не что-нибудь, а арию Надира из Ловцов жемчуга Бизе. И до того проникновенно это сделал, что срубил на неподдельное восхищение не только меня, но и несколько этажей нашего корпуса. Кто-нибудь из вас слышал когда-нибудь баритонального Надира? Это Вам не очередным тенором нахлобучивать. После окончания арии несколько ближайших балконов рукоплескали, а Валюня смущенно улыбался, лепетал что-то про силу настоящего искусства и перегибался через перила балкона, пытаясь высмотреть, кто ему хлопал. Вдруг, женщина!?
Он бы так пел, бегал, высматривал еще и еще, но я увел его с балкона, объявив перед этим во всеуслышание, что продолжение концерта завтра, после ужина. Валюня понял, поверил в меня и мы стали обсуждать стратегию и тактику его поведения в Спутнике. А я, стихийный филантроп, проникся мыслью, что на его улице тоже должен наступить Праздник, как он наступил у меня буквально в первый же день моего лагерного отдыха (как интересно здесь звучит прилагательное "лагерный") с момента выхода на долгожданный пляж Спутника.
Никогда не забуду, как солнечный август просто взорвался, когда я вышел из длинного темного сырого тоннеля, который вел под насыпью для железнодорожных путей на пляж (у сочинских курортов на первой линии везде так), и я первый раз стал пробираться почти сквозь строй полуголой молодежи, которая, казалось, давно ждала меня. Какая-то блаженная улыбка и не вполне сфокусированный взгляд стали ответом на все улыбки в мой адрес. "Да, это тебе не Гурзуф!" успел подумать я, – хотя зачем вспоминать прошлогоднее, ведь и там было совсем не плохо".
Было чуть больше пяти часов пополудни, я искупался, поблагодарил провиденье, что оно не обмануло моих мечт (правда, сравнив мои убогие представления о хорошем времяпровождении с дивными фантазиями Клубники, любой психоаналитик меня бы просто пожалел) и пошел нырять с причала с двумя пригласившими меня молоденькими социалистическими немками, изучавшими русский язык. Немки забавно коверкали слова, но здорово ныряли и жаловались, что не могут найти дайвинг-клуб. А таких клубов у нас тогда просто не было, и я попытался объяснить им данный советский дискомфорт тем, что наши дайверы ушли в Балет, и в нём, родимом, мы теперь впереди планеты всей. Немки сначала ошарашенно на меня посмотрели, но углядев в моих серьёзных глазах смех, захохотали, чем привлекли внимание совсем юного, но очень раннего югослава, который приклеился к нам так быстро и плотно, что я решил оставить немок на него, а сам пошел исследовать пляжные окрестности. Тут же нашел уютно-сырой, сбивающий жару бар с фантастическим названием "Наутилус", взял там мороженое и впервые попробовал геленджикский мускат Янтарный (мой любимый напиток после этого целых пять лет) и мне стало так хорошо, что все мои двадцать три года стали расплываться на подоконнике иллюминатора этого Наутилуса, как морда пса в оконной раме из мультфильма «Бременские музыканты». Есть там такой прикольный фрагмент.
Через пять минут компания из Саранска в плавках и бикини оккупировала мой столик, и через десять минут мы уже вместе решали, когда поехать в центр Сочи, потому что там есть парк Ривьера, клёвый Дендрарий и кинотеатр панорамного фильма, которые надо обязательно посетить. А одна блондинка из этой компании на первый взгляд была вылитой манекенщицей, и мы с ней сразу засимпатизировали друг другу.
Правда, к ней вскоре подошел её парень, но моё настроение от этого не упало, потому что манекенщица продолжала поглядывать на меня, а от соседнего столика я уловил долгий протяжный взгляд жгучей шатенки и ответил ей, и мы с ней поняли, что отношениям – быть.
Ну и как после всех этих подарков судьбы не вернуться в номер добрым самаритянином и отказать человеку в его чисто человеческом желании? Я имею в виду просьбу Валюни помочь ему найти его счастье. И тогда я предложил подполковнику ударить оперой по КаВээНу.
Дело в том, что в каждом заезде Спутника в лагерном (всё-таки слово – что надо!) Дворце культуры устраивали тогда эти самые КаВээНы. Такие шоу, представляющие нечто среднее между настоящим КВНом и концертом "Алло, мы ищем таланты". С трудом набиралось несколько разношерстных команд и затеивалась спонтанная художественная самодеятельность, приправленная популярными шутками. Когда в представлениях участвуют люди увлеченные, это интересно, в крайнем случае – смешно, но иногда без слез смотреть невозможно. Я побывал в нескольких Спутниках, и везде эти КаВээНы организовывались впопыхах, на скорую руку, потому что никто особенно не желал принимать участия в подготовке. Но вот смотреть ходили все, весь лагерь, и хохотали над самодеятельными "артистами" тоже все. Чаще всего просто над смешными их попытками самовыразиться. Но иногда в этой предтече Камеди-шоу проявлялись настоящие таланты. И я решил использовать этот трамплин, чтобы запустить Валюню на большую арену Спутника. Так сказать, заявить его на Большак.
На следующий вечер Валюня, как Шаляпин, дал концерт с балкона нашего номера (три арии для раскрутки популярности: Надир, Ленский и Риголетто), а еще через два дня должен был петь со сцены лагерного Дворца культуры. Я вызвался писать сценарий для художественной самодеятельности найденных с миру по нитке талантов. Благо, опыт был, за два года до этого я так же принимал сценарное участие в КаВээНе Спутника "Ноорус", что в курортном местечке Усть-Нарва (которое очень любил Игорь Северянин, весьма уважаемый мной поэт Серебряного века), и мы зажгли там ананасы в Шампанском не по-детски, после чего даже приказала долго жить вырубленная из сосновых бревнышек и прославленная в веках лагерная финская баня, но об этом чуть позже.
Кроме того, через два дня пребывания я уже знал в сочинском Спутнике больше половины заезда и мне было довольно легко набрать команду. Кого лестью, кого обещанием скорого и, честно говоря, мало представляемого в реальности неземного блаженства, а кого и шантажом (угрозой открыть глаза ей (ему), на кого он (она) смотрит, когда она (он) на минуту отворачивается) я уговорил выступить одного фокусника-любителя из Казани, двух профессионалок-танцовщиц шоу-балета из Свердловска (пардон, Екатеринбурга) и композитора-песенника с Дальнего Востока (кстати, через пару лет он так прославился, что назови я его настоящее имя, вы все равно не поверите). А венцом всей этой художественной находчивости, сами понимаете, должно было стать оперное буйство Валюни.
Но я не учел нескольких вещей. Раньше Валюня пел только в маленьких зальчиках. И перед солдатами, которые хошь не хошь, а должны аплодировать. А в Спутнике зал был огромным. И его заполнили молодые женщины. Множество МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН ! Таких БЛИЗКИХ и таких ЖЕЛАННЫХ !
Когда Валюня в своей рубашке с пальмами выкатился на сцену, в воздухе будто что-то щелкнуло и переклинило. Мне кажется, я даже услышал этот щелчок тазовых костей. Первое и главное хобби наехало на второе, не дало размахнуться голосу, не дало распеться уникальному его баритону. Валюня подошел к микрофону, посмотрел в зал и застыл. ОНИ, такие долгожданные, были рядом и смотрели на него. Те самые, необъезженные стада прекрасных нимфоманок, они пожирали его глазами. Он стоял на сцене, вцепившись в микрофон, и молчал. Только взглядами отвечал взаимностью своим зрительницам. Всем им. Каждой из них.
Так случилось это великое Стояние Валюни.
Минуты через четыре примерно, услышав первые осторожные смешки – предвестие большого провала, я сообразил в чем дело, организовал носилки (были реквизированы из медпункта и приготовлены для другого номера), мы с культуристом из Перми нарочито-потешно в стиле Маски-шоу подбежали к нему и попытались уложить, но не тут-то было. Во-первых, он насмерть сжал микрофон (я даже испугался, не шандарахнуло ли его током), а во-вторых, грушеподобную фигуру, как оказалось, не так уж просто повалить. К счастью, кто-то догадался опустить занавес.
Удивительно, но вместе с появлением занавеса исчез морок Валюни. Его отпустило. Подполковник, очнувшись, стал вяло сопротивляться, а я объявил антракт. Публика решила, что у нас не совсем задалась реприза, но всё равно смеялась, шоу продолжилось, а мне дальше только и приходилось что строить хорошие мины при плохой игре.
Злой как черт, я нашел Валюню уже гораздо позже у нас в номере. Он выбирал себе суицид. Стал расспрашивать меня, как выглядят после смерти повесившиеся, утонувшие и упавшие с высотного здания. Я ответил: "Отвратительно! Они больше никогда не смогут приехать в Спутник!". И как ни странно, но это подействовало, подполковник начал успокаиваться и через некоторое время тревожно заснул. Время было позднее, через некоторое время пережитые за день эмоции меня тоже срубили, я уснул и мне приснился обиженный композитор-песенник, который не очень поверил в мой шантаж, но предпочел выступить. Он гладил Валюню по лысой голове и укорял меня, утверждая, что это я во всем виноват. А Валюня горько плакал.
А поутру я чуть не проспал завтрак и не смог долго разлеживаться, несмотря на то, что кровати в номере мне очень нравились. Даже не посмотрев как следует на укрытого с головой и, возможно (судя по моему сну), мокрого от слёз соседа, схватил плавки и полотенце, забежал в столовку, проглотил яйцо и бутерброд с сыром и бросился на пляж. Ведь меня ждали там блондинка из Саранска, которая всё чаще и чаще отворачивалась от своего парня в мою сторону, и новая прикольная компания из Москвы с девчонками, читающими фантастику, Фройда и Юнга в подлинниках!
Я плавал в море, пил кофе, смаковал мускат Янтарный, десертные Черные Глаза, томные глаза жгучей шатенки в незабвенном Наутилусе, флиртовал с блондинкой, восхищался настоящим писателем Юнгом в укор скучно пишущему ученому Фрейду (в подлиннике – Фройд), но из ума не шел Валюня. Что-то он там делает, несчастный маньяк? Уж не порешился ли? Песочные часы угнетения совести реально пугали чашу терпения.
И когда сочувствие меня переполнило, я замолчал, прервал интеллектуальную беседку, соединил два стола – две компании в одну и поделился с ними гнетущей меня заботой о прошлом, настоящем и будущем страстотерпца.
Я рассказал его историю в лицах, в подробностях, в тайне надеясь услышать совет или хотя бы оправдание моих действий, но, как видно, получился анекдот, все вокруг только по полу от хохота не валялись, а я вымученно улыбался. А потом поднялся уже с твердой решимостью сбегать проверить номер и поправить сердце, которое было не на месте. Как вдруг услышал откуда-то сзади дивный голос:
– Как все запущено и в то же время интересно. Кто же довел его до жизни такой?
Я обернулся и понял, что последние минут десять был как на сцене, меня слушал весь небольшой зальчик Наутилуса. Голос принадлежал невысокой, коротко стриженной и хорошо сложенной брюнетке неопределенного возраста. Ей можно было дать от двадцати шести лет до тридцати восьми в зависимости от того, как на неё падало солнце, облегало парео и сидели замысловатая соломенная шляпка и солнцезащитные очки. И она не смеялась. Она была действительно заинтересована.
И тут каким-то шестым чувством я понял: помощь пришла, Валюня спасен.
– Мадмуазель, – начал осторожно я, – а что Вы имеете в виду?
Я вспомнил, где мог её видеть. Эта спокойная "тургеневская" барышня всегда держалась возле разных компаний, но никогда не становилась их частью, парни её почему-то стеснялись, подтягивались и никогда не отпускали сальных комплиментов, девушки старались понравиться ей все от мала до велика, что-то тянуло их к ней. И еще глаза. Её глаза, казалось, информировали о гораздо большем, чем она могла сказать. Например, во взгляде, который я ловил иногда на себе, ясно читались понимание и сожаление. Только я не мог уяснить понимание чего и сожаление о чем.
– Как хорошо, что вы не сказали "мадам", юноша! А-то меня тут все просто уже замадамкали. Меня зовут Эльвира, я врач. Ступор вашего товарища мне кажется знакомым, в моей практике было нечто подобное. Мне придется взглянуть на него, но перед этим я зайду к себе, чтобы взять аптечку.
С нами попыталась увязаться вся хохочущая гоп-компания, но я сразу их отсек, попеняв на понимание момента и пообещав быстро вернуться и рассказать о лечении. По дороге Эльвира расспросила меня, как часто Валентин ходит на пляж, звонит домой и меняет парик. Я рассказал, что видел и знал из его пространных самобичеваний, она ненадолго зашла к себе в номер, вынесла почему-то всего лишь небольшую косметичку, и мы отправились к Валюне.
С легким замиранием сердца я постучал в номер, услышал, что кто-то там завозился (фу-ты, значит, жив-здоров), и, предупреждая случайное неглиже, громко спросил:
– Скажите, больной Клубника здесь проживает? К нему доктор.
За дверью все стихло и нам долго не открывали. Я возмутился, и Эльвира (все-таки замечательная женщина) мгновенно успокоила меня одной лишь гениальной фразой: "Он не может принять женщину без парика".
И действительно. Нам открыл уже опрятный во всех отношениях, молодящийся пожилой человек со взбитыми вперед волосами, в шортах, в пальмах и клетчатом английском кепи. Я еле сдержался, чтобы не расхохотаться, представил их друг другу и предложил Валюне включить магнитофон и лечь на кровать, чтобы принять врача. Он как-то весь подобрался, засуетился, включил магнитофон, схватил бутылку Шампанского, и та благополучно выскользнув у него из рук, шлёпнулась на кровать, а потом медленно стала съезжать к краю.
– Подполковник, мы с дамой не успели зайти, а вы уже предлагаете поиграть в бутылочку? – я успел подхватить Шампанское и, не торопясь, стал открывать его. Валюня в некотором замешательстве не знал, как себя вести и что говорить.
– Однако, как сильны, Эльвирочка, в советской армии традиции поручика Ржевского, – по-молодецки успел еще не к месту ляпнуть я, а Эльвира вздохнула и посмотрела на меня долгим выразительным взглядом.
– Дайте хоть бокал пригубить, – возмутился я и провозгласил тост за всесильную советскую медицину. Потом пожелал Валюне слушаться врачей и быстро побежал прочь. Вот какой я был не по возрасту отзывчивый.
Когда я вернулся на пляж, все набросились на меня с преувеличенной от безделья энергией и стали расспрашивать. Большая часть ребят была уверена, что Клубника – сексуальный маньяк и Эльвиру нельзя оставлять с ним одну, кто-то утверждал, что Валюня – латентный импотент, просто сам этого еще не знает, а одна тихая, жертвенно настроенная девочка из Иваново пролепетала, что она тоже имеет среднее медицинское образование, готова сама лечить это серьезное расстройство и спасти Элю.
Как бы там ни было, но удерживать уже целых три гоп-компании подвыпивших молодых людей от ревизии лечебного процесса, где объектом является очень всех заинтересовавший пациент, я долго не смог. Как бы я ни сопротивлялся, как бы ни умолял дать время медицине подействовать, через два часа меня взяли в плотное кольцо, надавили на чувство долга и повели проверять здоровье соседа и Эльвиры. По дороге я дважды пытался сбежать на обед, но меня поймали, пообещали накормить позже и довели-таки до моего номера.
Наконец, я обреченно постучал в дверь с цифрой 72 и нам никто не открыл. Я обрадовался, объявил, что все на обеде и повернулся, чтобы уйти, но девчонки загородили мне дорогу и приказали, чтобы я открыл своим ключом, так как они боятся за Эльвиру. Я повернул ключ в замке и в это время услышал, что в номере кто-то шлёпает босыми ногами по мокрому полу. Господи, там мокро…Неужели кровь?!
И я тут же почувствовал себя князем Мышкиным, вторгающимся в номера Рогозина, а в моем слишком навязчивом воображении возникла заключительная сцена из романа "Идиот", когда после разборки Рогозина с Настасьей Филипповной все обступают кровать, на которой та лежит уже бездыханная.
Я попросил всех расступиться и попытался, приоткрыв дверь, понаблюдать, что же все-таки там, в комнате, происходит. А потом дверь открылась сама. И было явление народу Эльвиры в абсолютном здравии. Более того, она была абсолютно окрыленной. Вот что делает с человеком уверенность в удачно проделанной работе. А за ней шел Валюня, такой же благостный и абсолютно счастливый. Вот что делает с человеком удачно проведенное лечение.
И они прошли сквозь толпу, рука об руку, красавица и чудовище, которое к тому же еще и поет. Подполковник крепко сжимал её ручку своей пятерней и всем своим видом в надвинутой на лоб клетчатой кепке показывал, что эту драгоценность у него теперь никто не отнимет, а все молча провожали их глазами и немного завидовали. И только девочка со средним медицинским образованием из Иваново вдруг громко спросила:
– Эльвира, с тобой все в порядке? Почему он такой спокойный?
Они обернулись к нам. И Валюня, сохраняя на лице абсолютный серьёз, впервые громко и безапелляционно провозгласил, почти пропел:
– Я люблю Элю!
А Эльвира обвела всех долгим изучающим взглядом. И потом, слегка изменившись в лице, серьезно и как всегда абсолютно неподражаемо грудным тембром Катрин Денев из "Дневной красавицы" Бунюэля произнесла:
– Девочки, на самом деле все нормально. Только это долго объяснять…и вы все равно не поймете…
Потом как будто хотела еще что-то добавить, но не стала, повернулась к Валюне и громко спросила:
– Так, где мы будем изучать логистику и матчасть?
И подполковник Клубника что-то быстро затараторил, очень живо аргументируя все в лицах и уводя от собравшихся свою пассию (лишь бы не ламию, – почему-то в этот миг подумал я, человек, чересчур начитавшийся фэнтези). Они удалялись от нас по коридору к запасному выходу, потому что лифт как всегда не работал. Наверное, они удалялись на обед, но мне показалось – прямо в свой парадиз, в райские "кушчи". Не торопясь, обсуждая что-то, возможно, предстоящее лечение.
А все стояли и смотрели на них, кто в удивлении, кто в умилении, а кто и в обиде. Вы никогда не замечали, как на отдыхе человек начинает вестись иногда на самые незначительные в обычной трудовой жизни события и начинает испытывать сильные эмоции от всякой ерунды. Вот нечего людям делать, дай только собраться возле чьего-нибудь номера и переживать, переживать какую-нибудь ерунду будто родную. Тут я воспользовался моментом, шмыгнул в номер, закрылся и из-за закрытой двери провозгласил:
– Представление закончилось, спасибо за внимание. Продолжение завтра.
И коридор взорвался гулом закончившегося спектакля. На что я успел подумать: "Шоу, однако, скорее всего, только началось". И был абсолютно прав.
Мне было над чем тогда поразмышлять. Ведь уже который раз лагеря Спутника подбрасывали в мою сторону почву для раздумий. Какие-то странные, ущербные, но в то же время по-своему типичные судьбы, надломленные истории любви. Почему именно я становился одним из главных свидетелей и очевидцев подобных событий? Почему мне выпадала роль быть проводником чего-то, явно выходящего за рамки логического развития событий? Другими словами, почему именно я открывал дверь после того, как в нее постучали, и обнаруживал за ней не нищего монаха Оккама, прячущего в складках плаща свою гадкую бритву, а настоящую королеву? Такую, например, как вот эта удивительная Эльвира.
Клубника был теперь постоянно занят. То он искал редкий сорт цветов, чтобы подарить своей спасительнице, то выбирал очередные шляпку, парео или очки, то искал что-то совсем особенное. А иногда с пылом готовился к какому-то событийному ужину, задуманному Эльвирой и воплощаемому им. И это вам не Интернет-поисковик. Это настоящие поисковые операции, отражающие лучшие армейские стратегии и отнюдь не платонически страстную любовь. Но это все днем. После ужина в нашем номере Валюня больше никогда не появлялся.
Зато почти каждую ночь с тех пор окрестности Спутника до самого конца заезда оглашались страшными, почти ликанскими (я называл их "оперными") воплями:
– Я люблю Элю! О как же, как же я люблю Элю!!
И только иногда эти вопли прерывались лениво-протяжным возгласом пресыщенной женщины:
– Ну перестань, Валю-у-ня!
Именно с тех пор подполковник Валентин Нестерович Клубника превратился для всех лагерных в самого настоящего, заклейменного любовью ликантропа Валюню.
Дело в том, что с того незабываемого дня их знакомства из номера Эльвиры исчезла в неизвестном направлении её соседка. Скорее всего, она была аннигилирована все той же старой грымзой-администраторшей (хотя некоторые злые обиженные (одним словом, женские) языки поговаривали, что девушку просто загрызли ликантроп и его ламия), и подполковник де-факто переселился к Эльвире, оставляя за собой место де-юре в нашем номере 72. И что интересно, Эльвира почти перестала появляться на территории лагеря днем (даже на пляже), весь день она обычно спала, изредка материализуясь на каких-нибудь вечерних мероприятиях, после чего они ужинали с Клубникой в зале столовой или в ресторанчике на берегу, а потом гуляли, как они сами это называли. Причем в самых неожиданных местах. И влюбленные пары частенько натыкались на них то в затемненных парковых беседках, то на пляжных лежаках, а то и на крыше высотного корпуса, прямо под большой Луной. Но когда на свою беду натыкались, вынуждены были в ужасе бежать оттуда, потому что в тот же момент раздавалось хриплое рычание и оперный баритон, как заезженная пластинка, ревел знакомую уже всему лагерю любовную декларацию.
Когда неутомимый Валюня спал, было не известно никому. Но это было мне на руку, ведь благодаря этому я впервые ощутил, как это здорово проводить ночи с любимым человеком – жгучая шатенка к этому времени сама подошла ко мне, познакомилась, вечером обняла и не отрывалась от меня ни на сантиметр все оставшиеся четыре дня, пока я не посадил её в поезд до Краснодара. Мы были счастливы, влюблены, причем я понял это насчет себя только когда шатенка уехала. И не сразу, а когда уже вернулся в Ташкент. У меня всегда наблюдалось позднее зажигание. А пока я еще оставался в Спутнике, она доставала меня звонками из дома каждый день, то в столовой, то на вахте коридорных в корпусе, а то и в Наутилусе, потому что загодя успела подружиться с барменшей и узнала их телефонный номер. Если бы тогда, в 81-ом уже была мобильная связь, она бы не оставляла бы меня одного даже на пять минут.
Забавно было наблюдать, как гримасничает и злится очередная моя застольная визави, когда простая как три копейки барменша Надя, заслуженная спортсменка в прошлом, вдруг кричала мне:
– Лёха, к телефону! Твоя опять. И подбери свои Черные Глаза, я уже давно их залила.
Дело в том, что после отъезда жгучей шатенки я провел в лагере еще пять энергичных дней, причем два из них – на нелегальном положении, потому что срок моей путевки закончился раньше, чем удалось достать билет на самолет. Из номера меня не выгнали – администраторша все еще доедала черную икру, а вот в столовке дали от ворот поворот. Что было не очень хорошо, так как деньги имеют неприятную особенность заканчиваться раньше запланированного. Пришлось питаться печеньками из Наутилуса и мидиями, которые мы с одним моим товарищем по несчастью из Питера выуживали из прибрежного подводного мира.
Нашли старый ржавый лист железа от какой-то строительной бочки, развели костер и положили эту импровизированную сковородку на огонь. Затем разложили на железе мидии и через некоторое время они стали раскрываться с очень характерными хлопающими звуками. Желтые тельца моллюсков показались нам весьма вкусными. В первое утро такой мидийной диеты мы с Володькой насобирали ракушек довольно много, ели сами и угощали первых представителей нового заезда, чем привлекли их повышенное внимание, и до следующего утра в еде и любви уже не нуждались, так как за право накормить и обогреть нас, несчастных старожилов Спутника, вскоре соревновались многие вновь прибывшие. А мы, такие просоленные опытом и знанием приморской жизни робинзоны-дембеля, свои во всех интересных окрестных заведениях, показывали днем неофитам, а ночью – неофиткам местные достопримечательности.
А на третий день мы отравились сами и чуть не отравили других. Дело в том, что мидии в доступных для ныряния окрестностях пляжа закончились, и я вдруг обнаружил заросли мидий под причалом и на подводных стенках причала. Такие все большие, аппетитные, прямо слюнки потекли, ну мы с Володькой их и набрали. На свою голову. Помню, ели и нахваливали. Вместо завтрака. Хорошо, не успели накормить других. Буквально через полчаса нам стало так хреново, что оставшийся день мы провели в номерах, еле успевая время от времени добегать до унитаза.
Господа и милые Леди, заклинаю Вас, никогда не ешьте мидии, сорванные с причала, к которому пристают кораблики и моторные лодки. Там мидии питаются бензином, мазутом и другими нефтепроизводными, поэтому нереально (то есть в высшей степени реально) ядовиты. Мы с питерцем Володькой ощутили это на своих желудках. После чего я, например, больше никогда не смог есть эти вкусные морепродукты. Однажды лет через восемь попытался, попробовав итальянские консервированные. Эффект повторился. Кошмар!
Володька из Питера, кстати, был тот еще интересный фрукт. Такой бесшабашности, как у него, можно было только позавидовать. Не обладая особой физической привлекательностью, худой как глиста, он жил в Спутнике без денег уже второй месяц, причем без всякой путевки. Просто приехал внахаловку и жил, переходя из номера в номер как эстафетная палочка, умело обходя административные барьеры, прощаясь с одной любовью и тут же находя следующую.
Ответ на вопрос, как он это делал, крылся в его незаурядных коммуникативных способностях и отчасти в харизме. Когда он начинал говорить, слушали все, даже если не особенно и желали слушать. Цыганский гипноз? Черт его знает. Самое главное, что он никому не желал зла, был добрый и готовый помочь первому встречному во всем. Кроме одного – не мог (не желал) ни с кем и ни за что уезжать из Спутника.
На время очередной пересменки его приютил я, благо, Валюня появлялся редко, а за день до моего отъезда их с Эльвирой вообще выгнали из Спутника, потому что он со своими воплями все-таки чуть не загремел в "обезьянник". Однажды ночью так напугал какого-то кандидата в члены ЦК партии из Дома отдыха "Зеленая Роща", который находился рядом со Спутником, что тот чуть не обделался.
Наверное, этого кандидата в члены тоже можно понять. Пошел он как-то вечерком при исполнении государственного отдыха с женой на пляж. Идут они так, ничего не подозревая, на своей волне по пляжу, беседуют как всегда о нуждах советского народа и незаметно переходят границу пляжной зоны Зеленой Рощи и Спутника. Подходят к морю, желают проинспектировать удобства пляжных лежаков и тут – на тебе! Страшный трубный рёв из дебрей Южной Африки:
– Я люблю Эль-лю!!!
Обкакавшийся от ужаса кандидат в члены ЦК с чуть не потерявшей сознание женой незамедлительно пожаловались, куда следует. После чего подполковника быстро нашли, сравнительно мягко пожурили и объявили персоной нон-грата в Спутнике. Хорошо, хоть не раздули дело.
Я прощался с Эльвирой и Валюней как с родными. Мы даже обменялись адресами. Они решили доотдыхать где-нибудь в Абхазии, и Валюня показал мне билеты на поезд в Гагры. Эльвира чмокнула меня в щеку и сказала как всегда немного загадочную фразу, смысл которой высветился в моей жизни гораздо позже:
– Хоть ты и Алик из Аликов, но аура у тебя светлая.
Потом она обнялась с Блондинкой из Саранска, у которой срок пребывания в Спутнике был неограничен, потому что ответственной за выдачу спутниковских путевок в Саранске была её мама. Блондинке нужно отдать должное, несмотря на всю её внешнюю позолоту, она оказалась классной девчонкой и всячески помогала мне пережить горечь расставания с Валюней, ребятами моего заезда и жгучей шатенкой. Правда, её парень почему-то на неё обиделся и уехал даже раньше своего срока. Но Блондинка не переживала и так классно смотрелась на пляже в своем самом модном тогда белоснежном купальнике после того, как приобрела золотой загар. Так классно танцевала, так классно ныряла с причала, так классно шутила, но… лет через двадцать я попытался вспомнить её имя и не смог. Она осталась в моей памяти как яркое изображение на обложке гламурного журнала. Классное, но отстранённое. То ли Алиса, то ли Афелия, как-то на "А" и по-заграничному. А может, Амалия. И только гораздо потом я понял.
В то чудесное лето я еще воспринимал мир нерационально, как кролик. Я не видел картину в целом и вёлся на эмоции, причем, мне нужны были только очень яркие эмоции. Букет эмоций: тактильных, звуковых (чем более кричательных, тем лучше), ароматических и даже органолептических. Таких, какие обрушила на меня, например, жгучая шатенка. А я до этого не успел ощутить такого больше ни с кем, даже с Блондинкой. Более того, в самые яркие и напряженные вспышки чувственности Алиса-Амалия начинала вдруг дико хохотать, и я тут же выпадал из нирваны в жесткую реальность. На мой удивленный взгляд она, захлебываясь от смеха, булькала примерно следующее:
– Если бы ты видел себя…какой ты смешной!
А я к тому же был еще молодой и глупый. И думал тогда: "Что это она? Я смешной?! Да как это она вообще…?"
Теперь-то я понимаю, что это была просто некая специфическая женская реакция, скорее всего, с определенной физиологической составляющей. Эх, Алиса-Амалия! Какая ты была классная! Спасибо тебе, девочка!
Блондинка с Володькой проводили меня в адлерский аэропорт, и я заметил, что она как-то более внимательно стала прислушиваться к его трёпу. Красотка-стрекоза, конечно, должна была повестись на липкую вербальность поднаторевшего за лето жучка-паучка, а уж он старался вовсю, изредка виновато и украдкой взглядывая на меня. Через некоторое время после каждого его взгляда я стал ему подмигивать. Сначала он не понял, а потом до него дошло, и он расхохотался.
В аэропорту я поменял билет в Ташкент на билет в Ташкент через Краснодар, и теперь я летел в Краснодар, потому что понял, как соскучился по жгучей шатенке с её неуёмными эмоциями. А потом, чуть позже, она стала моей женой. Моей первой женой.
Вот как я провел незабываемую часть того яркого лета 1981 года.
Потом я часто бывал в сочинском Спутнике. В течение более чем тридцати лет он изменился, в девяностые захирел, потом, сменив собственников, превратился в цветущий пансионат, но перестал быть молодежной Меккой. Каждый раз, когда я приезжал в Сочи, считал своим долгом обязательно зайти на территорию, пройти на пляж, и особенно горевал, когда вдруг не нашел бара Наутилус, с которым было связано так много. На территории появились теннисные корты, бассейн, аквапарк. Но до сих пор я не могу спокойно проходить мимо уютных аллеек бывшего Спутника, где есть скамейки. Всё тянет подойти и удостовериться, что ни на одной из них нет незабываемого ликантропа Валюни и его удивительной ламии Эльвиры и никто не завоет вдруг в темноте инфернальным баритоном:
– Я люблю Эль-лю-у! Я люблю её!
И ламия не ответит ему протяжным звонким шлепком и усталым грудным голосом:
– Перестань, Валю-у-у-ня! Не пугай этот народ…
Чуть позже (примерно в начале девяностых), когда я по инерции вынужден был говорить своим студентам на филологическом факультете про патриотизм, я вдруг примерил это слово в отношении себя и засомневался, где именно моя Родина. Когда-то все было ясно и понятно. Вот на карте огромная страна, похожая на большую добрую собаку (точь-в-точь – алабай, подаренный не так давно нашему президенту). Я стою перед ней на уроке географии в восьмом классе, горжусь собой и своей страной и твердо знаю, у меня только-только закончилось счастливое детство, началась счастливая юность и скоро придет пора счастливой зрелости, еще, правда, туманной, но вполне себе в мечтах представляемой – с взаимно любимой женой, взаимно любимыми детьми и взаимно любимой работой где-то в области журналистики. На крайний случай – в области свободного художественного писательства. Так, пока еще не совсем ясного, но какого-то хорошего писательства. Такого многообещающего и добровечного.
И вдруг – БАЦ-тарарах – Перестройка! (говоря словами любимого поэта – "Вот те раз, нельзя же так!").
Честно говоря, Перестройка мне сначала очень даже понравилась. Вздохнулось, наконец, полной грудью и стало возможным ругать все, даже партию (коммунистическую, конечно, ведь когда-то она была одна. И когда говоришь, "партия", подразумевалась, естественно, она, "родная"). Такие утверждения, как "партия – говно!", слышные отовсюду в 90-е годы (и это после "Партия – это наше всё!), мне всегда напоминали экзерсисы трех-четырехлетнего ребенка с малознакомыми словами, на которые взрослые реагируют неадекватно, начинают выходить из себя и ругаться. Но ребенок все повторяет и повторяет их: "Какашка, какашка, какашка". Ему весело и страшно, почти – "и больно и смешно, а мать грозит ему в окно" (мать здесь, наверное, – Родина-мать).
Но теперь я просто не знаю, что мне назвать Родиной. Ориентально уникальный и в то же время слегка надоевший по молодости лет Узбекистан шестидесятых-семидесятых годов двадцатого века, воспетый повернутыми на итальянском неореализме Ильёром Ишмухамедовым и Родионом Нахапетовым в кинофильмах "Нежность" и "Влюбленные"? Мой прекрасный, зеленый, теплый, дынно-арбузный, улыбчивый и насквозь продажный город Ташкент? Город, родной настолько, что каждые его парк, сквер, улица 60-х – 70-х (где до сих пор гуляют знакомые привидения вундеркиндов пера Юры Кружилина, Августа Вулиса, Дины Рубиной) появляются перед моими глазами при малейшей ассоциации до сих пор. Или Родина – это нечто умозрительное, оставшееся на карте после усекновения большого собачьего тела СССР и называющееся теперь Россией?
Конечно, не один я такой, покинувший свою малую Родину – одну из самых советских социалистических республик и не совсем разобравшийся со своим патриотизмом. Но как мне, не разобравшемуся с главным, учить других? Например, тех, кто никуда не переезжал, и у кого нет гнетущей дихотомии этого чувственно-конкретного понятия "Родина"?
Гурзуфская сказка
Совсем недавно, решив сравнить своё впечатление от нынешней Ялты со своими детскими воспоминаниями и проезжая по трассе Алушта – Ялта, я вдруг увидел неприметный серый указатель к морю. На указателе значилось: "Гурзуф". Не долго думая, я свернул свой кроссовер по указателю и стал спускаться к старому знакомому, которого давно не видел, но которого не забуду никогда. Для кого-то всего лишь ещё один лагерь из серии молодёжных лагерей Спутник, очень популярный в советские времена. Но для меня – особая веха жизни, когда мистика накрывает реальность.
Я спустился до закрытого шлагбаума, оставил машину и дошёл до набережной, которую не узнал вовсе. Мимо череды кафе и ресторанов, которые непрерывной стеной отгородили знакомый пляж от набережной я дошёл до Спутника, вернее, как иногда повторяется снова и снова, – до того, что от него осталось. А осталось довольно много, уцелели почти все сильно тронутые временем домики-бочки, административный корпус и самое главное – кафе "Космическая Тарелка", с которой у всех бывших спутниковцев было связано так много. Но людей на его территории не было, а были странная тишина и ощущение заброшенности.
Я шёл от бочки к бочке, и память принялась вытворять чудеса наложения прошлого на настоящее. Во включившемся в моей голове хроновизоре я увидел множество парней и девчонок, которые жили здесь почти сорок лет назад, отдыхали, знакомились, строили отношения, а потом со слезами расставались, но увозили кусочек счастья на всю оставшуюся жизнь. Которые радовались своей удачливой избранности, купались в долгожданном море, танцевали, пели песни, играли в волейбол, футбол, настольный теннис и ездили на экскурсии. А еще, конечно, пили кофе и шампанское в незабываемой Тарелке, и вдруг впадали в безысходную тоску из-за того, что в конце июля 1980-го года умер Высоцкий. По крайней мере, для меня это было настоящим ударом, я долго не мог прийти в себя и видел, что плохо от этого было многим.
Именно в гурзуфском Спутнике я пережил два незабываемых и изменивших меня приключения. Не знаю, правда, можно ли с точки зрения строгой семантики считать приключениями те события, которые произошли с двадцатилетним парнем, но во многом они повлияли на то, какой "незаурядной" личностью он является теперь.
Первым приключением, обрушившимся на меня в Гурзуфе образца 1980-го, стало появление настоящего джинна. По обличью это был большой азиатского вида мужик, внезапно возникший во "времянке", куда меня определила на ночлег в гурзуфском ММЦ "Спутник" молоденькая дежурная. Так как я прилетел ночью, места даже по официальной путевке в этом пользующемся повышенным спросом крымском молодежном Парадизе сразу она найти не смогла. Разве что в так называемой "времянке", отличающейся пониженным комфортом и повышенной звукопроводимостью. Потому что стенки в этих времянках были из картона и походили на переборки в небезызвестном общежитии имени Бертольда Шварца.
Девушка проводила меня до этой времянки, открыла дверь, показала койку, пообещала перевести завтра в "бочку" со всеми удобствами и перед выходом вдруг громко вскрикнула от страха, потому что в картонном пространстве, где мы в это время находились, материализовался Бек и стал как-то слишком внимательно вглядываться в её лицо. Потом быстро потерял всякий интерес и направился ко мне.
Несчастную, заспанную дежурную понять было можно, потому что джинн даже в земном обличье всегда внушает определенное беспокойство, все-таки – ориентальный демон. С тихими ругательствами девушка порскнула из времянки, а мы с брутальным азиатом стали рассматривать друг друга. Мужик был необычный. Он стоял с обнаженным торсом в спортивных трикотажных штанах, заканчивавшихся внизу огромными волосатыми ступнями, без всякой обуви. Огромная голова с всклокоченной шевелюрой, абсолютно ничего не выражающее лицо, на котором почти не было глаз, сильный птоз на две трети прикрывал их верхними веками. И буквально с первых слов он принялся меня удивлять.
– Тоже из Азии? Да, Ташкент! Хороший город. И он ткнул в меня пальцем. Как там оказался?
– Родился. Деда в свое время командировали, – на удивление без раздумья ответил я.
– Точно! Но он поехал сам, конвоя не было.
– Да, отправили руководить заводом.
– Это хорошо. Тогда Азии надо было помогать. Сейчас уже не надо. Ладно, ложись сюда, – он показал на свободную койку. Чувствую, устал ты, спи. Завтра поговорим. И взмахнул рукой…
А когда я проснулся, было позднее утро. Видно, сморило меня просто мгновенно, потому что мои неразобранные вещи лежали на постели рядом со мной, и я был одет. Обычно я все-таки раздеваюсь перед сном. А здесь все произошло как-то уж чересчур стремительно и странно.
Я встал и попытался разобраться, где я, не приснилась ли мне вчерашняя встреча. Рядом с моей койкой было еще три, но кроме меня в этом сарайчике (по крайней мере, мне помещение напомнило бабушкину сараюшку) никого не было. И только южное солнце из закрытого окна, немного убавляемое растущими под окном карликовыми пальмами, какими-то еще экзотическими растениями, слегка освещало мое пробуждение. Я вышел. Недалеко от времянки нашел что-то похожее на длинный общий, как при военных казармах, умывальник. Умылся, почистил зубы, вытерся. Прозрел.
Снаружи времянка представляла собой половинку большой бочки, распиленной вдоль и превращенной в два домика. Я оказался на улице, по обеим сторонам которой были установлены десятки таких бочечных половинок. Параллельно и перпендикулярно моей шло еще несколько таких же улиц. Вокруг меня бурлил целый бочечный городок, и так как все вокруг утопало в пальмах и цветах, я почувствовал себя Незнайкой в Солнечно-Цветочном городе. Ведь я еще не знал, где можно позавтракать, куда положить вещи и как избавиться от почти физических переживаний из-за несчастной любви, которые вдруг опять принялись глодать что-то внутри, наверное, душу.
Только шляпы Незнайки с широкими полями у меня не было.
А вокруг сновала золотая молодежь, слышались смех, русские, английские, немецкие и даже французские устойчивые выражения, за улицами бочек блестело золотом синее море, пароход белый-беленький бесшумно плыл по золотистой синеве вдали, и жизнь пообещала большой целебный пластырь на мою израненную душу.
Ведь в Гурзуф я приехал в расстроенных чувствах. Надо мной поиздевалась и бросила девушка моей мечты, моя любовь с первого взгляда. В ту пору я ещё влюблялся в "плохих" девчонок, которые курили, могли как следует выпить, не пьянели и по комплекции походили на пресловутую англичанку Твигги, худую и взбалмошную законодательницу моды шестидесятых годов ХХ века. В общем, влюблялся в тех, от кого могли потерять сознание мои родители.
Но эта гадкая фря к тому же играла не только на моих чувствах, но и на струнных инструментах, а также на фортепиано, учась в музыкальной школе. Я из кожи вон лез, пытаясь произвести на неё впечатление, дарил цветы, придумывал тематические вечеринки, где она всегда царила с гитарой или банджо. Она давала мне понять, что я ей нравлюсь, заигрывала со мной, но при этом строила из себя недотрогу, а иногда вдруг пропадала, и дозвониться до неё целыми неделями было невозможно. Друзья, не без веселья и сострадания наблюдая мои мытарства, открыли мне глаза на её настоящую личную жизнь. Оказывается, у неё давно был любовник на восемь лет старше, который и научил её пить, курить, материться и играть на всех струнных. Повидавший виды мужик обращался с ней, моей ненаглядной, как кот с мышкой (точно как, в свою очередь, играла со мной она), а порой и как боксёр с тренировочной грушей. Лишь только она, по его мнению, делала что-то не так, этот самодур из популярной рок-группы мог запросто надавать ей пощечин или даже пинков. И она, влюблённая дурочка, всё терпела. А когда было уж совсем невмоготу, со слезами бежала от него ко мне и жадно самоутверждалась, купаясь в моей любви, моём внимании и попытках увлечь её интеллектуально.
Узнав всю правду, я, молодой дурак, попытался вразумить его, встретив на улице и начав словесно доказывать, почему женщин бить нельзя. Мне казалось, я подготовил достаточные аргументы, чтобы апеллировать к нравственному закону внутри человека. Я хотел расспросить о надёжности его чувств к моей любимой и, если они так любят друг друга, уйти с их счастливой дороги. Но я почти ничего не успел сказать, потому что он долго слушать не стал. Просто криво усмехнулся и двинул меня ногой в пах, после чего я скрючился, поразился людской подлюшности и увидел в деталях кусок земли под собой, в том числе интересный такой булыжник. Моя рука сама потянулась к нему. Едва увернувшись от второго удара ногой и превратив правую руку в пращу, я метнул этот камень в его ухмыляющуюся физию. Каюсь, осерчал.
С разбитой мордой, весь в крови, любящий пинать людей музыкант, взревел аки вепрь в нощи и, обещая меня засудить на всю катушку, бросился к своей машине, где как раз сидела моя ненаглядная. Помогая ему остановить кровь, она тоже стала кричать мне всякие гадости и как она будет помогать невинно пострадавшим уничтожать меня. Этот несусветный пердимонокль в стиле Кафки продолжался целую вечность – минут пятнадцать. А потом они уехали снимать побои и подавать на меня заявление в милицию и в советский суд – самый справедливый суд в мире.
Вот так весь наш любовный треугольник пострадал от моей неразделенной любви. Я пришёл домой и, решив предвосхитить грядущие неприятности, открылся родителям. Ругая и жалея меня на чем свет стоит и ожидая повестки в милицию, родители тем не менее достали мне эту путёвку в Гурзуф (мало ли что? Когда ещё случится ребёнку отдохнуть? Пусть напоследок хоть отвлечётся немножко), за что я не устаю благодарить их всю мою грешную жизнь.
Но я продолжал страдать от неразделенных чувств, даже не думая о начавших маячить на горизонте нарах, и путевка в Спутник должна была стать чуть ли не самым действенным средством хоть на две недели убежать от действительности и несчастной любви. Ведь только дебил, отправившись, скажем, в Тулу, будет там страдать от мыслей о любимых самоваре и прянике, оставленных дома. Но почти еще целых два дня я оставался в Гурзуфе таким вот дебилом и страдал. Правда, уже в первый день я встретил Бека и проникся-отвлёкся его историей, а на третьи сутки я почти исцелился, потому что на меня свалилось главнейшее средство от любовной хандры-меланхолии – пани Леопольдовна из Саратова. Но лучше, пожалуй, всё по порядку.
Найдя ключ от ненадёжной двери бочки-времянки, я закрыл её снаружи и пошел искать давешнюю пугливую девушку из администрации. Ведь она обещала мне бочку со всеми удобствами.
В центре Спутника обнаружился старинный, заросший зеленым вьюном трехэтажный особняк, который, как оказалось, служил администрацией, столовой и комфортабельными номерами для иностранцев. В "приемном покое" лагеря на мой бестактный вопрос, когда можно перебираться в бочку с удобствами, типично совковая жирная тетка в ответ нагло спросила, – ты ведь из Союза? Тебе дали койку? Что еще надо? У нас и за такое место благодарят, знаешь, как?
Я не знал, как. Вот же Незнайка. На легкое возражение, "а вот девушка мне вчера обещала" последовал категоричный ответ: "Она у нас больше не работает. У тебя путевка на семь дней? На двенадцать!? Тогда вот тебе талон, будешь питаться вот в том зале. Всего-то на двенадцать дней, молодой, здоровый, какие еще удобства надо? Скучать што-ли собрался? Иди, не морочь мне голову.
И я пошел восвояси, солнцем палимый, не желая тратить силы и только начавшее исправляться настроение на сражение с агрессивной служивой аборигенкой, успокаивая себя мыслью, что если бы, не дай бог, путевка была на семь дней, то и поесть бы не дали. А так – даже зал столовой показали. И правильно сделал, потому что чуть позже (уже сменив три койки в разных бочках) понял, здесь, в Цветочном городе бочек, все устраиваются и расселяются сами. Комфорт отдыхающих был в руках и кошельках самих отдыхающих. Надо лишь дать взятку тётке или полюбовно договориться с уезжающими раньше срока. Но понимание общей картинки пришло только через пару дней. А пока я вернулся в своё первое пристанище, достал шорты и майку и пошел осваивать местность.
В конце своей улицы бочек я обнаружил чудесный объект из мира фантастики. Это была Космическая Тарелка. Она только начала взлетать и внезапно остановилась. В этот момент её зафиксировали на полувзлёте и превратили в кафе. В Тарелке варили замечательный кофе в турке и давали шампанское в разлив. Оба эти факта превращали такое кафе для меня в идеальное заведение. Кроме того, как оказалось, Тарелка служила ориентиром для встреч всех влюбленных в Спутнике. Да что там в Спутнике – во всей Большой Ялте!
До обеда было еще далековато, а костлявая рука голода уже сжала желудок, подвинув при этом куда-то костлявую руку неразделенной любви. Поэтому я улыбнулся официантке, заказал яичницу, кофе и выбрал свободное местечко за одним из столиков-пеньков под Тарелкой. К слову, нужно сказать, что свободных столиков в Тарелке никогда не было! Люди занимали эти столики (всего их было около 12-ти) чуть ли не с утра и сидели меняющимися компаниями до закрытия. Тарелка фигурировала в разговорах спутниковцев постоянно, за разными её столиками появлялись, привлекали к себе внимание и исчезали разные известные люди – музыканты, художники, поэты, журналисты, артисты. Так, через столик от меня в тот раз сидел известный кинокомик Савелий. И мне было очень интересно увидеть (и услышать) этого талантливого актёра не придуривающимся и заполошным, как во всех его ролях, а обычным, спокойным, немногословным, со странной хрипотцой в голосе.
Рядом со мной за большим пеньком с бутылкой коньяка расположилась компания почти ровесников, недорослей-студиозусов из Москвы. Они тоже приехали недавно и собирались на пляж. Парни мне понравились, они были технарями (Тимирязевка и Бауманка), напрочь лишенными мерзкого столичного снобизма, с которым я, к сожалению, был знаком не понаслышке. От предложенного коньяка я отказался, мне было еще рановато (по моим внутренним часам утро только началось), проглотил яичницу, допил кофе и, пообещав встретиться с ними на последнем волнорезе пляжа Спутника, отправился за плавками.
Но добрался до моря в тот день я не скоро. Перед лестницей на пляж мне преградил путь Бек. Он не то чтобы соткался из воздуха, но появился вполне себе неожиданно. И впечатление произвёл неприятное. Впрочем, как и всегда. Это теперь мне понятно, кем он был. Но тогда я видел перед собой просто бродягу-бомжа в человеческом обличье, не внушающего симпатии. Да и говорил он как-то не обычно, почти не открывая рта. Общаясь с Беком, я постоянно ловил себя на мысли, что у нас с ним не вполне вербальный контакт, хотя слова были слышны, и артикуляция присутствовала.
– Меня зовут Бек. Ты должен помочь мне.
– Чем?
– Нужно спасти…человека, девушку. И тут я зажмурился, потому что в моём сознании, как мне показалось, вдруг взорвалось солнце, и соткался прекрасный женский образ, который я, правда, и рассмотреть-то толком не успел, так быстро он растаял. Прежде чем я успел возразить он продолжил, – Нет…не просто девушку, моего ангела. Она существует здесь для меня, она спасла меня… Теперь я должен спасти её.
– А я здесь причем?
– Пойдем со мной, я тебе расскажу. Я знаю, ты настоящий проводник, ты поймёшь. Если поможешь, исполню твоё желание. Только настоящее желание. Такое желание, которое евреи пишут и засовывают в Стену Плача.
Вообще-то в тот момент у меня было такое желание. Мне тоже нужна была девушка, и тоже именно моя девушка. Даже то, что она меня не любит, не имело решающего значения. Без неё ничего в этом мире не обещало мне счастья тогда. Может, поэтому я и внимал джинну почти целый день после приезда в гурзуфский Спутник. Правда, все события того дня после завтрака в Тарелке я помню плохо. Мне показалось, что мы некоторое время просто шли вдоль набережной Гурзуфа.
Справа серебрилось на солнце море, а слева за железной решеткой в зелени деревьев скрывались какие-то ведомственные санатории. Потом, кажется, мы сидели на скамейке, потом опять шли. И всё это время я внимательно внимал. Мне слышались абсолютно понятные рубленые фразы, монотонно вбивавшие в меня историю короткой человеческой и продолжающейся далее уже нечеловеческой жизни. Если верить тому, что он говорил (а мне тогда показалось, что он все-таки произносил слова), история Бека должна была врезаться в любую человеческую память навсегда. По крайней мере в мою она вошла как нож в масло.
Он родился в горном районе Туркменистана в семье бая-землевладельца в те поздние советские времена, когда права частной собственности на землю в Средней Азии уже не было, но работающими на земле местными крестьянами это право, передававшееся еще с дореволюционных пор, соблюдалось беспрекословно. Не везде, конечно, а лишь в богом забытых горных кишлаках. Некоторые семьи баев владели многими гектарами земель еще до революции, а после неё, правильно сориентировавшись, баи вдруг становились председателями райкомов коммунистической партии или властных райисполкомов и уже сами выдавали земельные участки под сельхозработы и застройку. И негласно получали за эту по-советски оформленную "аренду" свои барыши.
Отец Бека прочил сыну такую же карьеру потомственного латифундиста, подобрал ему будущую жену из соседских зажиточных скромниц и начал устраивать в Ашхабадский университет на агрономический факультет, но сын ничего не хотел знать, кроме оружия (уже в десять лет разбирал и собирал автомат Калашникова на время, метал любые ножи и топоры точно в цель на расстояние до двадцати метров, разбирался в боевых характеристиках всех танков, боевых кораблей, самолетов и вертолетов) и приемах различных национальных боевых искусств. В один "прекрасный" день молодой вояка поссорился с отцом и уехал поступать в Ташкентское высшее общевойсковое командное училище. И поступил.
Об училище у джинна осталось приятное воспоминание. Он много занимался физической подготовкой, стратегией и тактикой исторических сражений, дневниковыми мониторингами военных кампаний, изучал жизнь и характер великих полководцев. Без всякого раздражения и особых телесных мук терпел любые физические испытания и лишения. В общем, насколько я понял, стал хорошим офицером. Но только не в политическом отношении, любую идеологию он терпеть не мог. Я еще подумал, – ну, точно, как мой одноклассник Мишка Каимов, классный парень, но абсолютный ноль в политике. Тем более, что Мишка тоже когда-то учился в ТВОКУ. Недаром он потом бросил армию и уехал в Америку.
Но Бек, став молодым офицером, не успел применить свои энергию и знания в мирное время. Его сразу бросили в бой, потому что началась Афганская война. В январе советскими войсками была перейдена речка Пяндж (почти Рубикон) и началось подавление мятежей по просьбе афганского правительства сначала в Баглане, потом в Кунаре, а потом и во всем Афганистане.
– Если бы не война, я бы еще долго не знал своего предназначения. И еще долго не ощущал всех своих сил. И тут я его единственный раз перебил.
– Каких сил?
Странная гримаса перекосила его лицо.
– Лучше бы их не было, хотел бы я снова ощущать себя как раньше. Сейчас слушай дальше. Ты должен знать, чтобы почувствовать. Потому что чувствуешь ты больше, чем можешь понять. Проводники видят и чувствуют всё, только не всегда замечают это.
Подразделение Бека было отправлено в уезд Нахрин, где он начал воевать и понимать, что всё можно было бы решить мирно. Но изголодавшиеся по боевым почестям старшие офицеры, обнаружив цель и почуяв кровь, закусили удила. Тем более что солдаты для многих из них были бессловесными неодушевленными пешками в большой политической и карьерной игре. Что тогда стоила жизнь желторотого пацана, не по своей воле нацепившего гимнастерку? Или жизнь недоразвитого и упрямого ишака-афганца, не желающего принимать политику коммунистической партии Советского Союза? Пушечное мясо на то и пушечное мясо, чтобы влиять на решения политиков у власти сначала кошмарными картинками своей смерти, потом будоражащей кровь информацией о массовой гибели, и наконец – жуткой статистикой числа этих смертей. Поистине – политические паны ссорятся, а у простых хлопцев из деревень и кишлаков чубы летят.
Но для Бека, тогда еще человека, действительность была совсем другой, совсем не игровой. Рядом с ним были живые люди, желающие жить, но подчиненные воинскому Уставу, приказам, капризам начальства и потому наглядно смертные. А по другую сторону выстрелов тоже находились живые люди, тогда еще не духи, не душманы, не смертные враги, готовые убить тебя просто за то, что ты пришел к ним, незваный. Это потом они превратятся в олицетворение Врага.
Молодой офицер выполнял приказы и начал, усмиряя, стрелять. Сначала в посмевших возмутиться положением дел в стране афганских артиллеристов, чей полк взбунтовался еще в декабре 1979-го, потом – во взявшихся за оружие простых крестьян, которым не нравилось, что ими всё более и более беспардонно командуют иноверцы. Но в нём самом быстро рос червь сомнения. И чем больше он отдавал приказы и стрелял, тем больше сомневался в своей миссии. И всё больше понимал, что это не его война. Постепенно он начал уходить в себя, перестал общаться с однополчанами и стал слышать и видеть мертвых.
Каждую ночь теперь он стал ждать с тревогой, потому что к нему начал приходить джинн-наставник, инфернальная сущность, физическая оболочка (аватар) которой перестала существовать, когда Махсуд-шаха, полковника правительственных войск Афганистана (физического носителя) расстреляли у артиллерийских казарм как зачинщика войскового мятежа. Полковника даже успели похоронить, после чего однажды ночью джинн-призрак вдруг явился, назвался Махсудом и сообщил Беку о его будущем предназначении и о том, что земной путь его почти пройден и настала пора переходить в иное воплощение.
Вполне понятно, что полностью ощущавший свою земную телесность Бек не мог сразу поверить в такую сверхъестественную ересь. Лейтенант, пожалуй, не мог назвать себя правоверным мусульманином, соблюдающим все каноны Корана (при этом некоторые суры мог читать наизусть), но даже при самом приблизительном отождествлении себя с исламом он не мог принять того, о чем ему поведал джинн-наставник. Он не мог почувствовать себя порождением низшего мира и как мог сопротивлялся навязчивым видениям, гнал от себя мертвого Махсуда. Но в медсанчасть не докладывал, вполне понимая, что у врачей в этом случае приговор будет коротким – сейчас же для молодого советского лейтенанта разверзнется совсем другая дорога – в психушку. А Бек не мыслил себе жизни без армии.











